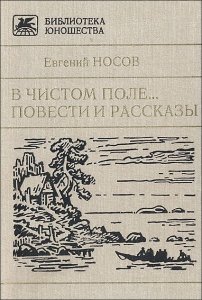
Заплутались мы было в мрачноватом Жерновецком лесу: сунемся по одной дороге — завал, ветролом навалял старых, трухлявых осин; свернем на другую — уводит в низкий, сырой распадок, заросший мелкой кабаньей чащобой. В какой уже раз хватались за лопату, крошили сухостой, гатили провальные колеи, залитые черной сметаной, и так угваздались колесными выбросами, что и сами стали походить на лешаков. От долгой и бестолковой возни с машиной мы почти не разговаривали, из колеи несло удушливой сернистой вонью, источаемой, казалось, самой преисподней, а тут еще лес давил на нервы своей равнодушной, глухой, колодезной замкнутостью пространства, в котором резкий, разносимый эхом сорочий вскрик еще больше порождал щемящее чувство непролазного одиночества.
Родившись на открытых холмах, я с детства ощущал себя в лесу лишь гостем, робким и присмиревшим, озираясь, невольно ожидал какой-то таившейся внезапности, а шлепки переспелых желудей, падающих с дубов на сухую подстилку, чудились мне вкрадчивыми шагами. Это потом закрепилось на всю жизнь, и я не смог бы поселиться в лесу добровольно, как живут, скажем, костромские молчаливые лесовики, довольствуясь всего только клочком неба над избушкой.
Мне же подавай небеса от края и до края, всю их устоявшуюся погожую синь или всю уймищу облаков, которые вдруг объявятся у горизонта и потом, гонимые дохнувшей прохладой, много дней подряд бредут и бредут разрозненно и вольно, будто нескончаемые небесные овны. Или же апокалипсическое боренье туч-великанов, косматых, встрепанных, волочащих по земле изодранные рубища, в порыве титанических страстей подминающих одна другую с утробным и натужным ворчаньем и вдруг потрясающих вселенную громовым многообвальным хохотом, от которого и на тебя, застигнутого ливнем ничтожно малого существа среди необъятности земли и неба, нисходит возвышающая душу причастность к буйству стихий. И ты счастлив, что испытал и пережил такое. Может, потому и не терплю я плотных заборов, теснящей дачной огороженности, за которой всегда мнится чье-то незримое око, и убежден, что никакая душевная песня не сможет зародиться в лесу, в загороди, а только там, где «степь да степь кругом» и «далеко, далеко степь за Волгу ушла…».
И когда наконец выбрались из лесу и, заглушив издерганный и перегретый мотор, взбежали на ближайшую горушку и повалились на залитую солнцем упругую траву, мы распростали свои тела с таким блаженством, какое испытал, наверное, толстовский Жилин, вырвавшийся на свободу. После сырого сумеречного леса здесь, на высоком полевом угоре, было необыкновенно светло и просторно, над нами бездонно и умиротворенно млело вечереющее небо, а в придворных клеверах и кашках разморенно и упоенно стрекотали кузнечики и каждая былка, каждый полынок и богородничек, обласканные теплом и светом, щедро источали свои сокровенные запахи, которые подхватывал и разносил окрест сухой, прогретый ветер.
Мы не знали, где находимся, в какое место выехали, но из всего того, что нас окружало — из простора, горьковатого веяния трав и сияния солнца,— возникло успокаивающее чувство дома и родины, и мы беспечно задремали.
Поначалу показалось, будто это причудилось мне во сне, но когда я открыл глаза и снова увидел живое небо, стало отчетливо слыхать детский голосок, звеневший бесхитростно и ломко:
Я приподнялся над травами: неподалеку, в сизом от ягод терновнике, бродили коровы, трещали ветками, прочесывая бока о колючий кустарник, а чуть поодаль, верхом на крепком чернявом коньке, в самодельном тряпичном седле восседал годов десяти пастушонок. На нем была синяя школьная олимпийка и мягкая буденовка с большой красной звездой. Не замечая нашего присутствия, вдохновляемый простором и вольным безлюдьем, он-то и распевал во всю мальчишескую мочь, никого не стесняясь:
Я встал и пошел расспросить про дорогу. Завидев меня, заляпанного лесной грязью, пастушок оборвал песню, диковато набычился. И только вблизи я разглядел, что из-под буденовки торчали девчачьи соломистые косицы, оплетенные голубыми лентами.
— Не бойся,— сказал я как можно дружелюбней.— Это я в лесу так выпачкался. Машину толкал… А я думал, ты — мальчишка… Тебя как зовут-то?
Пастушонка хотела было отвечать, но, поизучав меня с высоты седла серыми безбровыми глазами, не удержала-таки строгости и вдруг широко, конопато воссияла:
— Дёжка я.
— Как это?
— Ну, Надежда. А если по-простому, то Дёжка.
— А-а, теперь ясно. Значит, чья-то надежда. Мамкина небось?
— Ага,— просто согласилась пастушонка.
— И папкина?
— А папки нету.
— Ах, так…— смутился я.
Молодой конь нетерпеливо переступал передними ногами, повитыми бугристыми жгутами мышц, отмахивая мух, гулко бил по животу задним копытом, с волосяным посвистом сек себя хвостом, нервно подергивал холкой, и темная шелковистая шкура на нем антрацитно лоснилась, играла на солнце живыми слепящими бликами. От коня крепко, хорошо и почти забыто пахло здоровой силой (как давно не был я вот так рядом с лошадью, какой неожиданный пласт воспоминаний всколыхнула ее близость!..), и, счастливо хмелея от этого конского духа, я дружески взял конька, беспрестанно мотавшего мордой, под самодельные веревочные уздцы. Конь не потерпел моей руки и норовисто дернул и вырвал уздечку, едва не свалив меня с ног. Дёжка, однако, чувствовала себя на его неспокойной, ходившей ходуном бочкоподобной спине вполне уютно и непринужденно, будто прилипшая к телу муха.
— Значит, пастушничаешь?
— Ага.
— По очереди?
— А я и вчера пасла, и позавчера… Кажин день.
— Что так?
— Люди за себя просят. Кто заболел, кому просто день нужен. Вечером постучатся: Дёжка, попаси за меня завтра. Да и мамка говорит: уважь, доча. Чего зря дома сидеть? А у меня каникулы. Ну я и согласна. Не за так, конечно.
— За что же?
— А-а, не знаю… Мамка сама договаривается. Говорит, теплые сапожки к зиме в школу надо и платок. А я лучше б проигрыватель…
— А не боязно тебе здесь?
— Не-к!
— Ну, одна все-таки…
— Я не одна, я — с конем…
— Да, хороший у тебя конек.— Я протянул было ладошку, чтобы потрепать по гривастой шее, но конь так недобро, неприязненно покосился закровенелым глазом, что я невольно убрал руку.— Как зовут-то?
— Никак… Просто конь, и все.
— Ну, как это — просто конь? У каждой лошади должно быть имя. Ведь оно в колхозной инвентарной книге значится.
— А он в колхозе не живет.
— То есть как это — не живет? А где же?
— А нигде…
— Как же так—нигде?
— Так вот… Где ночь застанет, там и ночует. Это мамка его заловила и на двор к нам привела. Хлебца, хлебца ему — он и зашел. Потому как мне пасти надо. Без коня пасти уморно, не сдюжаешь. Поначалу мамка на него мешок с картошкой клала, чтоб привык. Сперва маленько насыпала, а потом побольше, потяжелей. А там и я залазить научилась. А больше никого не подпускает. Я мамке говорю, давай насовсем себе оставим. Нет, не хочет, говорит, не выдумывай. Вот до школы попасешь, а там и отпустим.
— И как же зимой, где он будет?
— А нигде… В поле…
— Один?
Дёжка неопределенно передернула плечами и посмотрела поверх меня, куда-то далеко.
— Ну, а пасти коров не скучно ли?
— Не-к… Мне нравится. Кругом — воля. Далеко видать. Самолеты летают, ленты по небу делают. Облака разные: только что было такое, а отвернулся – оно уже по-другому. А вчера цапли летали. Четыре штуки. Высоко-высоко. И все — кругами… А ещё хорошо песни петь. Въедешь на горку, глядишь-глядишь вокруг — красота! Так бы и полетела… Ну, полететь не полетишь, а покричать охота. Песни сами находят.
— И какие же?
— А всякие.
— Ну, а все-таки?
— «По Дону гуляет…» — слыхали такую?
— Казак молодой?
— Вот-вот! — обрадованно закивала Дёжка.— Эту. А еще — «Выхожу один я на дорогу», знаете?
— А как же!
— «Белеет парус одинокий»?
— Тоже знаю.
— «Пуховый платок»?—теперь уже Дёжка экзаменовала меня.
— Знаю.
— А про калину?
— «Что стоишь качаясь»?
— Не-е! — торжествующе засмеялась она.— То про рябину. А про калину так…— И она, придав лицу строгую отрешенность, напомнила голосом:
— Да, это совсем другая,— рассмеялся я.— И откуда ты все это берешь?
— От бабушки. «Позарастали стежки-дорожки», «Зачем тебя я, милый мой, узнала» — это я от бабушки. Она у нас не ходила, все лежала. И голосу почти не стало. Едва слышно. А все равно пела мне. Возьмет за руку и тихо так напевает… Полежит-полежит, отдохнет и еще споет. Это, говорит, чтобы ты меня помнила… А и верно, я все ее песни помню, ни одной не забыла…
— Теперь уже не забудешь никогда.
Дёжка внимательно посмотрела на меня, осмысливая мои слова.
— Вот… А «Калину красную» — эту я уже без бабушки, по телевизору. А еще Аллу Пугачеву знаю.
— «Все могут короли»?
— Ага! — кивнула Дёжка.
— Нет, бабушкины песни лучше.
— А то еще про маэстро,— и пояснила скороговоркой: «Я в восьмом ряду, в восьмом ряду…»
— Покажи-ка нам все-таки, — перебил я Дёжку,— как на большую дорогу выбраться. Не пойму, куда мы заехали.
— А тут недалеко. Сейчас покажу,— готовно согласилась она.— Вы только за мной поезжайте.
Я крикнул своим, чтобы сошли к машине. Насунув покрепче буденовку, взмахивая оттопыренными локтями в лад гулкому на сухой убитой дороге копытному скоку, Дёжка пустила конька впереди нас.
На маковке холма конь нетерпеливо затанцевал и зафыркал от нахлопов рядом работающего мотора, а она, натягивая поводья и обводя взглядом открывшиеся окрестности, принялась пояснять:
— Во-он, видите, от леса лог пошел?
— Так, так…
— Там наша речка Виногробль начинается.
— Ага, ага…
— Ее нигде не переедете до самой плотины.
— Так, а как же на плотину попасть?
— А вы вон по той кукурузе ступайте. Все прямо и прямо. Там дорога ведет на плотину.
— Ну, спасибо тебе, Дёжка! — помахал я рукой в открытое автомобильное оконце.— Хорошее у тебя имя! Ты и впрямь мамина надежда.
Дёжка, раскачиваясь на вертлявом, никак не желающем стоять коньке, смущенно и счастливо заулыбалась.
— В нашем селе не я одна,— прокричала она.— Многих девочек так называют. И маму мою Надеждой зовут.
— Вот как!
— Это, сказывают, еще от Надежды Васильевны пошло. По ее имю.
— Кто такая? Какая-нибудь колхозная знаменитость?
Дёжка ответила что-то, но нетерпеливый конь заплясал, застучал копытами и вдруг понес ее прочь от машины.
Я еще раз помахал ей рукой.
За кукурузой, по ту сторону холма, вдруг открылось большое, широко раскинувшееся село с целой системой прудов по логам и развилкам, позолоченно блестевших при закатном солнце. И по этим давно мне знакомым прудам я догадался, что перед нами знаменитое Винниково.
— Братцы!— крикнул я.— Это же Винниково! Да, это отсюда почти век назад вывезли на неуклюжей крестьянской колымаге четырнадцатилетнюю девочку, обладавшую удивительным голосом, дабы по бедности определить ее за монастырские харчи в хорошее пение. Оттуда она вскоре бежала в большой песенный мир, к Собинову и Шаляпину, чтобы стать Надеждой Плевицкой.
И уже на большой асфальтированной дороге, перебирая впечатления минувшего дня, вспомнил, что и знаменитую певицу в босоногом винниковском детстве тоже кликали Дёжкой…
Нет, все же есть, есть что-то песнотворное в этих открытых небу и ветру холмах!