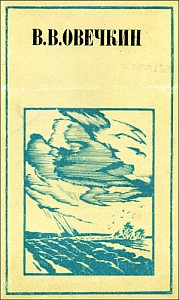
Смертное поле, вспаханное снарядами, забороненное пулями. Бурьяны. Пустота. Даже зверь ушел из этих бурьянов. Гуси пролетают над степью, и те летят высоко-высоко, распуганные зенитками и железными черными орлами.
В двухлетнем бурьяне — развалины домов, руины, каменные и саманные стены без крыш. Остатки сожженного немцами еще осенью 1941 года села.
Как мы шли к нему ночью!..
Ночь весенняя, но холодная, резкий ветер. Обрадовались — село, обогреемся! Но подошли ближе — одна хата сожженная, другая — развалины, третья — без крыши, дымоход с трубою торчит над развалинами, все село прошли, хат двести — все пусто, мертво.
Кто-то сказал:
— Мертвое село.
Да, мертвое село. Есть Мертвое море, есть Мертвые пустыни, это — мертвое село.
Я бы никогда не стал восстанавливать это село. Так бы и оставил эти руины на тысячу лет. Водил бы сюда людей и показывал — здесь в 1941 году побывали немцы…
Есть люди, честные лишь потому, что существует закон, карающий за нечестность. Этот же честен по природе своей.
Первые — материал для фашизма.
Большевики — практические, очень земные люди. Их мужественное, «практическое» братство людей. Никто из большевиков никогда не употреблял выражения — возлюби ближнего, как самого себя.
Как кажется близко это «братство» большевиков к евангельской «любви к ближнему», и как далеко.
Мы не верим в эти нелепости, в эту бескорыстную любовь, но верим, что не совсем чистыми руками нынешних людей будет построена чистая жизнь.
…Заводы построим, запущенные, заросшие земли вновь распашем, опять вырастут густые хлеба вместо колючих бурьянов, — людей погибших не вернешь.
Ненавижу такое оружие, что дает осечку. Осечку дало — прикладом бей, прикладом не берет — зубами грызи.
Иду по обочине степного грейдера. Вперед и назад на километры — ни души. Выпуклость грейдера блестит на солнце, как ручей. В кюветах — мягкая крупитчатая земляная осыпь, хрустящая под сапогами. Иду под шорох собственных шагов, вещмешок за плечами, шинель на руке, и ничего и никого вокруг. Словно — один в мире.
Хорошо думается на степных дорогах.
Хорошо идти так в день рождения.
В любом деле самое страшное — середина.
Директор:
— У меня государственная программа.
— А чтобы люди у тебя хорошо жили — это не государственная программа?
Штампованный человек.
Почему так обидно, так грустно, когда видишь испорченного ребенка? Потому что это только начатая жизнь. Думаешь, это значит, еще на 50—60 лет подлость, туда дальше, вперед.
У Горького, у Толстого, у Короленко, Успенского — народ умен, мудр, сердечен, то есть таков, каков он и есть на самом деле.
И еще одно плохое пришло с фронта: приказал — и все, и наплевать, что думает о тебе подчиненный.
Такое спокойствие, как у вас, необходимо только корове — доить удобно.
Литература и искусство понимают, знают человека больше, чем наука.
А интересно было бы, если бы появилась в нашей литературе военная повесть, написанная от лица солдата. И солдатом. Солдат о своих офицерах. И о своем рядовом месте.
Отставший боец. Заболел. Сел у обочины. В темноте не видели. Прошла рота — стал уже «не нашей роты», прошел батальон — стал уже «не нашего батальона».
Как форма довлеет, довлеет над содержанием, пока, наконец, совсем вытесняет его. Это бывает у каждого человека, если он не художник в работе, не новатор, не борец именно в своем деле.
Партийный работник должен быть художником? Да. Плотники, сапожники, и те должны быть художниками.
Страшная штука — застывшая форма.
Бывает, человек получает высокий пост не за то, что у него есть, а за то, чего у него нет, — за отсутствие резкости, принципиальности и тому подобных не всем приятных качеств.
— Работай, работай! Работа все убьет!
Люди обо мне думают всяко. Но верится, никто не подумает, что я — формалист. На самом деле я — страшный формалист! Если хочешь сказать что-то, так сумей сказать как следует!
А! С горем лучше жить, чем без горя. Там, где горе, там и радость. А где ни горя, ни радости, там почти ничего!
Храбрости у мужика всегда было достаточно (отчаянности), да инициативы не хватало. А как выберут ходоком, то — хоть в Сибирь на каторгу за мир! Есть оправдание перед самим собой: должен погибать, мир выбрал.
Есть характеры — не гнутся, а сразу ломаются. Человек не меняется, не приспосабливается к жизни, не подличает, идет и идет напрямик своей дорогой, и это стоит большой борьбы, большой затраты сил. И вдруг остановится, оглядится — шел, шел, а все то же вокруг, — и сразу ломится. И это уже конец, и духовный, и физический.
Столько было писателей, обманувших читателей, что народ наш сейчас очень жестоко, я бы сказал даже — злобно, забывает писателей, не оправдавших надежд.
— Что вы думаете — все прошло? Нет. И начальство, которое любит, чтобы его ели глазами, еще не съедено, и…
Выбивать у циников и маловеров их козырь, что все равно, мол, плетью обуха не перешибешь.
За рубль-целковый на все готовый!
Литературу движет тоска по хорошему человеку.
Мы живем в такое время, когда прошлое нам, к сожалению, еще понятнее и ближе, чем будущее.
Говорил, говорю и буду говорить! Когда врываются в литературу бизнесмены — это я ненавижу всей страстью души, и буду ненавидеть, и буду бороться что есть силы…
Если умный человек не будет к тому же хитрым, то он может оказаться в дураках. Хитрость для умного человека то же, что ловкость для борца (кроме силы). Все сатирики были хитрыми. А сатира вообще хитрый жанр.
Кто-то о ком-то говорит:
— Он не наш человек.
Тот сначала было возмутился, а потом дошло:
— Да, конечно, не ваш.
Значит, не опасаясь «левацких» загибов, можем пока во всю силу призвать молодых писателей — больше пишите о деревне!
Что пишете? Пишите такое, чтоб помогало делу. Не без лирики, не без всяких красот, не без лунных ночей, но все-таки такое, чтобы помогало делу.
У Ленина, помнится, где-то есть мысль: самое верное средство загубить хорошее дело — раздуть его до абсурда.
Старик:
— У меня не так много времени осталось жить, поэтому я не могу уже выносить ни одной глупости. Некогда.
Прокукарекал, а там хоть и не рассветай.
Интересная логика: нельзя писать про дроздовых, потому что не все у нас такие, как Дроздов, это, мол, не типично. Так что же, подождать, пока все станут такими? Пока это все станет бесспорно типичным — тогда начнем с ним бороться?..
«Метод администрирования» вместо метода правильного руководства. Вот это и есть то, с чем весьма упорно борются сейчас писатели.
Но, конечно же, ретивые и неумные администраторы, защищаясь, будут отражать направленные на них удары именно тем, что, мол, вы восстаете против руководства вообще. Это их самый сильный демагогический прием.
С каждой новой своей вещью я чувствую себя начинающим писателем. Господи! Не покинуло бы меня это чувство до смерти.
Счастье… Одной минуты для счастья хватит. Если бы его было много, оно было бы слишком дешево.
Торжественно-глупые стихи.
Как хамы и вельможи хитро сворачивают вопрос о чуткости к человеку: это к ним-то надо быть помягче и чутче! Это их-то надо миловать!
…Мучается тем, что обязан всякую минуту что-то изрекать. Ни на минуту не может забыть, что он не простой смертный.
Были разговоры о народе как о винтиках.
Нет, надо говорить о народе как о хозяевах!
Когда нападают на критику, с целью ее изгнать совсем, приводят как пример какого-нибудь кляузника-шизофреника, строчащего в день по десять писем в разные адреса.
Зачем это называть критикой?
Английская пословица: «Когда дело дойдет до самого худшего, оно начинает поворачивать к лучшему».
Академик А. Н. Крылов (математик и механик): «Долголетней практикой я убедился, что если какая-либо нелепость стала рутиной, то чем эта нелепость абсурднее, тем труднее ее уничтожить».
Я чувствую огромную вину перед читателями. Написано — сделано. (Вот так верят у нас в печатное слово! Нет — не сделано!)
Расслабил активность людей…
Чем короче ум у правителя, тем длиннее ему требуется палка.
Девиз (изречение) Вольтера:
— Я могу не соглашаться с тем, что вы говорите, но буду бороться насмерть за ваше право говорить это.
К этим словам Вольтера можно добавить:
— И сам же буду яростно спорить с вами, опровергать вас! Если не согласен с вами — не имею права молчать.
Тот, кто демагогически приравнивает выступления против недостойных людей в партийных органах и против порядков, при которых возможно их проникновение в партийные органы, к выступлениям против партийного руководства, совершает такое же преступление перед социализмом, как и тот, кто выступает против партии вообще.
А почему — такое же преступление? Потому что он загоняет людей, желающих сделать здоровые критические предложения, в тупик. Он лишает их слова.
А нет большей муки, как иметь что сказать, иметь что предложить — и молчать.
Из письма читателя:
«Читаешь «Р. Б.» и удивляешься: как же раньше у отдельных писателей хватало мужества писать произведения на эту же тему, стоя спиной к поднятым Вами вопросам?..»
Щедрин говорил, что если хоть на минуту замолкнет литература, то это будет равносильно смерти народа.
Из письма читателя:
«Много у нас людей, любящих правду так, как можно любить сладкий чай или пирог. Они живут и в жизни своей любят ее потреблять. Дай им кусок правды, они съедят, оближутся и скажут: «Хороша правда, дайте еще кусочек». А нам нужны люди, умеющие делать правду. Правдоискательство, как и потребление правды, для нашего времени не годится».
(Как мне жали руку, отводя подальше в темный угол.)
После каждого боя ряды и врагов и друзей редеют. «Подхалимство вверх и самодурство вниз».
Идея колхозов не могла не понравиться народу, потому что это самая человечная идея устройства жизни в деревне.
А люди хотели человечного устройства их жизни.
Был я на одном званом обеде. Ну что ж, хлеб-соль ешь, а правду режь.
— Приезжайте к нам, у нас в отстающих колхозах много юмора.
Этот мрачный юмор мне надоел.
— А в передовых колхозах у вас нет юмора?
Когда у меня руки опускаются, я поднимаю левой рукой правую руку и заставляю ее писать.
Нет, не могу я помереть, пока не скажу этого, самого главного…
Отрицать — это и дурак сумеет. Главное — знать, чего ты хочешь.
Я бюрократ, каких свет не видел, самодур, деспот, Угрюм-Бурчеев, но — не смей меня критиковать! Ты же даешь этим пищу нашим врагам!
Самое страшное в человеке — двурушничество. С того дня, как его заставили первый раз, затаив в душе одно, сказать совсем другое, с этого дня начинается падение этого человека. Если вовремя не смоет с себя эту гадость…
С двурушничества начинается все: подлость, склонность к вероломству, предательству. Это — гибель человеческой души.
Это страшная ошибка, когда начальнику больше нравится покорный двурушник, нежели строптивый вольнодумец. Гнилое, деланное единодушие…
Устранить все поводы для культивирования двурушничества!
Дурак не энергичный — это еще полбеды. Но дурак энергичный…
Мы решил и… Привыкли к этому так, как будто мы уже сделали.
Относитесь с уважением к человеку. К любому человеку. Перед тобой — жизнь человека, человеческая судьба. Ведь социализм ради чего — ради человека!
Я всегда, с детства еще, тянулся душою к хорошим людям.
И не просто ждал, что они мне попадутся. Я искал их!..
Могут обвинить меня в том, что я идеализирую человека.
Да. Но почему, для чего? Надо же, чтобы люди были хорошими!
Есть люди, у которых с их жизнью для них кончается все. Трусливо, жалко умирают.
Легче умирать тому, кто жил ради какого-то большого общего дела, которое и после его смерти продолжится.
Талант писателя — от бога. Талант быть человеком — от него самого. Это — важнее.
Чтобы твердо поверить, надо начать с сомнения.
Тип. Упрямый человек. Его двадцать раз перебивают, а он опять с того же слова, на котором его перебили, с многоточия, продолжает свое. Очень характерная речь.
Это полбеды, когда заранее пишут доклад. Вот то беда, когда сразу пишут и заключительное слово.
Надо быть колючим — ерша щука не берет!
— Покопался, как скорпион, в бумагах.
Пиджак нараспашку — это еще не значит душа нараспашку.
Люди малоодаренные очень заинтересованы в общем снижении уровня литературы, чтобы на таком фоне и самим сиять звездами хоть какой-нибудь величины.
Люди, которым угрожают, живут долго.
Горьким лечат, а сладким калечат.
Дерево хотело бы перестать качаться, да ветер не утихает.
Хорошо состязаться в остроумии тому, кто сидит в президиуме, бросает реплики и имеет право на заключительное слово.
В утильсырье меня? Нет, в металлолом.
Как можно писать о хорошем вне борьбы? Борьбы нет только на кладбище.
Романтика гражданской войны. Все было впереди. Незнакомое. Верили. Но никто его не видел.
Сейчас увидели. Уже знакомое. Неведомых далей как будто нет. Многое не нравится.
Ну что ж, надо делать лучше, надо вносить поправки, делать настоящее.
Паустовский — из «Романтиков»: «Когда я думаю плохо о людях, я не могу писать», «Часто я спрашиваю себя — достаточно ли я страдал, чтобы быть писателем?»
Принуждение убивает желание (корейское).
Замечания Л. Толстого художнику Рериху по поводу его картины «Гонец»: «Случалось ли в лодке переезжать быстроходную реку? Надо всегда править выше того места, куда вам нужно, иначе снесет. Так и в области нравственных требований надо рулить всегда выше — жизнь снесет. Пусть ваш гонец очень высоко руль держит, тогда доплывет».
Страшное словечко наше проникло в другие страны: блат. Позорное слово.
«Хороший батрак всегда найдет себе хорошего хозяина». Рабья философия.
Национализм живет рядом с полным отсутствием патриотизма.
Настоящий коммунистический интернационализм всегда сочетается с горячим патриотизмом.
Гнет сплачивает людей, деньги разделяют.
Либерализм по отношению к тем «коммунистам», целью жизни которых стала копейка, не менее опасная вещь, нежели самое шкурничество.
Холуй все же хлеба не сделает. Хлеб сделает смелый и честный человек. Холуй сделает сводку.
— За широкое развитие безвозмездной критики!
— Почему — безвозмездной?
— Чтоб не было за нее возмездия.
Душа поет. Это бывает не только от радости. Когда полна душа.
Даже — тоской.
Хуже, когда пусто в душе.
Какое счастье, когда проснулся не от боли, а просто так!..
Начальник и окружающие. Отбивная и гарнир. Так и смотрит на меня, как на гарнир, не больше, а себя считает отбивной.
Что мне мешает взяться за автобиографический роман? Недостаток эгоцентризма.
Теперь я понимаю, почему люди уходили в пустынники. От суматохи. От знаменитости. Негде побыть одному. Или — жена злая.
Совсем не для того, чтоб грехи отмолить. А просто — побыть одному.
«Рыцари сводки».
Девиз лакировщиков: «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман».
«Бытие определяет сознание». Эти слова мне всегда казались грубо материалистичными. Их легко вульгаризировать. Всегда мне казалось, что в этой формуле чуточку не хватает хорошего идеализма. Не так ведь грубо обстоит дело со связью брюха и ума. Не личное, а общественное бытие определило сознание Ленина, Маркса.
А. Эйнштейн:
«Когда я смотрю на тех, кто утверждает превосходство одной расы над другой, мне кажется, что кора головного мозга не участвует в жизни этих людей, с них вполне достаточно спинного мозга».
(В письме к математику Георгу Пику).
Смерти не бояться — это дурацкое дело. Ты не бойся жизни!
Мы — низы. Низы в смысле — низко пали.
Плотник, который отчаивается до слез, что его лишили радости труда, — заставили строить из сырого леса, и постройки скоро придут в негодность, и ему самому будет противно смотреть.
В руках этого лакировщика даже объектив фотоаппарата терял свою объективность.
Тот мужик, который не умеет борщ сварить, картошку поджарить, кальсоны постирать, — не мужик, а баба.
На фронте кто был? Солдаты. Кто все делал? Они. Самые мужики из мужиков!!
— Товарищи! Не надо бояться быть смелыми!
Человек, в котором все время борется бывший комбат с аппаратчиком.
Сами себе создают трудности, а потом с ними борются.
У Чехова есть великолепный рефрен ко всему:
— Не знаю. Не знаю, что будет и как будет. Но очень хочется, чтобы было лучше.
Вот так мы, писатели, и должны работать — чтоб было лучше!..
Герцен?
Это — Степан Разин русской интеллигенции.
Сколько людей его ругало в его время и сколько будут еще ругать — за одиночество!
А вы, братцы, не ругайте, а переживите, испытайте это!
Попробуйте сегодня сильнее написать о западноевропейском мещанстве, как писал Герцен!
А ведь он был западником! Он не звал Россию к Ивану Грозному. Вот и разберитесь…
Я — не историк. Я не берусь шаг за шагом все написать, поставить на свое место. И — не монархист. Какому царю надо поклоняться, какому не надо — не знаю.
Но если бы Герцен был похоронен на нашей земле и если бы какой-то сукин сын за километр не снял шапку, — я бы его убил, невзирая на указ о мелком хулиганстве.
Можно и надо писать только так, как Лермонтовым написана «Смерть поэта», особенно последняя часть: «А вы, надменные потомки…» и т. д.
Только такая литература имеет право на существование! Только!
И это написано без «эзоповщины». За это ссылка. Ну и что ж. Из этого родился Лермонтов.
Идеал отношений человека к человеку, таланта к таланту, ученика к учителю — Лермонтов к Пушкину.
Без крупинки зависти. Огромное почтение и уважение.
Хотя — кто докажет? — кого следовало бы поставить на первое место?..
Пушкин — хрестоматийнее, более классичен. И поэтому, может быть, нам кажется, недоступен?..
Лермонтов — проще, свой, «не завизирован».
Пушкин — генерал, дослужившийся и до фельдмаршала. Ему воздано должное.
Лермонтов — засидевшийся в пограничном гарнизоне поручик, которому быть бы министром!
Стихия и агроном.
А на то и агроном. Хороший агроном даже хочет трудной погоды! Тогда разница виднее.
Хороший агроном никогда не оправдывается стихией.
Агроном не признает слова «повезло». И не удивишь его стихиями. Кто же не знает, что сельское хозяйство — это сплошные стихии.
И хороший агроном, даже в самый наилучший год, чувствует себя должником (виноватым).
Некоторые агрономы не горюют особенно о правах, потому что раз нет прав, то нет и ответственности.
Опаснее всего сейчас думать, что химизация и орошение сработают сами, за людей.
Разница между дураком и умным состоит еще в том, что дурак, попадая на какой-то высокий пост… ведет себя и действует так, как будто до него на подобных постах не было ни одного умника, а сплошь дураки, и поучиться решительно не у кого, кроме дураков. Умный же помнит своих умных предшественников и старается учиться у них. Помнит, кстати, и дураков. И у тех учится — как не надо.
— У вас удивительно хорошая совесть. Очень добрая! Она вас никогда не грызет, не мучит.
Ветер очень сильный и дует как-то неровно, бодается озорно, то притихнет на несколько секунд, то вдруг так поддаст в спину, что шагов десять пробежишь, а не бежать — упал бы.
Даже Булгарину случалось получать выговоры от царя (за статью «Об извозчиках»).
Гипноз установившихся во времени критических оценок произведений литературы и искусства Л. Толстой называл «моральными эпидемиями».
«Весьма опасно быть правым в тех вопросах, в которых неправы великие мира сего» (Вольтер).
«Когда людей начнут учить не тому, что они должны думать, а тому, как они должны думать, исчезнут всякие недоразумения» (Лихтенберг Георг Кристоф, немецкий ученый-физик и писатель-сатирик, 1742—1799).
Большой барабан приятно слушать издали.
Почему журналисты лишь организуют отклики на какие-либо события от лиц других профессий, но не бывает в печати откликов самих журналистов? Разве их профессия не является социально значимой, важной? Зачем такое самоуничижение?
Сейчас одна из проблем — создание Колхозсоюзов. Журналистам следовало бы помочь практикам сельского хозяйства высказаться по этому вопросу, и самим журналистам высказаться. Не завтра еще это будет решаться? Тем более сегодня надо уже начинать обсуждение. Надо сегодня уже опубликовать проект устава РКС и начинать обсуждение, а окончательное решение пусть хоть через год последует.
Между прочим, и это вот проблема, к тому же — весьма важная: почему литераторам слишком уж часто усиленно приходится заниматься такими проблемами, которыми положено заниматься (и решать их) в первую голову не литераторам, — экономистам, политикам, философам, государственным деятелям, министрам и пр.?
Эту проблему следует поднять.
Действенность печати.
Уважительное отношение к печати.
Новое в публицистике — не дилетантство. Глубокое изучение вопроса (Троепольский, Черниченко).
Бесполезно писать о том, что не под силу журналистике. Проблемы, которые все равно не поднять, напиши хоть миллионы фельетонов об «улыбке продавцов», о…, о…, о… и т. п., другими средствами надо решать.
Так нечего и бумагу тратить.
На что еще способны журналисты?
Литература для докладных записок — то, что «не лезет» в газеты. Ведь журналисты много видят, много знают (настоящие журналисты), им есть что рассказать. И к такой литературе должно быть большое внимание.
Публицистика лишь тогда имеет смысл, когда она действенна. А сделать ее действенной — недостаточно силы одной публицистики, журналистики.
А бездейственность публицистики — это хуже даже полного отсутствия публицистики…