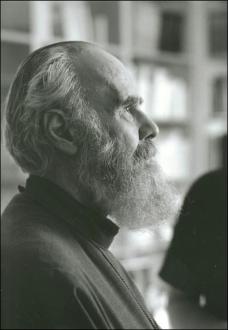
Жизнь и молитва совершенно нераздельны. Жизнь без молитвы – это жизнь, в которой отсутствует важнейшее ее измерение; это жизнь “в плоскости”, без глубины, жизнь в двух измерениях пространства и времени; это жизнь, довольствующаяся видимым, довольствующаяся нашим ближним, но ближним как явлением в физическом плане, ближним, в котором мы не обнаруживаем всей безмерности и вечности его судьбы. Значение молитвы состоит в том, чтобы раскрывать и утверждать самой жизнью тот факт, что все имеет меру вечности и все имеет измерение безмерности. Мир, в котором мы живем, – не безбожный мир: его профанируем мы сами, но в существе своем он вышел из рук Божиих, он любим Богом. Цена его в глазах Божиих – это жизнь и смерть Его Единородного Сына, и молитва свидетельствует, что мы знаем это, – знаем, что каждый человек и каждая вещь вокруг нас священны в очах Божиих: любимые Им, они становятся дороги и для нас. Не молиться – значит оставлять Бога за пределами всего существующего, и не только Его, но и все, что Он значит для созданного Им мира, того мира, в котором мы живем.
Нам часто кажется, что трудно согласовать жизнь и молитву. Это заблуждение, совершеннейшее заблуждение. Происходит оно от того, что у нас ложное представление и о жизни и о молитве. Мы воображаем, будто жизнь состоит в то, чтобы суетиться, а молитва – в том, чтобы куда-то уединиться и забыть все и о ближнем и о нашем человеческом положении. И это неверно. Это клевета на жизнь и клевета на самую молитву.
Чтобы научиться молитве, надо прежде всего сделаться солидарным со всей реальностью человека, всей реальностью его судьбы и судьбы всего мира: до конца принять ее на себя. В этом – сущность акта, совершенного Богом в Воплощении. В этом вся полнота того, что мы называем предстательством. Обычно мы воспринимаем молитвенное предстательство как вежливое напоминание Богу о том, что Он забыл сделать. В действительности же оно заключается в том, чтобы сделать шаг, ставящий нас в самый центр трагической ситуации, шаг, подобный шагу Христа, Который сделался человеком раз и навсегда. Мы должны сделать шаг, который поставит нас в центр ситуации, откуда никогда больше мы не сможем выйти; солидарность христианская, Христова направлена одновременно к двум противоположным полюсам: воплотившийся Христос, истинный человек и истинный Бог, до конца солидарен с человеком, когда человек в своем грехе обращается к Богу, и до конца солидарен с Богом, когда Он обращается к человеку. Эта двойная солидарность делает нас, в каком-то смысле, чуждыми обоим лагерям и, в то же время, едиными с обоими лагерями. В этом основа положения христианина.
Вы скажете: “Что же делать?” Так вот, молитва рождается из двух источников: либо это наше восторженное изумление перед Богом и делами Божиими: нашим ближним и окружающим нас миром, несмотря на его тени; либо это чувство трагичности – нашей и особенно чужой. Бердяев сказал: “Когда я голоден, это явление физическое; если голоден мой сосед, это явление нравственное”. И вот трагичность, которая предстает перед нами в каждое мгновение: мой сосед всегда голоден; это не всегда голод по хлебу, иногда это голод по человеческому жесту, ласковому взгляду. Здесь-то и начинается молитва – в этой отзывчивости на изумительное и на трагичное. Пока есть эта отзывчивость, все легко: в восторге нам легко молиться, и легко молиться, когда нас пронзает чувство трагизма.
Ну, а в другое время? Так вот, и в другое время молитва и жизнь должны быть одно. У меня нет времени говорить об этом много, но я хотел бы просто сказать вот что: встаньте утром, поставьте себя перед Богом и скажите: “Господи, благослови меня и благослови этот начинающийся день”, а потом относитесь ко всему этому дню как к дару Божию и смотрите на себя как на посланца Божия в этом неизвестном, что представляет собой начинающийся день. Это означает попросту нечто очень трудное, а именно: что бы ни случилось за этот день – ничто не чуждо воле Божией; все без исключения – обстоятельства, в которые Господь вас пожелал поставить, чтобы вы были Его присутствием, Его любовью, Его состраданием, Его творческим разумом, Его мужеством… И, кроме того, всякий раз, когда вы встречаетесь с той или иной ситуацией, вы – тот, кого Бог туда поставил, чтобы нести служение христианина, быть частицей Тела Христова и действием Божиим. Если вы будете так поступать, то легко увидите, что в каждое мгновение вам придется поворачиваться к Богу и говорить: “Господи, просвети мой ум, укрепи и направь мою волю, дай мне сердце пламенное, помоги мне!” В другие моменты вы сможете сказать: “Господи, спасибо!” И если вы разумны и умеете благодарить, вы избежите глупости, которая называется тщеславием или гордостью, состоящей в том, что мы воображаем, будто совершили что-то, чего могли бы и не делать. Это сделал Бог. Бог подарил нам замечательную возможность сделать это. И когда вечером вы снова станете перед Богом и быстро переберете в памяти прошедший день, вы сможете восхвалять Бога, славить Его, благодарить Его, плакать о других и плакать о себе. Если вы начнете таким образом соединять жизнь с вашей молитвой, между ними никогда не будет разрыва и жизнь станет горючим, питающим в каждое мгновение огонь, который будет разгораться все больше и становиться все ярче, и преобразит постепенно вас самих в ту горящую купину, о которой говорит Писание.
Молитва – одновременно искание Бога и встреча с Ним, которая перерастает в общение. То есть молитва является и деятельностью, и состоянием, а также определенным взаимоотношением с Богом и определенным отношением к тварному миру. Она рождается из осознания того, что мир, в котором мы живем, не просто двухмерный мир, жестко ограниченный временем и пространством, “плоский” мир, где мы встречаем то, что нас окружает, лишь как поверхность, однообразную толщу, под которой – пустота. Молитва рождается, когда мы открываем, что мир имеет глубину, что мы не просто окружены видимым, но погружены в невидимое и пронизаны им. И это невидимое – одновременно Присутствие Божие, высшая и предельная реальность, и глубинная сущность человека. Видимое и невидимое не противостоят друг другу, но и не просто накладываются; они присутствуют одновременно, взаимопроникаясь, как огонь и раскаленное железо. Они взаимодополняются в той тайне, которую английский писатель Чарльз Уильямс называет “со-присущностью”: присутствие вечности во времени, будущего в настоящем мгновении; но также непреходящее присутствие мгновения в вечности, в эсхатологическом совпадении прошедшего, настоящего и будущего, которые содержатся одно в другом, подобно тому, как дерево содержится в семени. Жить лишь видимым – это жить поверхностно, не замечая или отстраняя не только Бога, но и глубины тварного мира. Такая поверхностная жизнь обрекает нас и в видимом мире замечать лишь то внешнее, на чем останавливается наш взор. Если пытаться проникнуть дальше, то мы обнаруживаем отсутствие содержания; в конечном итоге, в сердцевине вещей мы достигаем точки равновесия, конечной, никуда не ведущей точки. За пределом этой сердцевины нет ничего; внутри геометрического объема нет глубины. Это последний предел. Мир внешних форм может расширяться, но не способен углубляться. Однако сердце человека глубоко (Пс. 63: 7). Когда мы достигаем той точки, откуда ключом бьет жизнь, мы обнаруживаем, что источник ее – еще глубже. В сердце человека есть глубина, которая открывается на невидимое, – не на невидимое глубинной психологии, а на бесконечность, на творческое Слово Божие, на Самого Бога. Войти в себя не означает погрузиться, подобно интроверту, в собственные глубины, а выйти за пределы своей ограниченности. Святой Иоанн Златоуст говорит: “Найди двери собственного сердца, и ты увидишь, что это дверь в Царство Небесное”. Это обнаружение своего глубинного “я” происходит одновременно с признанием того, что и другой человек, каждый, кто рядом с нами, также имеет свою неизмеримую глубину безмерности и вечности. Я сознательно употребляю слово “безмерность”: оно указывает, что глубину эту нельзя измерить – не потому что на это не хватит наших мерок, а потому что ее сущности чуждо самое понятие измеримости. Эта глубина соразмерна призванию человека стать причастником Божественной природы; обнаруживая собственную глубину, человек тем самым открывает Бога, Того, Кого можно было бы назвать “незримым Ближним”: Он – Дух, Христос, Отец. А в окружающем нас мире предметов и живых тварей мы обнаруживаем то, что, наряду с человеческими глубинами, принадлежит безмерности и вечности. На этой грани и устанавливается молитвенное отношение: признание, что мир имеет три измерения, – он расширяется в пространстве, течет во времени и обладает устойчивой, но вместе с тем бесконечно изменчивой глубиной.
Следовательно, молитва – отношение, которое устанавливается между человеком, между видимым и лежащим в его основе невидимым – целым глубинным миром, который включает все существующее, /перед лицом ситуации, где живет и действует человек/. Вот почему я сказал, что молитва – искание, исследование этой области невидимого и мира наших собственных глубин, который ведом одному только Богу, который только Он и может нам открыть. И через молитву, сначала на ощупь, в проблесках нового видения, мы ищем и открываем Бога и человека в их взаимосвязи. Позднее, когда в ярком сиянии света нам открывается то, что мы способны познать о невидимом и о преображенном видимом, которое стало светоносным, просияло собственной безмерностью и вечностью в Боге, молитва становится состоянием, хотя не перестает быть тем, о чем я говорил в начале. В мире поиска, частичной слепоты и частичного прозрения, наши первые шаги в молитве состоят из восторженного изумления, благоговейного трепета и чувства трагичности. Изумления, когда мы открываем себя самих, познаем Бога, изумления при виде того, как мир разворачивается перед нашим взором до пределов Божественной бесконечности. Благоговейный трепет, внезапное озарение, охватывающее нас радостью и ужасом, когда мы оказываемся в присутствии святости и красоты Божией. Но также и чувство трагичности – нашей личной и всеобщей: трагично быть слепым, трагична наша неспособность непреткновенно жить в полноту своего призвания, все время ощущать себя пленником своей ограниченности, ослепления. Трагично видеть мир сбившимся с пути, без-божным, колеблющимся между жизнью и смертью и неспособным выбрать раз и навсегда жизнь, раз и навсегда уйти от смерти. Восторженное изумление и чувство трагичности – вот два источника молитвы. Оба они рождаются из нашей встречи с глубинами мира, которые стали прозрачными, до конца проницаемыми. Без этой встречи мир предметов, мир стихийно бушующих сил, непонятный и часто уродливый мир, в котором мы живем, может породить в нас страх, недоумение, ужас.
Итак, в сердцевине того основного взаимоотношения, которое мы называем молитвой, – тема встречи. Эта тема – основоположная категория откровения; ведь само откровение есть та встреча с Богом, которая дает новое видение мира. Всё – встреча, как в Священном Писании, так и в жизни. Эта встреча одновременно личная и универсальная, единственная и показательная. Она всегда двойственна: встреча с Богом и, в Нем, со всем творением; встреча с человеком, с глубинами человека, укорененного в творческой воле Божией, устремленного к последнему завершению, когда Бог будет все во всем. Это встреча личная, потому что каждый должен пережить ее сам: ее невозможно познать извне или понаслышке. Она принадлежит нам лично; но вместе с тем имеет и всеобщее значение, потому что в ней мы перерастаем свое поверхностное и ограниченное “я”. Эта встреча единственная, потому что при глубоком подходе мы незаменимы и единственны как для Бога, так и для других; каждая тварь знает Бога по-своему, каждый из нас знает Бога так, как никто другой Его никогда не познает, кроме как через нас. И одновременно, поскольку каждый из нас принадлежит всечеловеческой природе, каждая встреча показательна: она есть откровение для всех того, что каждый знает лично.
К этой встрече мы должны отнестись внимательно, потому что, если не знать ее внутренних законов, мы ее упустим. Она всегда требует взаимности. Она всегда есть откровение не только другого, но и нас самих; она происходит в рамках взаимосвязи. Можно бы сказать, что лучший образ всякой встречи – витраж. Свет, льющийся через него, являет его линии, краски, сияние, красоту, смысл; но одновременно невидимый потусторонний свет нам явлен этим витражом, его линиями, красками, красотой, смыслом. То есть открытие того и другого происходит, становится возможным во взаимоотношении света и витража. Бог открывается в Своем невозмущаемом, бесстрастном, державном величии, но и в Муже скорбей, в воплощенном Слове, и это является также откровением величия человека. Если мы обнаруживаем глубины человека, то мы, значит, превзошли эмпирического человека и признали в нем назначение, призвание не индивидуальное, но личное; такое призвание, которое делает его не просто экземпляром человеческого рода, а членом таинственного тела, всецелым Человеком, который призван быть местом Присутствия Божия.
Тем не менее, когда человек пускается в этот поиск, в начале он одинок и должен сначала признать существование другого. Это признание должно произойти во взаимной связи, а не по отношению к себе самому; и это различие важно. Всё, что мы познаём, мы познаём во взаимоотношении; пока между нами нет связи, ничто и никто не существует для нас. Но в том, чтобы познавать вещи и людей только по отношению к себе, есть большая опасность. Такое познание смещает центр вселенной, сводит все к нам самим и тем самым искажает объекты познания, представляет их мелкими, мелочными, столь же незначительными, каковы мы сами, каковы наши желания, стремления. И значит, когда мы беремся за дело и готовы признать существование другого, мы должны быть готовы войти во взаимоотношение, которое неизбежно будет раздирающе мучительно, оно потребует от нас перерасти себя, отказаться от себя, умереть себе в результате того, что мы открыли другого со всеми его требованиями, его правом на существование, на независимость, на свободу вне нас. Мы должны признать неумолимую “инаковость” другого. Что бы мы ни делали, как бы глубоко мы его ни знали, как бы тесна ни была связывающая нас приобщенность (и это еще более верно во взаимоотношениях человека с Богом, чем с другим человеком), в сердцевине взаимоотношения всегда останется тайна, мы никогда в нее не проникнем. В Священном Писании, в книге Откровения есть замечательное место, где святой Иоанн Богослов нам говорит, что те, кто войдет в Царство Божие, получат от Творца белый камень; и на этом камне написано имя, которое знает только Бог и тот, кто получит этот камень. Это имя – не прозвище, под которым мы себя знаем, которое отличает нас в этом тварном мире времени и пространства; наше подлинное имя, вечное имя в совершенстве совпадает с нашей личностью, с нашим существом; оно их в совершенстве определяет и выражает. Его знает только Бог, и Он нам его открывает. Никто другой не может его знать, потому что оно выражает неповторимые отношения, связывающие нас с Творцом. Как часто человеческие отношения бывают разрушены желанием одного открыться за пределами возможного или стремлением другого проникнуть в эту священную область, которая принадлежит только Богу. Желание тщетное, попытка столь же обманчивая, как попытка ребенка найти начало источника, точку, где рождается вода, которой не было за миг до того. Обнаружить это нельзя, можно лишь разрушить эту точку.
Но недостаточно просто признать право другого на существование, принять его как неумолимо другого. Нужно уметь видеть, слышать и оценивать. Только при этих условиях встреча может пронести плоды.
Христос говорит о чистом оке, чистом зрении, которое необходимо для того, чтобы увидеть вещи, как они есть, не набрасывая на них потемнение нашего зрения или тени и неверные очертания, которые искаженный взор создает в нашем воображении. Но чистого ока недостаточно. Нужно еще найти правильную позицию. Нужно найти расстояние, откуда взгляд охватывает весь предмет и не ослеплен им. Ведь таково главное правило, которое мы должны соблюдать, если хотим увидеть произведение искусства. Картину, скульптуру нельзя рассматривать ни подойдя слишком близко, ни отступив слишком далеко. Существует некая наилучшая точка, которая позволяет нам видеть произведение таким, каким его замыслил художник, в его полноте, не утопая в деталях. То же самое касается человеческих отношений. Нужно найти расстояние, которое определяется не пространством и временем, а внутренней свободой, – такой свободой, которая нас тесно соединяет, но не связывает по рукам и ногам. Быть может, то, что я хочу сказать, лучше пояснить на примере, чем долгими рассуждениями. В замечательной книге английского писателя Чарльза Уильямса (All Hallow’s Eve) выведена молодая женщина по имени Лестер, которая погибла при авиационной катастрофе. Ее душа освободилась от тела и открывает новый мир, которого она никогда не замечала и в который только что попала: мир невидимого стал для нее единственной подлинной реальностью. А видимый мир ускользает от ее взора, от видения сердцем. В какой-то момент она оказывается на берегу Темзы. Она видела реку много раз, видела ее воду – грязную, жирную, отяжелевшую всеми отбросами Лондона, и эта вода вызывала в ней отвращение. Но теперь она освободилась от тела и больше не связывает все на свете лично с собой, и она видит воды Темзы как бы впервые. Она видит их как нечто, вполне отвечающее тому, чем они должны быть, чем должна быть река, проходящая через большой город. Да, эти воды густые, грязные, они несут к морю все отбросы города. Но такими они и должны быть, они соответствуют своей роли, они подлинны. И как только она их видит как факт, принимает их полностью, как только она не реагирует на них эмоционально и не может испытывать к ним физического отвращения, поскольку у нее нет тела, которым она могла бы в них погрузиться, нет губ, которыми могла бы этой воды напиться, она прозревает глубину этих вод. Через первый слой сгущенности она начинает различать слой за слоем более чистой воды. Чем глубже она видит, тем они становятся прозрачнее, до момента, когда где-то в сердцевине этой воды (которая казалась Лестер непроницаемой, пока она отбрасывала на нее собственную потемненность) она видит чистый ручей, видит первичную воду, какой ее сотворил Бог, и в самой ее сердцевине – сверкающую, чудесную струю – воду, которую Христос предложил самарянке. Освободившись от самой себя, Лестер стала способна видеть то, к чему она раньше была слепа. Сквозь менее плотные слои она обнаруживает все более блистательную, светоносную прозрачность.
Так бывает и с нами. Если бы мы умели видеть, освободившись от самих себя, в той внутренней свободе, которую Отцы Церкви называют apaqeia, “бесстрастие”, то есть отсутствие страстности, когда человеком не движет, не управляет ничто внешнее, и он в царственной свободе действует изнутри – мы тоже могли бы в окружающей нас плотности различать светоносные глубины людей и предметов. Мы также могли бы в этом мире, который нам кажется таким непроницаемым и густым, видеть отблеск Присутствия Божия, благодати Его, действующей везде и во всем.
Но недостаточно видеть; надо еще и слышать. Слышание – акт неослабного внимания. Чтобы услышать, надо не только напрячь слух, но за пределом услышанных слов стремиться уловить смысл, направленность того, что было произнесено или осталось невысказанным. Слышать означает смиренно склониться, стать способным принять то, что другой сеет на поле нашего ума, на поле нашего сердца. В этом подлинный смысл латинского слова humilitas, смирение: оно происходит от humus, “плодородная земля”. Эту землю мы не замечаем, потому что привыкли, что она всегда тут, под ногами. Это безмолвная, безропотная земля, которая умеет обогатиться всем, что мы выбрасываем в нее, которая способна все превратить в богатство, принять в себя любые семена и дать им плоть, дать им жизнь, позволить им взойти, стать в полноте самими собой, никогда не навязывая семенам своих законов. Наша способность слышать начинается со смирения. Мы должны предложить себя Другому, как эта земля, богатая, безмолвная и полная творческих возможностей.
Но смирение означает также и послушание. Латинское слово obaudire имеет два значения: “прислушиваться” и “повиноваться”. Прислушиваться с тем, чтобы услышать, понять и принести плод. Основные условия, чтобы нам предстать перед Богом – полное внимание, рождающееся из того, что мы во что бы то ни стало хотим услышать, и желание, решимость принять услышанное и принести плод, то есть преобразиться, измениться, из того, что мы есть, стать тем, чем мы призваны быть. Это основоположное состояние человека в молитве может быть проиллюстрировано на примере человека, который любит наблюдать птиц. Он встает ранним утром, так как должен успеть в поле, в лес до пробуждения птиц, чтобы его приход остался незамеченным. Он затаивается молча и без движения, он весь – слух, весь – внимание. Все его существо прозрачно и восприимчиво, готовое принять печать каждого звука, каждого движения. Он слушает, смотрит; но услышит и увидит он то, что происходит вокруг него, только при условии, что свободен от предвзятости, готов услышать все, что пошлет ему Бог. Его отношение одновременно пассивное и активное: пассивное в том смысле, что он, как земля, humus, до конца открыт; активное в том, что он напряженно готов отозваться на всякий вызов, любой призыв Божий. Разве не ясно, что в таком случае, если мы хотим, чтобы наша встреча с Богом стала возможной, если хотим видеть и слышать, недостаточно просто иметь уши и глаза? В нас должен быть порыв, желание, мы должны стремиться услышать и увидеть.
А для этого нужна любовь, хотя бы малая. На первой странице той книги, которую я уже цитировал, Чарльз Уильямс показывает нам душу своей погибшей героини на одном из лондонских мостов, где ее настигла смерть. Она стоит там уже некоторое время. Она ничего не замечает вокруг, кроме самой себя, той точки земли, где стоит, и самолета, который, разбившись, убил ее. Она ничего не видит, потому что сердцем ни с чем не связана. Мост она видит пустым, хотя на самом деле по нему беспрерывно снует толпа. Дома по обоим берегам Темзы для нее – хмурые стены с серыми глазницами; окна то освещаются, то гаснут, но ничего не значат для нее, в них нет ни смысла, ни содержания. У нее нет ключа к тому, что ее окружает, потому что она никогда ничего не любила и чужда этому обыденному миру. И вдруг по мосту проходит ее муж, теперь овдовевший. Они замечают друг друга. Он – потому что любит ее, хранит ее в сердце, оплакивает ее и ищет ее в незримом. Лестер видит его, потому что он – единственный, кого она когда-либо любила своей жалкой, эгоистичной любовью. Он – единственный, кого она способна увидеть. Она видит его. Он проходит. Но в этот миг ее сердце проснулось, и через мужа она осознает все, что с ней связано: мужа, их дом, всех, кто им обоим нравился. И постепенно через это таинство любви она начинает меняться и открывает для себя тот мир, в котором жила, не зная его, и одновременно тот огромный, глубокий мир, в котором живет теперь. Эти два мира взаимно проникают один другой, соприсущи друг другу: вот суть философской теории Ч. Уильямса. Потому что мы видим только то, что любим. Нам кажется, будто бы видим то, что нам ненавистно; на самом деле ненависть нам представляет искаженные образы, уродливые карикатуры. А безразличие, равнодушие – слепы.
Но чтобы достичь глубинного, истинного познания, чтобы видение реальности соответствовало своему предмету, недостаточно видеть, слышать или даже любить: надо еще иметь чистое сердце, способное различить Бога за слоями окружающей потемненности, которые Его скрывают. Потому что подобно тому, как око, потерявшее чистоту, ясность, отбрасывает на все, что видит, свое потемнение, так сердце, потерявшее цельность, не может ни оценивать, ни улавливать реальность вещей, как ее видит Бог. Это ясно показывает эпизод из жизни Отцов пустыни. Один из них с учениками подходит к воротам Александрии. По дороге навстречу приближается прекрасной внешности женщина. Ученики покрывают лица плащами/мантиями, чтобы не впасть в искушение. Они, возможно, избежали искушения плоти, но не любопытства: из-под плащей/мантий они наблюдают за своим наставником и с возмущенным изумлением видят, что он во все глаза рассматривает женщину. Когда она входит в город, они опускают плащи/мантии и спрашивают: “Как же ты поддался искушению смотреть на эту женщину?” И тот с печалью отвечает им: “Как же нечисто ваше сердце! Вы увидели в ней только предмет искушения, а я увидел в ней чудное творение Божие”.
Итак, каждая встреча, будь то с человеком, будь то с Богом, требует не просто специфических условий. Когда мы ищем Бога, она требует любви к человеку, когда мы обращаемся к человеку, она требует любви к Богу. Один русский старец рассказывает в письме, как однажды ему поставили вопрос: “Каким образом работники, которые тебе поручены, работают так усердно и честно, хотя ты за ними не следишь? А наши, за которыми мы следим, все время пытаются нас обмануть?” И его ответ был таков: “Когда я утром прихожу раздать им работу, меня охватывает жалость к ним, – как же они, должно быть, бедны, если оставили свои деревни и семьи ради грошового заработка! И, раздав им задание, я ухожу в келью и молюсь о каждом из них. Я обращаюсь к Богу и говорю: Господи, посмотри на Николая! Он так молод. Он оставил свою деревню; его молодой жене всего-то девятнадцать лет, он оставил новорожденного ребенка, потому что слишком бедно было дома, он не мог их прокормить. Вспомни его, огради его от дурных мыслей. Подумай о ней и будь ей защитником!.. И так я молюсь (говорит он); но постепенно, по мере того как молитва становится горячее, нарастает чувство близости Божией, и наступает момент, когда оно так сильно, что я уже не могу различить ничего земного. Земля исчезает, остается только Бог. И я забываю Николая, его жену, ребенка, его деревню, его бедность, и меня уносит в глубины Божии. И в этих глубинах я нахожу божественную любовь, и в ней – Николая, его жену, ребенка, их нужды; и любовь Божия, как поток, меня уносит и возвращает на землю, чтобы молиться и молить о них. И то же самое повторяется: нарастает чувство Бога, земля отходит, меня снова уносит в божественные глубины, где я снова нахожу этот мир, который так возлюбил Бог”. Встреча с Богом, встреча с человеком возможны лишь в той мере, в какой Бог и человек так любимы, что молящийся может забыть о себе, освободиться от себя; остается лишь его порыв “к” ним, ради них. Это одно из основных свойств заступнической молитвы.
Мне хотелось бы поговорить о встрече еще с некоторых точек зрения и прежде всего подчеркнуть, что эта встреча с Богом и с человеком опасна. Не случайно восточное предание дзен называет то место, где мы можем найти Того, Кого ищем, “логовом тигра”. Искать встречи с Богом нас побуждает дерзновение, если только этот поиск – не акт глубочайшего смирения. Встреча с Богом всегда – кризис, а по-гречески это слово означает суд. Эта встреча происходит в восхищении и смирении; она может случиться в обстановке ужаса и осуждения. Поэтому неудивительно, что православные руководства к молитве очень мало места уделяют вопросам техники и методики; а советы относительно нравственных и духовных условий, делающих молитву возможной, бесчисленны. Вспомним некоторые из них. Во-первых, евангельская заповедь: если принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, пойди примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Этой заповеди так четко, так прекрасно вторит святой Симеон Новый Богослов, который говорит нам, что если мы хотим молиться от всего сердца, то должны примириться с Богом, с нашей совестью, с нашим ближним и даже с окружающими нас предметами. Иначе говоря, условие молитвенной жизни – жизнь по Евангелию, жизнь, при которой евангельские заповеди и заветы станут нашей второй природой. Потому что недостаточно исполнять их, как раб или наемник исполняет волю своего господина; мы должны возжелать их всем сердцем, подобно сынам, детям Царствия, которые искренне желают, чтобы исполнилась их молитва: да святится Имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя.
Рассмотрим теперь встречу с Богом на ряде конкретных ситуаций: встреча в смирении, встреча в правде, встреча в отчаянии, встреча среди сумятицы, встреча в жизни, встреча в безмолвии и встреча в богослужении.
Если бы мы помнили, что всякая встреча с Богом, как всякая глубокая встреча с человеком, есть суд и кризис, мы искали бы Бога сердцем более цельным, но гораздо более осмотрительно. Мы не огорчались бы, если эта встреча не происходит немедленно; мы шли бы к Богу трепетным сердцем. Так мы избежали бы многих разочарований, многих бесплодных усилий, потому что Бог не открывается нам, если встреча может оказаться гибельной для нас. Порой Он готовит нас к встрече долгим ожиданием. Евангелие дает нам примеры духовного поведения, которым надо следовать. Евангелист Лука представляет нам десять прокаженных, которые ищут исцеления. Они идут ко Христу, останавливаются на расстоянии, потому что знают о своей нечистоте. И из глубины своего несчастья они взывают к Господу со всей верой, всей надеждой, на которые способны, но не осмеливаются приблизиться к Нему. И Господь ни шагу не делает к ним навстречу, Он просто повелевает им пойти показаться священникам. Он ничего им не обещает, Он посылает их к исцелению. И исцеление им дается в их вере и надежде, в их смиренном послушании. Насколько отличается их послушливое смирение от нашего “смиренного” приближения, которое должно бы совершаться в благоговейном трепете – а так часто бывает полно высокомерия, дерзости!
Вспомним пример апостола Петра, который, прозрев через откровение слова и чудесный лов рыб Божество пришедшего к нему Наставника, упал к Его ногам и воскликнул: “Выйди от меня, Господи, я человек грешный!” Видение святости и славы Божией подвигло его не искать близости, которой он не смог бы вынести; он попросил Господа отойти. Господь Сам захотел остаться.
Мы находим в Евангелии и рассказ о сотнике, который просил Христа исцелить его слугу; и когда Господь сказал: “Приду, исцелю”, тот ответил: “Нет, Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово”. Полная вера, совершенное доверие и такое смирение, при виде которого мы должны были бы устыдиться: ведь мы недостаточно сознаем себя грешниками, недостойными, чтобы просить Господа не утруждать Себя, и в то же время знать, что Он все может для нас сделать.
Однако именно это и есть основное положение: пока мы не перестанем искать осязаемого, ослепительного присутствия Господа, мы устремляемся навстречу собственному осуждению. Если Господь приходит к нам, с какой радостью, с каким смирением должны мы открыться Ему! Но нам не следует дерзновенно искать мистического опыта, когда нам приличествует только покаяние, когда мы должны сначала обратиться, то есть повернуться к Богу. Наша молитва должна начаться с крика: “Господи, сделай меня тем, кем я должен быть, во что бы то ни стало перемени меня, любой ценой!” И произнеся эти опасные, страшные слова, мы должны быть готовы к тому, что Бог их услышит. А слова эти опасны, потому что любовь Божия беспощадна. Бог хочет нашего спасения со всей непреклонностью, всей решимостью, каких оно стоит. Как говорится в “Пастыре” Ерма, “не оставит тебя Бог, доколе не сокрушит либо сердце твое, либо кости твои”.
Второй аспект встречи – встреча в правде. Встреча бывает истинная, только когда оба ее участника истинны. С такой точки зрения, мы все время вносим искажения в эту встречу. Мы не только сами не умеем быть правдивыми, но и Бога представляем себе в ложном образе. На протяжении дня в различных положениях мы бываем целым рядом личностей, часто неузнаваемых и нам самим, и другим. И когда наступает время молитвы и мы хотим встать перед Богом в духе и истине, мы порой теряемся, не зная, какая из них – наша подлинная человеческая личность, потому что не ощущаем нашего глубинного “я”. И различные личности, которые мы последовательно ставим перед Богом, не являются подлинными. В каждой есть частица нас самих, но цельности в них нет. И поэтому молитва, которая могла бы с силой вырваться из сердца нашей подлинной личности, не может пробить себе путь среди подставных личин, которые сменяют друг друга перед Богом. Каждая из них что-то произносит, что частично истинно, поскольку отчасти выражает наше существо в целом, и бессмысленно для всех подставных личностей, сменявших друг друга на протяжении дня. Чрезвычайно важно нам научиться находить цельность, основное, глубинное единство нашего существа; иначе мы никогда не встретим Бога в правде. Этого достигают долгим трудом. Мы должны постоянно следить за собой, чтобы ни движением, ни словом, ни внутренним настроением, несовместимым с цельностью, не разбивать ту основоположную цельность нашей личности, которой ищем. Нам надо отыскать наше подлинное “я” (сокровенный сердца человек – 1 Пет. 3: 4), внутреннее сокровенное “я”, которое одновременно – зачаток будущего человека и единственная вечная реальность, уже качествующая в нас. Поиск этот трудный, потому что различные составные части самих себя нам приходится разыскивать среди множества поставных личностей. Моментами пробивается что-то подлинное; моментами, когда мы забываем о себе, эта глубинная реальность становится конкретной. Это бывает в мгновения, когда радость охватывает нас до такой степени, что мы забываем следить за собой как бы извне; или в мгновения раздирающего душу горя, когда также мы не наблюдаем за тем, как живем, забываем и о тех, кто смотрит на нас, судит нас; в мгновения углубленности, когда нас охватывает чувство трагичности или восхищения. В такие моменты мы улавливаем в себе что-то подлинное. Но едва оно мелькнет, как очень часто – слишком часто! – мы отворачиваемся, не хотим встретиться с ним лицом к лицу: нам страшно, оно нас отталкивает.
И однако, это единственное, что в нас есть подлинного. И Бог может спасти наше подлинное “я”, как бы уродливо оно ни было, но Он не может спасти воображаемую личность, которую мы пытаемся поставить перед Ним или играем целыми днями перед другими людьми и перед самими собой. За пределами этих случайных, мимолетных проявлений нашего подлинного “я”, нам надо систематически искать в глубинах, что мы такое перед Богом; искать Бога в себе, искать себя в Нем. Это требует постоянного размышления, изо дня в день, всю жизнь.
Начать можно с простого. Читая Священное Писание, если мы честны, мы признаем, что некоторые места нас мало трогают, не задевают; мы готовы согласиться с Богом, потому что ничто не побуждает нас возражать Ему. Мы готовы принять ту или другую заповедь или действие Божие, потому что они не задевают нас непосредственно, и мы еще не видим, чего они от нас потребуют. Другие места, если говорить откровенно, нас отталкивают. Если бы у нас хватило мужества, мы бы сказали Богу: “Нет!” Эти места надо тщательно отметить. Они позволяют нам измерить расстояние между нами и Богом; но также – и это, вероятно, еще важнее для нашей цели – они позволяют измерить расстояние между нашим теперешним “я” и тем, во что мы могли бы вырасти в конечном итоге. Потому что Евангелие – не перечень формальных заповедей, это ряд внутренних образов. И всякий раз, когда мы говорим Евангелию “нет”, мы отказываемся быть человеком в полном смысле этого слова.
И наконец, есть в Евангелии места, от которых сердце загорается в нас, которые освещают наш ум, подвигают всю нашу волю; они дают жизнь и собранность всему нашему духовному и телесному существу. Эти места указывают, в чем Бог и Его образ в нас уже совпадают, места, где мы уже хотя бы на мгновение, хоть в слабой степени, но являемся тем, чем мы призваны стать в конечном итоге. Эти редкие и драгоценные места надо отмечать еще тщательнее, чем предыдущие. Это – точки, где образ Божий уже проступает в чертах нашего падшего человечества. И начиная с этих проблесков, мы можем стать тем, что заложено в нас как возможность, что понемногу растет в нас, чем (как мы чувствуем) мы хотим и должны быть. Нужно хранить верность этим откровениям, хотя бы в этом мы должны всегда остаться верными. Если мы будем так поступать, этих мест будет становиться все больше, евангельский призыв будет охватывать все большую область в нас, он станет конкретным, все более требовательным, и постепенно из тумана проступит и проявится образ нашей подлинной личности. Тогда мы можем стоять перед Богом в истине. Однако наряду с этой основоположной, сущностной истиной есть и неполная, частичная истина каждого мгновения.
Как часто нашу молитву искажает то, что мы пытаемся стать перед Богом не такие, каковы мы есть, а такие, какими, как мы воображаем, Он хочет нас видеть: мы приходим к Нему, словно ряженые, втиснутые в рамки взятых напрокат отношений. Очень важно, прежде чем мы начнем молиться, дать себе время прийти в себя, оглянуться на себя и осознать, в каком расположении духа мы пришли к Богу. Бывают дни, когда сердце наше открыто Ему и мы могли бы сказать: Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое… Как лань желает к потокам вод, так желает душа моя к Тебе… Но очень часто мы плетемся к Нему унылым усилием воли. Мы исполняем долг, не вкладывая сердца; мы принуждаем себя внешне быть тем, чем, как мы знаем, являемся в самых наших глубинах, но чего сейчас не ощущаем; источник живой воды иссяк в песке, который остался сухой и горючий. Мы так и должны сказать Тому, Кто есть Истина: “Господи, я пришел к Тебе сухим сердцем, но я заставляю себя предстать перед Твоим лицом по глубокому убеждению. Я Тебя люблю, я поклоняюсь Тебе в самых моих глубинах, но сегодня эти глубины не выходят на поверхность”. Иногда мы обнаруживаем, что стоим перед Богом не из глубины убеждения, а что нас привел перед Его лицо почти суеверный, а не благоговейный страх: если не помолюсь, Бог не защитит… Надо признаться Богу в этом недоверии, которое ставит под сомнение Его любовь и Его верность. Мало ли в каких еще состояниях мы предстаем перед Богом. Мы должны отдавать себе отчет, что можем молиться Богу изнутри этих состояний, а не поверхностно. Иначе наша молитва не будет содержать даже истины данного мгновения. Она будет от начала до конца предательством как ветхого Адама, так и нового Адама в нас. Она не будет истинна ни по отношению к тому, что в нас есть устойчивого и вечного, ни к состоянию данного момента, в котором мы находимся.
Но встреча зависит не только от того, что один из собеседников истинен; Другой так же важен. Бог, навстречу Которому мы идем, должен быть столь же истинен, как ищущий Его человек. Вы скажете, что Бог всегда истинен, всегда является Самим Собой, Он неизменен. Да, разумеется; но нашу молитву определяет не только Бог, Каков Он есть, но еще в большей степени тот образ Божий, который мы создаем себе, потому что наше отношение к Нему зависит не только от того, чем Он является на самом деле, но от того, каким мы Его представляем. Если мы предстаем перед ложным образом Бога, мы будем приспосабливать свою молитву и свое внутреннее отношение к этому образу, а не к искаженной им Реальности. Так что очень важно на протяжении всей жизни, изо дня в день, учиться познавать Бога, какой Он есть; не в Его частичных проявлениях, когда мы представляем Его то неумолимым Судией, то благостным Спасителем, а во всей многогранности Его личности. Следует также быть осторожным и не вообразить, будто вся полнота человеческого знания о Боге может составить подлинный образ Живого Бога. Бог, даже открываясь в Священном Писании, не открывается окончательно и полно; и если мы пытаемся стать перед образом Божиим, составленным из всего того, что знаем из откровения, из опыта Церкви, из собственного опыта, нам грозит опасность поставить перед собой образ, который ложен, потому что претендует на полноту, а на самом деле является лишь жалким приближением, и из-за этого, по слову святого Григория Богослова, становится идолом. Вот почему Отцы Восточной Церкви постоянно настаивают на том, что необходимо подходить к Богу, ничего не воображая, не представляя. Все, что мы знаем о Боге, должно нас привести к Нему; но в тот миг, когда мы встаем перед ним, мы должны отбросить все наше знание, как бы оно ни было богато и верно, и стоять перед Богом неведомым, перед тайной, перед Божественным мраком, перед Его светом, готовые встретить Бога таким, каким Он захочет явить нам Себя сегодня. Иначе перед нами окажется вчерашний Бог, то есть наш собственный опыт Бога, а не истинный Бог; тогда как цель нашего искания – подлинный Бог, единственный наш Собеседник в подлинной молитве. Эта встреча в истине с самого начала исключает возможность построить искусственное присутствие, потому что мы ищем не плодов этой встречи: радости, переживаний, внутреннего волнения, а самой встречи.
В этом же контексте встречи в правде следует признать, что Бог может отсутствовать. Разумеется, это отсутствие субъективное, в том смысле, что Бог всегда присутствует. Но Он остается невидим, неощутим, Он ускользает от нас. Здесь нам должно помочь то, что уже было сказано о встрече во смирении: когда Бог не дается, когда Его присутствие неощутимо, мы должны уметь ждать в трепете и благоговении. Но в этом субъективном отсутствии Бога есть и другая сторона. Отношения бывают истинны, только если строятся во взаимной свободе. Мы слишком склонны воображать, будто достаточно нам стать на молитву – и Бог обязан предстать перед нами, обратить на нас внимание, дать нам ощутить Свое присутствие, дать нам уверение, что слышит нас. В таком случае отношения были бы принудительные, словно механическая связь, из них были бы исключены радость и непосредственность. Это позволило бы также предположить, что мы в любой момент способны встретить Бога. Альфонс де Шатобриан в замечательной книге о молитве “Ответ Господа” говорит, что кажущееся отсутствие Бога чаще всего – следствие нашей собственной слепоты. Я хотел бы проиллюстрировать его слова примером.
Как-то пришел ко мне человек, который уже много лет искал Бога, и со слезами сказал мне: “Отец Антоний, я не могу жить без Бога. Покажите мне Бога!” Я ему ответил, что не могу этого сделать, но если бы и мог, думаю, он сам был бы неспособен Его видеть. Он с удивлением спросил меня: почему? Тогда я поставил ему вопрос, который я часто ставлю приходящим ко мне людям: “Есть ли в Священном Писании какое-нибудь место, которое вас волнует до глубины сердца, которое вам дороже всего?” – “Да, – ответил он: это рассказ о грешнице в восьмой главе Евангелия от Иоанна”. Тогда я спросил: “Кем вы видите себя в этой сцене? Женщиной, которая вдруг осознала свой грех и стоит перед судом, зная, что над ней висит суд жизни или смерти? Или вы заодно со все понимающим Христом, Который ее простит, чтобы она жила дальше, теперь уже новой жизнью? Ожидаете ли вы Его ответа с надеждой на прощение, как, вероятно, ждали апостолы? Или вы в толпе, один из старейших, кто, сознавая собственные грехи, уйдет среди первых; или вы один из молодых людей, кто постепенно осознает свою греховность и выпускает камень, уже зажатый в руке? Где вы, кто вы в этой прекрасной, волнующей сцене?” После минутного раздумья этот человек ответил: “Я себя вижу как единственного еврея, который не ушел и побил камнями эту женщину”. Я ему тогда сказал: “Вот и ответ: вы не можете увидеть Бога, Которому вы до такой степени чужды”.
Нет ли чего-то подобного в опыте каждого из нас? Нет ли в каждом из нас сопротивления, отказа, отрицания Бога? Не ищем ли мы Бога по собственному образу, подходящего нам Бога? Не отвергнем ли мы истинного Бога, если найдем Его? Готовы ли мы к встрече с Богом, Каков бы Он ни был, даже если эта встреча нас осудит и перевернет все наши ценности? Не является ли часто отсутствие Бога в нашей жизни и в нашей молитве результатом того, что мы Ему чужды, и даже встретившись с Ним лицом к лицу, не видим Его, не узнаём? Разве не это случалось в то время, когда Христос проходил по дорогам Иудеи и Галилеи? Сколько Его современников встретили Его и пошли мимо, совершенно не узнав, не заподозрив, что Он не просто прохожий? Не таким ли Его видели толпы, которые спешили на Голгофу, когда Его вели на казнь? Он преступник, нарушитель общественного порядка, ничего больше. Не таким ли мы видим Бога, даже в те моменты, когда мы более чутки и способны уловить, ощутить Его присутствие? Не отворачиваемся ли мы от Него, потому что предчувствуем, что Он разрушит строй нашей жизни, перевернет все ее ценности? В таком случае мы не можем рассчитывать на встречу с Ним в молитве. Скажу больше: мы должны благодарить Бога от всего сердца за то, что Он не предстает перед нами в этот миг, потому что мы сомневаемся в Нем, но не так, как Иов, мы сомневаемся сомнением неразумного разбойника на Голгофе; и встреча с Ним была бы нам судом и осуждением. Мы должны уметь оценить это отсутствие Божие и осудить себя, чтобы Он не осудил нас.
Другой аспект такого “отсутствия” может быть прояснен следующим рассказом. Несколько лет назад молодая женщина, которую поразила неисцельная болезнь, написала мне: “Я так благодарна Богу за эту болезнь! По мере того как мое тело слабеет, мне кажется, что оно становится все доступнее воздействию Божию”, Я ей ответил: “Благодарите Бога за то, что Он вам дает, но не надейтесь, что такое состояние будет продолжительно; придет момент, когда это естественное истощание перестанет вести вас к все большей прозрачности; тогда вам придется полагаться только на милость Божию”. /благодать?/ Через несколько месяцев она написала мне снова: “Я так слаба, что не могу устремляться к Богу. Единственное, что мне доступно – пребывать в безмолвии, предаться отчаянной надежде, что Бог Сам придет ко мне”. И она добавила – и эти-то ее слова и относятся к нашей теме: “Молите Бога, чтобы Он дал мне мужество никогда не попытаться построить Его мнимое присутствие, чтобы заполнить ужасающую пустоту Его отсутствия”.
Думаю, эти два рассказа не нуждаются в пояснениях. Мы должны положиться только на Бога. Важно, чтобы мы не рассчитывали ни на свои силы, ни на свою слабость. Встреча с Богом – свободный акт, где Бог самовластен; и лишь когда смирение, то есть полная, предельная отданность, соединится в нашем сердце с начатком любви к Богу, мы становимся способными перенести Его отсутствие и даже обогатиться благодаря ему.
Я употребил выражение “отчаянная надежда”. Это еще одна возможность встретиться с Богом. Примеры этого мы видим в Евангелии и в житиях святых. В десятой главе Евангелия от Марка мы находим рассказ о слепом Вартимее, сидевшем у ворот Иерихона, и в этом рассказе о его исцелении есть ряд моментов, существенных для понимания молитвы. Мы слишком часто удивляемся, что молитва наша не услышана. Нам кажется, что достаточно нам произнести ее – и Бог обязан сразу обратить на нее внимание. На деле, если мы строго рассмотрим, что побудило нас к молитве, чего мы требуем, мы увидим, что не всегда просим необходимого, что часто просим излишнего. Легкость, с какой мы оставляем молитву, когда не бываем услышаны тотчас же, доказывает, что даже когда мы просим у Бога того, без чего не можем жить, у нас недостает терпения, постоянства, настойчивости; и в конечном итоге мы предпочитаем жить без необходимого, чем отчаянно бороться за него. Один из Отцов Церкви говорит, что молитва подобна стреле. Она, конечно, может лететь, достичь цели и поразить ее. Но полетит она, только если сильная рука пошлет ее к цели из лука. Она попадет в самую цель, только если зрение стрелка остро и напряжено. А нашей молитве чаще всего недостает именно бодрости духа, напряжения, чувства отчаянной, абсолютно трагичной нужды, в какой мы находимся и откуда должны выбраться во что бы то ни стало, любой ценой.
Вартимей слеп. Мы не знаем, постепенно ли погас свет в его очах, постепенно ли для него погрузился в мрак привычный, столь любимый мир, или он родился слепым. Одно ясно: взрослый человек сидит в придорожной пыли и просит подаяния. Сколько за свою жизнь, за все ее годы, этот человек делал отчаянные усилия возвратить себе зрение! Сколько раз он обращался к врачам, священникам, целителям, просил молитв и помощи всех тех, кто, по его мнению, мог ему помочь. Сколько раз зарождалась надежда – на человека, на разум, на опыт, но также на любовь и сострадание, на человеческую отзывчивость и братство, и, еще не раскрывшись до конца, гасла. И теперь мы видим его на обочине, у ворот города, сломленного жизнью; он больше не пытается обрести зрение, лишь выжить благодаря безразличному милосердию прохожих. Его надежда – не /на/ пламенное, полное любви милосердие, а холодная милостыня, подаваемая без сострадания, – мимоходом брошенная монета, которая накормит голодного, хотя сам он так и останется безымянным, едва замеченным. А прохожий так же слеп, как нищий у дороги, и его слепота, возможно, еще страшнее, потому что это слепота сердца, слепота совести: человеку чуждо братство людей. Но дело происходит во времена Христа. Слепец, должно быть, слышал о человеке, появившемся в Галилее, который проходит теперь дорогами Иудеи и всей Палестины, творя чудеса. Говорят, этот человек исцелял и слепых, даже слепорожденного.
Не возродило ли это недоступное присутствие Бога, Который обладает целительной силой, и надежду и отчаяние? Надежду – потому что Богу все возможно, а отчаяние – потому что сам слепец ничего не может. Если бы Бог пришел к нему, он мог бы исцелеть. Но как слепому найти на дорогах Галилеи или Иудеи этого неуловимого Чудотворца, Который постоянно странствует, появляется и сразу исчезает? Это приближение Бога к нам, от которого рождается последняя надежда и глубочайшее отчаяние, известно на опыте не только Вартимею. Мы постоянно оказываемся в этой ситуации. Присутствие Божие, словно меч, отделяет свет от тьмы, но так часто отбрасывает нас в потемки, которые кажутся еще темнее, гуще, потому что нас ослепил проблеск Божественного Присутствия. Бог рядом, вечная жизнь возможна – и именно поэтому мы с таким отчаянием воспринимаем перспективу прозябать и дальше временной, преходящей жизнью.
Однажды Вартимей, сидя у дороги, слышит, как мимо идет толпа. Его обостренный слух уловил что-то необычное в шагах проходящих, в их разговорах, во всей атмосфере этой толпы. Это не просто крикливая толпа, шумное, беспорядочное шествие; в ее центре кто-то… Он спрашивает у одного из прохожих: “Кто это?” И ему отвечают: “Иисус из Назарета”. И в этот миг все отчаяние целой жизни и вся безумная надежда его души оживают с новой силой: все душевные силы в нем достигают высшего напряжения. Он – в глубочайшем мраке и в ослепительном свете. Он может быть исцелен, потому что Бог проходит мимо. Но нужно не упустить миг, мгновение; Иисус будет рядом всего несколько шагов. Сейчас Он будет проходить, погруженный в беседу с кем-то другим. Через миг Он удалится, пройдет мимо навсегда. И Вартимей кричит в отчаянной надежде: “Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!” Это уже исповедание веры. Должно быть, оно глубоко продумано за прошедшие месяцы, когда слепой переживал воображением все рассказы об исцелениях, совершенным Господом. Для него Иисус не просто странствующий пророк, Он – Сын Давидов. Так называет Его слепой, обращаясь со своей мольбой; и вокруг раздаются голоса, приказывающие ему замолчать: как он смеет прерывать беседу Учителя с учениками? Как он дерзнул обратиться с такой низкой, мелкой нуждой к Тому, Кто говорит о небесном? Но он-то знает, что вся его жизнь, радость и отчаяние целой жизни – в его слепоте и в возможности исцеления. И он взывает, и чем сильнее его заставляют молчать, тем отчаяннее он кричит. И Господь его призывает, Бог его исцеляет и открывает перед ним новую жизнь; он услышан потому именно, что молит и просит о том единственном, что для него имеет абсолютное значение.
Какой богатый урок для нас! Мы должны очень серьезно подходить к молитве, если хотим, чтобы она была в уровень нашего человеческого призвания и достойна Того, Кто в Своем смирении готов нас выслушать. Отчаяние, голод по Богу, крайняя нужда в том, чего мы просим: вот условия, чтобы стрела нашей молитвы была пущена из натянутого лука сильной рукой и метким глазом.
В этом рассказе есть особенность, на которой я хотел бы остановиться – это окружающая молитву сумятица. Встреча Вартимея с Богом произошла при двойном смятении: внутреннем смятении борющихся в нем противоположных чувств – надежды и отчаяния, страха и порыва; и внешней сумятице голосов, которые приказывали ему замолкнуть, потому что Господь занят вещами более достойными Его величия и святости. И не только Вартимей встречает Господа среди шума и суеты. Вся наша жизнь – непрерывное волнение, череда ситуаций, которые требуют нашего участия, череда чувств, мыслей, движений сердца и воли, то согласных, то противоборствующих, то сливающихся, то расходящихся; и в этом внутреннем и внешнем смятении наша душа тянется к Господу, зовет его, в Нем ищет себе успокоения. И мы так часто воображаем, что было бы легко молиться, если бы нам ничто не мешало, а между тем самое это смятение может стать опорой нашей молитве.
Но как молиться среди смятения? Я хотел бы дать несколько примеров, которые помогут нам понять глубинную возможность этого; я бы даже сказал: преимущество такого смятения, которое, как неровности в скале, помогает нам восходить к вершине, когда мы неспособны взлететь. Первый рассказ взят из житий святых. Некий отшельник встречает в горах другого подвижника молитвы. Завязывается беседа, в ходе которой посетитель, пораженный молитвенным состоянием своего собеседника, спрашивает: “Отче, кто тебя научил непрестанной молитве?” И тот, прозрев в нем духовно опытного человека, отвечает: “Не каждому я бы так ответил, но тебе скажу истину: бесы научили”. Пустынник говорит ему: “Я думаю, что понимаю тебя, отче, но можешь ли пояснить подробнее, как это было, чтобы я знал, что не ошибся”. И тот рассказал следующее. “Когда я был молод, я был неграмотный, жил в деревне. Однажды в храме я услышал, как дьякон читает Послание апостола Павла, где дается заповедь непрестанно молиться. Эти слова озарили меня радостью и светом; по окончании службы я с ликующим сердцем оставил деревню и ушел в горы, чтобы жить одной молитвой. В таком состоянии я провел несколько часов. Потом стало смеркаться, холодать, стали раздаваться вокруг меня пугающие звуки: шаги, вой зверей; чьи-то глаза засверкали, хищные звери стали выходить из своих логовищ в поисках пищи себе от Бога. На меня напал страх; он все возрастал по мере того, как темнота сгущалась. Вся ночь прошла в ужасе от шорохов в лесу, теней, сверканья глаз, чувства собственного бессилия и сознания, что неизвестно где искать помощи. И я начал взывать к Богу единственными словами, которые родились из трагичности моего положения, из охватившего меня ужаса:Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного!
Так прошла первая ночь. Утром страхи немного рассеялись, но меня начал терзать голод; я искал себе пищи в кустах и на полянах, и едва мог его утолить. А когда день стал клониться к вечеру, и я почувствовал, что ночные ужасы снова окружают меня, я стал взывать к Богу в страхе и надежде. Так прошли дни, месяцы. Постепенно я привык к окружавшим меня природным опасностям; но по мере того как я продолжал борьбу за непрестанную молитву, появились новые искушения и испытания. Бесы, страсти начала нападать на меня со всех сторон; и когда ночные хищники перестали быть источником ужаса для меня, темные силы ополчились на мою душу. И еще сильнее я кричал к Богу те слова, которые вырвались из моего сердца в первый миг ужаса: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного! Эта борьба продолжалась годами. Однажды я дошел до предела своих сил. Я непрестанно вызвал к Богу из глубины своего отчаяния и тоски и не получал ответа; и мне представилось, что Бог неумолим. И в момент, когда последняя ниточка надежды оборвалась в моей душе, когда я сдался и сказал Богу: “Ты молчишь, Ты безразличен к тому, что происходит со мной, но Ты мой Бог и Господь, и я умру на месте, скорее чем перестану искать Тебя” – внезапно Господь явился мне, и покой сошел не только на мою душу, но на все, что меня окружало. Прежде все казалось мне покрытым тьмой, теперь я все видел в божественном свете, в блистании благодати Присутствия Божия. И тогда в порыве любви и благодарности я воззвал к Богу единственной молитвой, которая выражала все мои чувства: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного! И с тех пор в радости и тоске, в искушении и борьбе, или в момент, когда сходит на меня покой, эти слова непрестанно рождаются в моем сердце. Они – песнь ликования, они и призыв к Богу, они и мой покаянный вопль”.
Этот пример безвестного подвижника нам показывает, как подлинная тоска, реальное отчаяние, смятение, когда мы боремся с ним, естественно рождают в нас молитву; и тогда молитва – отчаянный крик, который рождается из надежды более сильной, чем отчаяние, который питается отчаянием и его преодолевает.
Часто нам окружает волнение гораздо менее трагичное, чем то, что пережил этот молодой подвижник, но мы поддаемся ему, впускаем его в себя, и в этом наше поражение. Наша молитва непрочна, колеблется, потому что сама пронизана смятением, неуверенностью, ей недостает постоянства. Не это ли мы находим в евангельском рассказе о буре на море Галилейском? Господь с учениками на море. На середине плавания их застигает буря. Смерть реет вокруг них, воды разверзаются, готовые поглотить лодку, ветер их бьет. Они изо всех сил борются за спасение жизни, а Господь в это время спит на корме лодки, подложив что-то под голову, спокойным (как им кажется) сном. И ученики не могут перенести этого покоя, будто бы безразличия Божия, и из глубины своей отчаянной нужды оборачиваются ко Христу, будят Его; они хотят принудить Его осознать, что происходит: “Господи, не видишь ли, что мы гибнем?” Чего же они на самом деле добиваются? Обращаются ли они к Господу, чтобы Он успокоил бурю? И да и нет. В первую очередь им хочется, чтобы Господь разделил их ужас, непосильное им внутреннее смятение. Им кажется, что Господь им не поможет, если Сам не будет вовлечен в это борение. И Господь поднимается, Он отказывается поддаться смятению их мыслей, их сердец, Он отказывается впустить в Себя внешнюю бурю. Он поднимается в свойственном Ему невозмутимом покое. К ученикам Он оборачивается с упреком: “Маловеры! Сколько Мне быть с вами…” И, повернувшись к буре, Он проливает на нее Свой собственный внутренний покой. Он приказывает волнам успокоиться, ветру утихнуть, и Его внутренний покой покрывает все, что Его окружает. Все успокаивается, и ученики припадают к Его ногам: кто Он?.. Они все еще в сомнении.
Часто мы совершаем эту же ошибку: вместо того, чтобы искать божественного покоя, мы просим Бога разделить наше смятение. Конечно, Он входит в него, но со Своим покоем. Такое смятение, большое или малое, дисгармонию, разлад, расстройство мы постоянно находим в нашей внутренней и внешней жизни; она состоит из событий, которые мы не умеем понять, и из человеческих действий, которые сами лишены стройности. Это и есть основная проблема: связь, которую мы должны установить между суетой жизни и внутренней молитвой, между смятением и покоем. С самого начала мы должны отдавать себе отчет в том, что при каждом столкновении внутреннего покоя с яростным натиском жизни победа заранее принадлежит смятению, потому что молитва наша хрупка, а жизнь жестка. Жизнь беспощадна, она ни перед чем не останавливается, а наша молитва, внутренняя устойчивость, покой, молчание, весь внутренний мир, который принадлежит Богу, уязвим и хрупок. Если мы хотим, чтобы он устоял, если хотим, чтобы он пронизал жизнь и победил ее, то этого следует достигать не открытым противостоянием и борьбой; покой должен охватывать наш земной мир, как вода проникает в почву и размывает ее. Святые Отцы говорят, что вода – образ смирения: она уходит в глубину, но она же неодолима. Когда она достигает самых глубин, куда ее влекло, и начинает подниматься, никто не может ее остановить. То же самое должно произойти с нашей молитвой.
Молиться в течение целого дня трудно. Иногда мы пытаемся себе это представить; и тогда мы думаем либо о богослужебном строе монастыря, где ведут созерцательный образ жизни, либо о молитвенной жизни отшельника. Мы мало задумываемся о такой молитвенности, которая тесно связана с жизнью, где все становится молитвой, все – повод для молитвы. А ведь осуществить такую молитву очень легко. Но она крайне требовательна, и нам следует быть очень осторожными, чтобы не перенапрячь свои силы. Встанем утром и поставим себя перед Богом; мы пробудились от сна, который отделяет нас от нашего прошлого; пробуждение ставит нас перед новой реальностью, перед днем, которого никогда в истории не было, перед неведомым еще временем и пространством, которые простираются перед нами, словно снежная равнина, еще не запятнанная ничьими следами. Попросим у Бога, чтобы Он благословил этот день и наш путь в нем. И потом станем относиться серьезно и к собственной просьбе и к полученному нами безмолвному ответу. Бог благословил нас, Его благословение будет с нами неотлучно во всех обстоятельствах, какие могут принять это благословение; мы лишимся его только в те моменты, когда сами отвернемся от Бога; хотя и тогда Бог останется с нами, оберегая нас, готовый прийти на помочь, готовый вернуть нам благодать, которую мы презрели, стремясь поступать по-своему. Нам дановсеоружие Божие, как говорит апостол Павел в шестой главе Послания к ефесянам. Вера, надежда, любовь – вот наше оружие; и в то же время – призыв к нам. Мы вступаем в этот день в благодати и славе, с Крестом Господним, нося в себе мертвость Христову (2 Кор. 4: 10).
Но этот день благословлен Богом. Разве это не означает, что все, что произойдет за этот день, все, что с нами случится, будет по воле Божией, содержится в этой воле? Верить в случай, верить в удачу означает неверие Богу. Если все, что бы ни случилось, кто бы нам ни встретился, мы примем в таком расположении духа, мы увидим, что в каждом случае призваны поступить по-христиански. Всякая встреча происходит в Боге и у Него на глазах. Мы посланы к каждому, кто встретится на нашем пути, чтобы либо что-то дать, либо что-то принять, порой не сознавая того. Иногда – в счастливом изумлении, что даем то, чем сами не обладаем, порой – в напряженном усилии, вплоть до пролития крови. Однако надо уметь и принимать. Для этого надо уметь встречать ближнего, как мы пытались определить встречу в начале: уметь видеть, уметь слышать, внимать в молчании, уметь любить и отвечать от всей души на то, что нам предлагается – будь то горечь или радость, трагичный или чудесный дар. Мы должны быть уязвимы до предела естественных сил и до конца гибки в руке Божией. События нашей жизни, если мы их примем как дар Божий, предоставят нам в каждый миг возможность творческого делания: быть христианином.
Христиане слишком привыкли, как только встает проблема, как только возникает опасность, обращаться к Богу с криком: “Господи, заступи, спаси, защити меня!” Как часто, вероятно, Господь глядит на нас с грустью и неслышно отвечает нам на том языке, который мог бы коснуться нашего сердца, если бы оно не было так озабочено собственным страхом: “Я же тебя послал в эту ситуацию, ты должен сражаться за Меня; разве ты не принадлежишь войску, авангарду Царства Небесного, которое Я послал на землю? Не сказал ли Я Своим ученикам: Как Меня послал Отец, так Я посылаю вас – жить и умирать? Неужели вы забыли пример и заветы апостолов?” Мы должны быть присутствием Христовым на земле, то победоносным, то распинаемым, всегда отдающимся, никогда не стремящимся избежать этого пути. В силе Христовой все нам возможно, но пролить кровь должны мы сами; мы должны трудиться и действовать, а не Он должен снова проходить весь крестный путь. Не в этом ли смысл диалога Христа с Петром, который встречает Его у ворот Рима, откуда уходит, чтобы избежать гонения: “Куда идешь, Господи? Quo vadis, Domine?” – “Иду в Рим пострадать вместо тебя…” Наше призвание – быть там, где мы нужны, а не укрываться в безопасном месте. На протяжении дня, начатого во имя Божие, мы не раз будем задаваться вопросом о его содержании, значении различных его событий. Мы должны суметь размышлять в безмолвии, вдумываться в канву событий, в которых не умеем разобраться до конца – пока вдруг не увидим в них руку Божию. Наша ошибка почти всегда в том, что мы думаем, будто человеческая мудрость, подкрепленная назойливо-просительной молитвой, позволит нам разрешать проблемы вечности. Потому что все, вплоть до самой незначительной детали, как бы является частью вечности, становления мира, частью которого мы являемся. На самом деле человеческая мудрость должна уступить место способности вглядываться, погружаться взором в стоящую перед нами тайну, пытаться различить незримый след Божий, Его премудрость, столь отличную от людской умудренности; божественную мудрость, живущую в сердце человека. Мы должны научиться в сумятице жизни быть местом покоя, устойчивости, должны уметь дождаться момента, когда вдруг до нас дойдет понимание. Английская писательница Эвелин Андерхилл сравнивает совершенного христианина с собакой пастуха, с овчаркой. Овчарка, – говорит она, – как только заслышит голос хозяина, замирает на месте, смотрит ему в глаза, приникает к его взгляду и голосу, чтобы угадать его волю. Затем, как только она поняла, без малейшего колебания она бросается исполнять волю своего хозяина. И (добавляет Э. Андерхилл) у нее есть свойство, редкое среди христиан: она без устали виляет хвостом.
Мы должны уметь путем созерцательного молчания, в молитвенном ожидании различить в основе нашей жизни, в ее сумятице, ее видимом беспорядке – Божий замысел. Мы должны научиться в молитве же находить мужество, силу, вдохновение и необходимое руководство. Так весь день станет непрестанной молитвой. Но это – идеальное состояние, в которое мы не можем вступить сразу, потому что не привыкли к молитве, к постоянному вниманию, мы не умеем сохранять трезвение среди окружающей нас жизни, которая пронизывает нас, вливается в нас. Мы должны вступать на этот путь постепенно, начиная с нескольких часов, иногда и того короче, потому что если будем принуждать себя слишком долго и напряжено сосредотачивать свое внимание, наступит момент, когда наши силы истощатся; это не значит, что благодать привела нас к ошибкам, а что человеческий инструмент еще слишком хрупок. Тогда нас отхватит отвращение, усталость от молитвы; самые живые слова станут пеплом у нас на устах/ засохнут/ окажутся сухим песком, нам будет казаться, что этот день мы живем не в Боге и не для Бога. В такие моменты, когда мы раздавлены, потому что жили не в свою меру, надо уметь смиренно признать свое поражение, признать, что мы не доросли до того, чтобы жить в постоянном Присутствии Божием. Тогда следует уметь проявить духовное воздержание и ограничить свои молитвенные порывы, особенно словесное их выражение; надо знать, что, раз испросив Божие благословение на этот день и стараясь жить нерассеянно, без суеты, мы пребудем в том состоянии молитвенности, о котором говорилось выше. А затем постепенное, внимательное воспитание нашего сердца и ума позволит нам проводить целые дни не только в этой молитве для начинающих, уже сплетшейся с жизнью, но еще не имеющей силы ее преобразить, но и в молитве гораздо более осознанной, более глубокой, о которой мы еще поговорим.
Все это приводит нас к проблеме, которую трудно разрешить начинающим: о роли усилия, месте подвига, трудничества в молитвенной встрече. Легко молиться в восторге, легко молиться в тоске; гораздо труднее молиться в обычные, тусклые дни, когда к этому нет ни внешнего, ни внутреннего побуждения. Тогда надо уметь принуждать себя к молитве. Почему? Потому что наша молитвенная жизнь должна быть выражением не только наших непосредственных чувств, но и наших постоянных, прочных, неотъемлемых убеждений. Это относится ко всем наших душевным состояниям. Бывают моменты, когда, обессилев от усталости, мы неспособны ощущать глубоко привязанность к самым любимым нами людям; если бы нас о ней спросили, мы могли бы с уверенностью ответить, что она есть, но слишком далеко ушла в глубины, мы ее не ощущаем, а усталость – вот она, одолевает. Чувство есть, но порой жизненный напор, сила, способность отозваться как будто погасли. Нашей жизнью движет только воля. А воля в сочетании с ясными убеждениями, к которым мы относимся ответственно, с порывом, свободным от страсти – главный двигатель жизни. Если усилие основано только на общественных условностях, оно мертвит, а не животворит душу. Усилие, впрочем, состоит не только из жесткости, оно не безжалостно, оно может сочетаться с большим пониманием себя и других, с большим милосердием. Что касается молитвы, усилие возникает, когда живому чувству недостает интенсивности и яркости, чтобы собрать все душевные силы. Тогда мы должны стать перед Богом актом чистой веры; мы знаем, что Он есть, и знаем, кто Он. Мы идем поклониться Ему с благоговейным страхом, без которого невозможно приблизиться к святости. Собранным, постоянным усилием надо вкладывать в эту встречу все внимание, всю глубину, каких она заслуживает, и прежде всего, надо принуждать себя к этой встрече, потому что цель всякой встречи с Богом – не столько непосредственная радость этой встречи, сколько радость, которая постепенно рождается от длительного труда, по мере того как общение с Богом преображает нас, и мы начинаем жить божественной жизнью, как бы переливающейся через край из Его природы. То есть надо, не пытаясь обманывать себя, еще менее – Бога, встать перед Ним и приносить Ему каждое слово, каждое выражение нашей молитвы из глубины цельного убеждения ума и воли.
Это означает две вещи. С одной стороны, что мы ищем не радости этой встречи, а глубокого преображения, которое только Бог может совершить в нас; что мы готовы, по слову Отцов Церкви, дать кровь, чтобы принять Дух. И с другой стороны, что слова нашей молитвы выражают с предельной точностью наши подлинные убеждения. Когда мы молимся собственными словами, молитва наша должна быть трезва, внимательна, безыскусна, она должна выражать как реальность данного момента во всей ее наготе и убожестве, так и наши четкие убеждения и твердую устремленность. Это требует большого, напряженного самоотречения, но само оно – один из существенных элементов этой встречи. Если мы употребляем “готовые” молитвы (а они родились из чувства трагичности и живого порыва великих душ), мы должны быть внимательны, чтобы не солгать Богу под тем предлогом, будто приносим Ему достойные Его молитвы.
На периоды сухости нам надо иметь в запасе молитвы, которые мы в другое время глубоко пережили, на которые отозвались умом, волей и сердцем; такие молитвы, которые выражают наши глубины, можно принести Богу. Однако порой нам придется выбирать среди них: есть выражения, которые мы можем употреблять в светлые периоды жизни и не можем повторить просто актом веры в самих себя. Когда сердце наше двоится, когда все колеблется внутри нас и вокруг, мы не можем сказать Господу: Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое… Многие выражения в какие-то моменты превосходят реальность. Тогда надо их разнообразить, даже изменять, чтобы говорить Богу только правду. Надо найти равновесие и уметь выражать твердые убеждения и одновременно избежать опасности исказить наше истинное состояние данного момента. И еще очень важно научиться употреблять эти молитвы, чтобы пробуждать задремавшую душу, вернуть ее к жизни. Потому что слово Божие животворит. На периоды упадка можно посоветовать две вещи. Первое – начать с чтения Священного Писания. Когда душа тусклая, жизнь как будто погасла, можно тем не менее сеять слово, и возможно, душа наша более, чем нам казалось, готова принять его, отозваться и принести плод. И здесь надо выбрать среди текстов Священного Писания те, которые нас обычно трогают, над которыми мы много размышляли, на которые душа наша отзывалась живо, которые связаны с нашей внутренней жизнью, которые проникли в нее, как те три меры дрожжей, какие женщина бросает в тесто, чтобы оно поднялось. В периоды, когда в душе темно, надо перечитывать, снова продумывать такие места; надо, отталкиваясь от них, возносить молитву, быть может, и холодную, как будто безжизненную, но которая правдива. Кстати, так поступать можно не только в периоды трудничества. Священное Писание – это слово, с которым Бог обращается к нам; начать с него и отозваться бывает очень плодотворно для внутренней жизни; но в моменты упадка душевных сил поступать так тем более оправданно, что слово Божие сильно и действенно, это творческое слово, они звучит и проникает глубже, чем доступные, поверхностные слои души, оно потрясает самые ее глубины, потому что слово Божие – жизнь и может вернуть нам жизнь присущей ему силой, потому что это слово Самого Бога, Который обращается к нашей душе.
Если мы пользуемся молитвами, сложенными святыми (как я уже сказал, у нас должен быть некоторый их запас), готовыми выручить нас, главное затруднение, с которым мы столкнемся в эти моменты внутренней мертвости, в том, что мы не знаем, куда обратиться. Куда направить молитву: Бог как будто отсутствует; небо пусто, и нам кажется, что наш крик отчаяния никто не слышит. Вспомните строки Верхарна:
Ночь в небо зимнее свою возносит чашу.
И душу я взношу, скорбящую, ночную,
О Господи, к Тебе, в Твои ночные дали!
Но нет в них ничего, о чем я здесь тоскую,
И капля не падет с небес в мои печали.
Я знаю: Ты – мечта! И все ж во мраке ночи,
Колени преклонив, Тебе молюсь смиренно…
Но Твой не внемлет слух, Твои не видят очи,
Лишь о себе самом я грежу во вселенной.
О, сжалься, Господи, над бредом и страданьем,
Я должен скорбь излить здесь, пред Твоим молчаньем.
Ночь в небо зимнее свою возносит чашу.
или Клоделя:
Я здесь, ее здесь нет, дышит ужасом тишина.
Мы пропали: нас, как зерна, трясет в своем решете Сатана.
Я страдаю, страдает она, – и она от меня далека,
От нее не дотянется ко мне ни слово, ни рука.
Все, чем связаны мы, – это мрак, прерывающий всякую связь,
Цепенящий мрак и чудовищная, безнадежная страсть.
Вслушиваюсь: рядом нет никого, и страх овладевает мной,
Мне чудится ее голос, ее крик в темноте ночной.
Веет слабый ветер, и я, похолодев, молю, уже не веря:
Боже, спаси ее от гибели, вырви из пасти Зверя.
Вновь я чувствую этот вкус, эту горечь смерти во рту,
Вновь осилить не могу эту резь, эту лютую тошноту.
Всю ночь я был один: я топтал виноград в давильне, шагая
От стены к стене, взрываясь безумным смехом, изнемогая.
Тому, кто создал глаза, нужны ли глаза, чтобы видеть меня?
Тому, кто создал слух, нужны ли уши, чтобы слышать меня?
Как грех ни велик, милость Твоя все же больше, ибо Ты благ.
Нужно молиться: в этот час торжествует всесильный Враг.
Тогда надо направить острие нашей молитвы не к Богу, Которого мы не умеем встретить, не к пустому бездонному небу, не к огромности пространства, от которой мы теряемся и исполняемся отчаяния, а на самих себя. Каждое слово молитвы следует обратить к собственной дремлющей, унылой, подавленной, как будто мертвой душе. Надо поступить со своей душой, как мать поступает с упрямящимся ребенком: она сажает его на колени и рассказывает ему сказку; сначала ребенок слушает невнимательно, но постепенно начинает вслушиваться все с большим вниманием. Так бывает и с нами: мы должны произносить каждое слово, пытаясь охватить его умом, не углубляясь мыслью в его смысл, не делая его предметом размышления, а в его простом значении, в его семантической четкости. Произнести слово, приникнуть к нему умом, направить его на собственное сердце, повторить, если надо, фразу или часть ее раз и два и три, пытаясь соединить ее с тем, что еще живо в нас, чтобы разжечь пламя, тлеющее под пеплом. Надо попытаться не связывать свою волю, а напротив, дать ей расслабиться, успокоиться. Потому что покой – также один из элементов подвига: способность расслабиться и стать гибким, отдаться не пассивно, а доверчиво, и слушать всем умом, отзываться без напряжения теми силами, что еще живы в нашем сердце, на слова, ставшие привычными; эти глубокие слова в свое время родились среди пустыни в сердцах подвижников молитвы, которые жили в Боге. Если мы в простоте, без напряжения, не прилагая новой усталости к той, что уже давит нас, не добавляя нового усилия к тому, что нас уже гнетет, будем слушать эти слова, повторять их, стараться до конца насытиться ими, найти в них смысл, вкус, то часто после какого-то (может быть, и продолжительного) времени эти слова вернут жизнь сначала нашему сердцу, потом и воле, вернут нам способность подняться и действовать той высшей активностью, какой является молитва.
В таком случае наше тело, которое усталостью, расслабленностью или отказом участвовать в порывах души так часто бывает нам помехой в нашей внутренней жизни, сможет оказать нам огромную помощь. Это тело, которое есть частица тела Христова, которое таинственно питается Святыми Дарами, может вернуть жизнь нашей душе. Ведь тело участвует во всех событиях внутренней жизни. Явно или неприметным образом оно участвует в каждом движении души, будь то чувство, отвлеченная мысль, сознательное действие или даже сверхчувственный опыт. Тело отзывается двояким образом: оно участвует в усилии человека обрести внимание и приспосабливается к предмету внимания. Этот двойственный процесс протекает не случайно, в нем участвуют различные части тела в соответствии с предметом внимания, и тот же предмет, в зависимости от того, переживается ли он в мысли или в чувстве, побуждает ли к действию или остается бездейственным, в зависимости от большей или меньшей степени аскетической чистоты, затрагивает различные центры сосредоточения внимания. Тема “прокладывает себе путь”. Только блуждающая мысль, не связанная с определенным душевным состоянием, лишена физического места. Она жужжит в голове, неспособная собраться, подобная, по слову Феофана Затворника, “беспорядочной стае мошек” (по Рамакришне: “произвольным прыжкам обезьян с ветки на ветку”).
Как только появляется господствующая мысль или всеподавляющее чувство, вся душевная деятельность объединяется вокруг них, приобретает большую целостность, большую связность; поле сознания суживается и озаряется, и немедленно обнаруживается телесно-душевное “место”, центр внимания и характерные для него душевно-телесные явления.
Трудничество, телесный подвиг – вот единственные средства придать молитве полную устойчивость. Спонтанная молитва, родившаяся из восторга или чувства трагичности, зависит от слишком многого; лишь молитва, родившаяся из убеждения, приносимая твердой волей, может поставить нас перед лицом Божиим. В Православной Церкви молитвой устойчивости по преимуществу является так называемая Иисусова молитва: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного!
Встреча человека с Богом в устойчивой молитве непременно приведет к безмолвию, молчанию. Следует сразу различить два рода безмолвия: безмолвие Божие и внутреннее безмолвие человека. Молчание Бога, часто более тяжелое, чем был бы Его отказ, молчание-отсутствие, о котором мы уже говорили, и, с другой стороны, внутреннее безмолвие человека, более глубокое, чем слова, более живое, более богатое общением с Богом, чем какое бы то ни было его выражение. Безмолвие Бога в ответ на молитву может быть недолгим, но может показаться нам и окончательным. Молчание, которым Христос встретил мольбы хананеянки и которое заставило ее собрать всю веру, всю надежду, всю человеческую любовь, какая у нее была, и принести ее Богу, чтобы и вне избранного народа смогли осуществиться условия Царствия. Такое молчание, вызывающее ответ, безмолвие, благодаря которому человек вырастает в полную свою меру, будь оно преходящим или долговременным, в зависимости от наших сил и нашей верности, приводит нас к более глубоким, более богатым отношениям с Богом, чем легкая встреча. Но порой молчание кажется окончательным и потому ужасным. Вспомните строки Альфреда де Виньи:
О, если правда то, что в ночь пред страшной тайной
Сын человеческий те произнес слова
И что, презрев наш мир, как выкидыш случайный,
Слепа, глуха, нема над нами синева, –
Путь справедливости: презрительным сознаньем
Принять отсутствие, и отвечать молчаньем
На вечное молчанье Божества.
Не такое ли впечатление многие христиане выносят из чтения трагического отрывка – рассказа о Гефсиманском саде? Это молчание ставит перед нами и проблему, которая требует разрешения, проблему молитв оставшихся без ответа. Читая Евангелие, мы видим, что из всех молитв, обращенных к Богу, осталась без ответа единственно Христова молитва Отцу в Гефисманском борении. Очень важно осознать это, потому что слишком часто мы пытаемся истолковать молчание Бога человеческим недостоинством или Божиим бессилием. Пытаясь оправдать Бога, мы говорим: моя вера, наша вера недостаточна, чтобы Бог отозвался на нее чудом… Когда наша вера колеблется, мы говорим: может быть, Бог не мог ответить по бессилию или по безразличию… То, что молитва Самого Христа осталась безответной, исключает такие объяснения. Вера Христа, Сына Божия, была совершенна и полна; любовь Божия ко Христу – вне сомнений: не свидетельствует ли Он Сам, что и в этот час Отец мог послать Ему на помощь двенадцать легионов ангелов? Он оставлен, потому что Бог предусмотрел для нас нечто лучшее – ценой Его жизни.
Из евангельского контекста безответной молитвы ясно, что молитва бывает бесплодна, когда не подкреплена верой. Вспомните место в Евангелии, где говорится, что Христос не смог совершить никакого чуда в Назарете, потому что не нашел там веры. Как только есть вера, налицо – условие чуда, то есть присутствия Царства Божия, пришедшего в силе. И в ответ на наши молитвы Христос помогает нам, спасает нас, не вторгаясь, а поступая со властью, просто потому что Он – Хозяин в Своем Царстве. Но когда наша вера глубоко укоренена в Нем, когда мы способны разделить с Ним Его заботу о мире, тогда мы разделяем одиночество Христа перед лицом безмолвия Божия. Очень важно осознать, что порой молчание Бога либо вызывает к действию все дремлющие силы нашей души, либо Бог взвесил наши сила и дает нам участвовать в искупительном деле Христовом.
Молчание Бога, отсутствие Бога, но также молчание и отсутствие человека. Встреча бывает глубока, достигает совершенства, лишь когда оба ее участника способны пребыть вместе в безмолвии. Пока для поддержания контакта требуется поток слов, движений, пока, чтобы не потерять друг друга из вида, требуются словесные выражения, мы можем с грустной уверенностью сказать, что наши отношения еще не достигли искомой близости и глубины. Нам всем знаком опыт безмолвия, которое сходит на нас, окутывает и соединяет с тем, с кем мы находимся в данный момент. Молчание, которое пронизывает душу до глубин, открывает в душе еще неведомые глубины. Молчание требовательное, бездонное, внутренне, которое приводит нас к встрече с Богом и, в Нем, с нашим ближним.
Когда такое безмолвие сходит на нас, нам не нужны слова, чтобы почувствовать тесную близость с нашим собеседником, чтобы приобщиться в самых наших глубинах и даже еще глубже тому, что нас объединяет. И когда это безмолвие достаточно глубоко, из его глубин можно начать говорить, но как бережно, как трезво, как внимательно мы тогда говорим, чтобы не разбить молчание шумом или сумбуром слов. Наша мысль тогда становится созерцательна; наше сознание, вместо того, чтобы пытаться, как ему свойственно, создавать множество образов, силится выделить в глубинах нашего сердца предельно простые, светоносные образы. Сознание исполняет свое назначение, его роль служебная, оно лишь выражает что-то, что его превосходит. Наш взор погружается тогда в большие глубины и робко, благоговейно, со страхом пытается выразить увиденное. И пока слова остаются глубоки, пока они не умствуют и не отделяются от всецелого опыта, они не нарушают молчание, а выражают его. Есть замечательные строки у одного средневекового монаха-картезианца; он говорит, что если Христос действительно – Слово Божие, то мы имеем право сказать, что Отец – то творческое, бездонное молчание, из которого только и может вырваться Слово, до конца и в совершенстве выражающее это молчание.
Нечто подобное мы испытываем в минуты безмолвия. Порой оно сходит на нас, как чудо, как дар Божий; чаще же нам приходится учиться этому внутреннему безмолвию. Один из его видов – вера; устойчивость, надежда, которая избавляет нас от неуверенности, колебаний – тоже его аспект; оно же – тот внутренний покой, который греческие Отцы называют исихией. В созерцании главное – безмолвие, покрывающая все трепетная, чуткая тишина, которую нельзя определить ни как пассивность, ни как активность. Это спокойная бдительность. И мы должны научиться путем душевно-телесного подвига помогать нашей молитве достичь той совершенной формы, какой является внутреннее молчание.
Поиск безмолвия проходит одновременно в плане человеческом и в плане божественном. С одной стороны, его надо искать, с другой – оно дается. Человеческий поиск этого постоянного внутрьпребывания, “хождения перед лицом Божиим” замечательно описан в писаниях средневекового автора, Брата Лаврентия. На гораздо более скромном уровне я могу привести пример пожилой женщины, которая годами молилась и никогда не могла ощутить присутствие Божие – и обнаружила его в молчании. Вскоре после моего рукоположения я был послан служить на Рождество в старческом доме. Ко мне подошла очень старая женщина и сказала, что уже годами твердит Иисусову молитву, но никогда не ощутила Присутствия Божия. По своей неопытности я нашел простое решение ее проблемы. “Где же Богу вставить слово, – сказал я ей, – если вы все время говорите? Дайте Ему возможность: помолчите!” – “Но как это сделать?” И я ей дал совет, который с тех пор не раз повторял, потому что тогда он пригодился. Я посоветовал ей после завтрака прибрать комнату, навести в ней уют, сесть так, чтобы видеть ее целиком, с окном и видом на сад, с иконами и лампадкой. “Когда так устроитесь, – сказал я, – отдохните четверть часа в присутствии Божием, но только не молитесь. Будьте так спокойны, как только можете, а поскольку вы, вероятно, не умеете сидеть без дела, возьмите вязание и вяжите перед лицом Божиим; потом расскажете мне, что произойдет”. Через несколько дней она пришла, счастливая: она ощутила, что Бог тут. Я с любопытством спросил ее, что же произошло. Она объяснила, что поступила точно так, как я ей посоветовал: устроилась удобно и огляделась молча, спокойно, зная, что она вправе ничего не делать и не молиться; и впервые за многие годы заметила, что комната ее тихая, уютная, удобная. Она увидела эту комнату будто впервые. Произошла встреча между нею и тем местом, где она жила годами, никогда его не замечая. Потом она прониклась окружающим ее миром и покоем, который подчеркивало тиканье часов и постукивание спиц по ручкам кресла. И постепенно это внешнее безмолвие стало перетекать внутрь, проникать в нее; молчание охватило ее и открыло ей что-то большее, молчание более “насыщенное”, которое было не просто отсутствием шума, а богатым, сущностным молчанием, в сердцевине которого она различила Присутствие. И как только она ощутила это Присутствие, в ней родилось желание молитвы – но на этот раз из самых глубин молчания, не потоком слов, не в вихре мыслей, а спокойно, выбирая каждое слово из глубин этого молчания и принося его Богу тихо, спокойно. Сама молитва стала выражением внутреннего молчания, частью того поистине Божественного безмолвия, которое она ощутила. Такой способ доступен всем. Конечно, придется бороться с кружением мыслей, с колебаниями сердца, с порывами плоти, с неустойчивостью воли. Для этого существует множество упражнений, которые относятся одновременно к психологии и к подвижничеству; но и помимо этих упражнений нам быстро поможет, если мы спокойно расслабимся перед лицом Божиим, в простой уверенности, что Он тут, и в той мере безмолвия, которая нам уже доступна.
Иногда это безмолвие сходит на нас еще ощутимее. Безмолвие и покой в Боге подаются нам и мы их воспринимаем, когда ничто, казалось бы, этого не предвещало. Молиться за других – это кровь проливать (это слова старца Силуана), и пролитие это идет до истощания всех жизненных сил в любви и сострадании. Но молиться за других означает также идти путем Христовым, стать выражением Его предстательства, соединиться с Ним в Его молитве и Его Воплощении; это значит жить неизреченными воздыханиями Духа в наших сердцах. И чем живее наша человеческая любовь, чем глубже мы отождествляемся через сострадание с теми, за кого молимся, тем совершеннее наше общение с Премилосердным Господом; наша молитва, родившаяся из человеческой трагедии, уносит нас в сердцевину Божественной тайны. Сначала мы остро сознаем земное страдание, но по мере того как продолжается наша молитва, все явнее становится Присутствие Божие, и наступает момент, когда мы теряем землю из вида, нас уносит в глубины Божии – в покой, безмолвие, мир, и здесь, в сердцевине тайны любви, мы вновь встречаем тех, сострадание к которым коснулось нашего сердца, кто погружен в Божественную любовь. И тогда Дух Божий, Дух любви пронизывает нас до конца и возвращает к сознанию тварного – но теперь в нем сплетается полная земная ответственность и все углубляющееся созерцание Живого Бога, Бога любви.
Это безмолвие приводит нас к встрече с Богом в покое, в простоте веры, встрече через то, что порой называют “молитвой просто взглядом”, которую так прекрасно выразил крестьянин из Арса. Его святой пастырь, “Арский кюре” спросил, что он часами делает, сидя в церкви, даже не перебирая четки. “Я гляжу на Него, Он глядит на меня, и нам так хорошо вместе”, – был ответ. Я смотрю на Него, Он смотрит на меня, и мы счастливы вместе. Но такая молитва без слов – не только молитва, но преображающая сила.
Существует рассказ о том, как созерцательная молитва, просто взгляд, обращенный к Богу, сумел преобразить не только внутренне, но даже внешне ребенка, который отдался со всей непосредственностью такому созерцанию.
“Это произошло в горной деревушке, затерянной у подножия огромной горы, высившейся гранитной массой, на которой игрой сил природы был изображен огромный человеческий лик. Этот образ господствовал над всей округой не только колоссальными размерами, но и своим царственным, величественным образом. У подножия горы едва заметная горстка домишек казалась не больше птичьего гнезда. Но вот какой рассказ любили передавать под кровлей этих человеческих жилищ.
В деревушке рассказывалось, что однажды там появится чудесно прекрасный человек, как две капли воды похожий на образ, высеченный в скале. Он принесет совершенное добро, неслыханные благодеяния. Это рассказывалось долгими вечерами в назидание детям, либо в утешение старикам, словно прекрасное предание, либо когда больным требовалось укрепиться надеждой.
Однажды маленький мальчик, который, как все, услышал чудесное предсказание, так живо воспринял его в свое сердце, что не переставал размышлять о нем и не сводил глаз с неподвижного огромного лица. Он часто сидел у дома, сунув палец в рот, и смотрел на гиганта, так мало походившего на людишек, копошащихся внизу. Часто и среди игры он уносился своей юной душой к тайне прекрасного обетования: каковы будут его благодеяния?.. какие сокровища польются из рук этого замечательного героя?.. Он все больше любил огромную каменную фигуру; и сам того н сознавая, все больше походил на нее.
Прошло много лет, так много, что он превратился в мужчину. Однажды он шел по деревенской площади, и его друзья и соседи, взглянув на него, были потрясены: тот, чей приход обещало старинное предание – среди них!”
Пример Старца Силуана показывает нам, что молитва позволяет охватить одновременно Бога и человека, человека и Бога. Как было сказано в начале, видение глубины вещей позволяет нам познать их реальность, реальную сущность – как нашего видимого ближнего, так и Незримого нашего Ближнего.
Это приводит нас к последнему в исследовании этой встречи: встреча среди человеческого сообщества. Человеческое сообщество предстает нам в двух очень различных аспектах. С одной стороны, это секулярное общество, весь окружающий нас мир людей, неотъемлемой частью которого являемся и мы; с другой стороны – церковное общество, к которому мы тоже принадлежим. В светском обществе присутствие христианина должно быть присутствием Христа. Это предполагает полную самоотдачу. Основоположный акт домостроительства спасения – Воплощение Слова Божия: действие, которым трансцендентный и свободный Бог становится одним из нас, солидаризируется с нами навсегда, навеки. Таков должен быть и христианин. Разве Христос не сказал: Как Меня послал Отец, так и Я вас посылаю.., и добавил: как овец среди волков… Он сказал нам, что мы должны быть в мире, но не от мира. Это обязывает нас идти навстречу миру в его полноте, встречать каждого члена человеческого сообщества лично, но по-своему: перед лицом Божиим, в Боге, и оценивать все по-новому, по примеру Бога, Который пришел не судить мир, но спасти мир, Бога, Который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного для спасения мира. В Евангелии, при встреча Бога с человеком происходит полная переоценка ценностей и суждений. Это не значит, что добро и зло потеряли свое значение; но зло открывается нам как рана, как болезнь, которая постигла нашего ближнего, нас самих. Мы можем ненавидеть зло, без памяти любя ближнего, любя его ценой собственной жизни или смерти. Епископ, пострадавший в России, сказал, что для христианина умереть мучеником – преимущество, потому что только мученик сможет в день Суда встать перед Богом в защиту своих преследователей и сказать: “Господи, в Твое имя и по Твоему примеру я их простил. Тебе больше нечего взыскать с них”. Такая переоценка обусловлена таинством Креста, тем, что невинный погиб за виновного. На Голгофе мы видим три креста: двух разбойников и воплощенного Сына Божия. Разбойник, распятый слева от Господа, судит по человеческим меркам: если беззаконный человеческий суд мог допустить преступное распятие Невинного, такой суд не имеет права называть правым, преступник может восстать против него, проклясть его, отвергнуть, отрицать. Он умирает бунтарем. Разбойник, распятый справа от Господа, видит, что человеческий суд в своей глубинной неправде может осудить Невинного: тем более может он осудить виновного. Он принимает свое страдание и свое осуждение, потому что страдает и Невинный; он примиряется и входит в Рай. С тех пор как Господь Иисус Христос претерпел страсти, с тех пор как Бог, пришедший в мир спасти грешников, имел вид преступника, мы не можем судить преступника так, как его судил древний мир, мы больше не можем доверять безотчетно нашим чувствам и разуму.
В свете Божием мы можем видеть и осуждать дурные поступки – и быть готовыми отдать жизнь за того, кто их совершает. Когда мы становимся их жертвой, мы получаем дополнительную власть, божественную власть простить во времени и в вечности. Это означает, что молитва приводит нас в положение, в котором главное – ежеминутная встреча с миром, ставшим чуждым Богу, и мы делаемся в буквальном смысле слова священнослужителями. Мы должны принести в жертву наше собственное “я”; мы – народ священный, призванный все привести к святости. Когда мы видим зло, мы его осуждаем; но тот, кто творит зло – наш брат, и нам надлежит молиться, жить и умирать за него. И здесь встает тема молитвенного предстательства, которую мы рассмотрим чуть дальше.
Откровение Бога во Христе происходит в среде церковной общины. Встреча в христианском понимании, если она подлинна, обнимает одновременно все пространство этого видимого мира и его глубокое содержание, но также и Бога над этим миром, во всей невидимой реальности того, что Его окружает и в Нем содержится; встреча должна быть в уровень всего сущего. К сожалению, неверующий слеп к незримому. Еще трагичнее то, что часто и христианин как будто слеп к незримому, а порой даже воображает, что есть добродетель в том, чтобы ослепить себя и больше не воспринимать видимое, историю, трагическое становление. Христианское сознание должно охватывать все человеческое сообщество с его проблемами, его вечным и временным становлением; и христианская молитва должна шириться, свободно раскрываться и охватывать все. Если бы мы чаще осознавали значение каждой вещи, если бы мы отдавали себе отчет в том, что в мире нет ничего неосвященного, что мы сами профанируем его, лишаем качества священного, мы бы меньше рассеивались в молитве. Одна из проблем, смущающих молящегося, состоит в том, что между Богом и им, между спокойной, радостной близостью, свободной от всего видимого, и им самим ложится тень мира, в котором мы живем; заботы, которые кажутся слишком приземленными. Слишком часто, когда встает забота, мешающая нам встретить Бога лицом к лицу в углубленном безмолвии или в богато раскрывшейся молитве, мы пытаемся отстранить предмет заботы, беспокойства, потому что нам кажется, что этот предмет стоит преградой между Богом и нами. Нам кажется почти кощунственным, что что-то может привлечь наше внимание, когда мы находимся в присутствии Божием. Думаю, очень часто наша встреча с Богом могла бы произойти в этой общей заботе, связывающей нас с Богом, и вместо того чтобы непрестанной борьбой отстранять вполне законные заботы, нам следует представить их Богу во всех подробностях, конкретно, точно, но и трезво. Представить, как мать может принести больного ребенка к врачу, которому доверяет. Представить заботы Богу и сказать: “Смотри, вот что я могу Тебе о них сказать; а теперь Ты, всеведущий, посмотри Сам, рассуди Сам…”
И когда мы таким образом представили Богу человека или ситуацию, мы должны уметь отрешиться от них. Здесь вступает вера; и то, насколько легко мы сумеем отрешиться от нашей заботы, позволяет нам измерить нашу веру. Если мы можем сказать: “Господи, я все Тебе сказал, теперь сердце мое успокоилось, и я могу тихо побыть с Тобой”, – и если сердце наше действительно мирно, наш ум действительно не смущается больше предметом нашей заботы, значит, вера наша полная, цельная. Мы сложили свою ношу к ногам Божиим, теперь Он принял ее на Свои мощные плечи. Приведенный выше рассказ о монахе, который молился за ближних и постепенно терял из вида землю, потому что проникался сознанием Неба, и в следующий миг находил своих ближних в самой сердцевине Божественной любви, мог бы нас научить тому, как легко встретить Бога, если мы приносим свою заботу Ему, если мы делаем это с искренней любовью, а не сосредотачиваясь на себе. Потому что Бог, Которому мы молимся, есть Бог Истории, Он создал нас, пожелал прожить человеком, стать человеком в самом полном и трагичном, самом богатом и самом низком смысле слова, для того чтобы нас спасти и привести к нашей подлинной мере. Это молитвенное предстательство подразумевает полное принятие всего человеческого состояния, столь же полное и окончательное, как действие Бога в Воплощении, принятие ответственным актом, который поддерживает нашу молитву и делает ее истинной. Молитва без действия – ложь. И это приводит нас к самой сути, природе предстательства.
Предстательствовать не означает напоминать Богу о том, что Он забыл сделать. Смысл предстательства в том, чтобы сделать шаг, который поставит нас в сердцевину ситуации, в точку наибольшего напряжения, как бы заставит вклиниться между двумя противостоящими сторонами с предельной отданностью, ответственностью.
Вот пример времен Первой мировой и Гражданской войны в России, смутной эпохи внешней борьбы и междоусобицы. В небольшом провинциальном городке, который только что перешел из одних рук в другие, оказалась в западне Зоя, молодая женщина лет тридцати с двумя детьми. Ее муж принадлежит противоположному лагерю, она не сумела убежать вовремя, она прячется, надеется спасти жизнь себе и детям. В страхе проходят сутки, затем еще день; к вечеру дверь домушки, где она прячется, открывается и входит соседка, женщина ее же лет, простая, ничем не выделяющаяся среди других женщина. Она спрашивает: “Вы – такая-то?” Мать в страхе отвечает: “Да”. – “Вас обнаружили, – говорит соседка, – сегодня ночью за вами придут и расстреляют, вам надо бежать”. Мать смотрит на детей и отвечает: “Куда же я уйду? Как бежать с малышами? Они не смогут идти быстро, они не уйдут далеко; да и как меня не узнать – женщину с двумя детьми, которую ищут?” И эта соседка, за миг до того незнакомая, вдруг перестает быть соседкой и становится тем великим, величественным, что Евангелие называет ближним – самым близким, тем, кто ближе всех; она становится ближней этой матери и ее детям и говорит ей с улыбкой: “Вас не будут искать, потому что я останусь вместо вас”. Мать, вероятно, возражает: “Но вас расстреляют!” И та отвечает: “Да, но у меня нет детей; вы должны уйти”. И мать уходит.
Я рассказываю не о простой жертвенности; я хочу подчеркнуть некоторые моменты этого поступка, которые дают ему ценность и значение во Христе, которые через Крест приводят нас к понятию Воскресения и Жизни Того, Кто велик в малых сих.
Мать ушла, и эта молодая женщина (ее звали Наталья) осталась. Я не пытаюсь представить, что происходило в эту ночь, я хотел бы только провести некоторые параллели, которые, мне кажется, мы вправе провести. Наступала ночь, холодало; осенняя, сырая ночь быстро окутывала ее одиночеством. Эта молодая женщина, одна, оторванная от всех, которой нечего ожидать, кроме смерти, находится перед лицом этой неминуемой смерти, – смерти, которой она никак непричастна: она молода, она жива, и убить должны были не ее. Вспомните Гефсиманский сад. Здесь тоже в холодной, плотной ночи, неподалеку от ближайших друзей, уснувших от усталости и печали, был Человек, тоже молодой, около тридцати лет, Который ждал прихода смерти, ждал, что Его убьют за других, потому что Он согласился на смерть, чтобы человек, друг Его, и каждый человек в отдельности – вы, я, ты, и она, и они, и мы – чтобы каждый был спасен, чтобы каждый избежал этой ночи, которой Он был пленником. Мы знаем из Писаний, как в тоске Он воззвал к Отцу, знаем о кровавом поте, знаем, что, не выдержав одиночества перед грядущей смертью, Он пошел к ученикам: не бодрствует ли кто из них? – и вернулся одиноко, чтобы встретить лицом к лицу смерть, чужую, заимствованную, невозможную, немыслимую смерть. Вот первый образ: Наталья во Христе.
Верно, Наталья не раз подходила к двери, смотрела и думала: стоит открыть дверь – и я уже не Зоя, я снова Наталья, я не обречена на смерть, никто меня не тронет… Но она не вышла. Мы можем измерить, что означает эта тоска, этот ужас, вспомнив двор в доме Каиафы. Петр – камень, Петр, крепчайший апостол, который заявил Христу, что не отречется от Него, даже если все остальные отрекутся, пойдет с Ним на смерть, – Петр сталкивается с молодой женщиной, служанкой, и достаточно этой служанке сказать: “И ты от них”, чтобы он отозвался: “Нет, не знаю я этого Человека!” Он отходит; снова отрекается: и в третий раз запечатлевает свой отказ; и затем оборачивается и встречается взором со Христом. Наталья тоже могла бы отречься, сказать: “Я не хочу умереть, я отказываюсь, ухожу на свободу”. Но она этого не сделал. Эта хрупкая женщина двадцати семи или тридцати лет силой Христовой смогла устоять там, где вся человеческая крепость Петра не устояла, – прежде Воскресения, прежде победы Божией за нас и в нас.
Кроме того, эта молодая женщина, должно быть, задавалась вопросом, не напрасна ли будет ее смерть. Умереть, чтобы мать с детьми спаслись – да, можно; но какая ужасная, трагическая нелепость, если и их схватят, и ее расстреляют… Вспомните величайшего из рожденных женами, Иоанна Крестителя. В конце жизни, тоже перед лицом неминуемой смерти, Иоанн Креститель посылает двух учеников спросить у Христа: “Ты ли Тот, Кого мы ожидали, или ждать нам другого?” Сколько трагизма в этой фразе, которая кажется простым, незначительным вопросом! Иоанн умрет, потому что был Предтечей, Пророком и Крестителем Христа; и перед грядущей смертью вдруг у него встает сомнение: а вдруг я ошибался, вдруг Тот, Кого я возвещал, еще должен прийти, вдруг Тот, Кому я принес свое свидетельство во имя Самого Бога – не Он? Напрасны тогда все годы подвижнической, нечеловеческой жизни в пустыне, отказ от себя, вследствие которого Писание называет его гласом вопиющего в пустыне, даже не пророком, говорящим во имя Божие, но голосом Божиим, который звучит через человека, настолько отождествившегося с этим голосом, что уже неважно, Иоанн то или кто-то иной, – говорит лишь Бог. А теперь это стояние перед смертью: если Иисус из Назарета действительно Тот, все это стоило делать; но если Он не Тот, тогда Иоанн обманут Самом Богом… Как и Наталья, окутанная безмолвием ночи и одиночеством, Пророк не получил никакого ответа, вернее, получил ответ, достойный пророка: “Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели, – слепые видят, хромые ходят, нищие благовествуют, блажен, кто не соблазнится о Мне”. В темнице, где его ждет смерть, он должен стать перед лицом всего своего прошлого и всего настоящего, грядущей своей смерти, одиноко, с полной, самовластной ответственностью человека, во всем величии этого слова. Наталья тоже не получила никакого ответа. Теперь-то я мог бы ей сказать, что Зоя была спасена, что ее детям теперь за пятьдесят лет, многое еще мог бы ей сказать. Но она этого никогда не узнала и была расстреляна среди ночи.
Но в акте предстательства есть еще нечто помимо жертвенности: кроме Голгофы и Гефсиманского сада есть Воскресение – в меру нашего участия в тайне Христовой, но и в меру нашего человеческого убожества. Вы, наверное, помните место у апостола Павла, где он говорит: Уже не я живу, но живет во мне Христос… И моментами мы задумываемся: что значат эти слова, что они охватывают? Зоя и ее дети твердо знают одно: что они живут чужой жизнью, взятой взаймы, их собственная жизнь кончилась с Натальей, ее жизнь продолжается в их земном бытии. Они живы – потому что она умерла, она взяла на себя их смерть, она отдала им свою жизнь. Они живут жизнью, которая целиком принадлежит ей.
Здесь мы можем понять, может быть, на человеческом уровне, в миниатюре, что-то очень великое, когда речь идет действительно о человеческой трагедии и о тайне спасения. Мы можем понять также самое жестокое, четкое, требовательное значение предстательства. Мы часто предстательствуем перед Богом, прося Его покрыть Своей милостью, любовью, Своей властью тех, кто в этом нуждается; но предстательство – нечто большее. Interceder по-латински значит “сделать шаг, который поставит нас в самую сердцевину ситуации” – подобно человеку, который видит, что двое других готовы вступить в драку, и становится между ними, солидаризируясь с обоими. Первый образ, какой приходит на ум, это слова страдальца в девятой главе книги Иова: Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас, то есть: “Где тот, кто станет между мной и Судьей моим?” Где тот, кто в этом споре между Богом Живым и Его жалким созданием осмелится сделать шаг и встать посредником, разделить их и вновь соединить? Разделить их противостояние, которое делает их пленниками друг друга, соединить в свободе, восстанавливающей гармонию? Этого Посредника мы находим во Христе: Человек, Который был Богом, Слово Воплощенное делает этот шаг, становится между падшим, осужденным человеком – и Богом; равный Богу и равный человеку, до конца солидарный с Богом, потому что Он Сам Бог, до конца солидарный с человеком, потому что Он – человек и готов в Своей человеческой плоти понести все последствия Божественной любви. Вот акт предстательства, вот что означает этот шаг, который ставит нас в сердцевину ситуации навсегда, навечно, потому что Христос, родившийся от Девы – умер на Кресте, воскрес и в Вознесении унес эту плоть человеческую в сердцевину Троичной Тайны.
На примере Наталии мы видим, что Христос истинно есть Путь, – путь жизни, само бытие христианина. Мы видим также, что нет иной правды человеческой и Божественной, и что только это и ведет к жизни, – жизни преизбыточествующей, настолько полной, что она не только наполняет вечностью того, кто несет ее, но переливается через край и изливается на тех, кто вокруг, бесконечно, из века в век даруя им ценой Распятия спасение и жизнь вечную. Это победа мученика, победа слабого над сильным, победа того, что до конца уязвимо, то есть любви Божественной или человеческой, над тем, что кажется сильным – над ненавистью, которая оказывается разбита и непрочна.
Помимо такой полной и трагической отданности, какую проявила Наталья, мы бываем связаны с миром почти неприметным образом, но имеющим очень большое значение, – просто своим присутствием. Вы в мире, но не от мира, – сказал Христос. Мне кажется, что самый ярким тому пример – место Пресвятой Богородицы в рассказе о браке в Кане Галилейской. Бедная свадьба. Люди с чистым и недвоящимся сердцем пригласили Христа, и Господь не отказался разделить их праздник. Его Мать и ученики здесь же. В какой-то момент, когда сердца еще жаждут радости, препятствием встает человеческая бедность: нет больше вина. И тут идет обмен фразами, которые кажутся никак не связанными между собой. У них нет вина, – говорит Пресвятая Богородица. Что Мне и Тебе, Жено? – отвечает Христос, – час Мой еще не настал. И вместо того, чтобы сказать Господу, что Она Его Мать, что любви, состраданию всегда час, Она ничего Ему не отвечает. Она просто обращается к слугам и говорит им: Что бы Он вам ни сказал, то сделайте. И Христос, вопреки тому, что Сам только что сказал, благословляет воду омовения, и она становится вином Царствия. Как понять этот разговор и мнимое противоречие между словами и действием Христа? Не значил ли вопрос Христа к Матери: “Почему Ты обращаешься ко Мне? Потому ли, что Ты – Моя Мать по естеству, Ты родила Меня, потому ли, что Ты ближе всех Мне? Если так, Я ничего не могу сделать, час Мой еще не пришел, потому что Царство еще не настало”. И Богородица, не отвечая Ему, устанавливает Царство тем, что проявляет полную веру в Него, и слова, которые Она слагала в сердце с самого начала, с Благовещения, приносят плод на богатой и святой почве, и Она видит в Сыне то, что Он на самом деле есть: Слово Божие. Условия Царствия устанавливаются, Бог встречает Создание, до конца Ему предавшееся, открывшееся, до конца верящее в Него. Он может действовать свободно, не насилуя природу, царственно, потому что Он в Своей области. И Он творит первое евангельское чудо.
Это место Богородицы может стать местом каждого из нас. Мы все можем сделать реальным присутствие Царствия Божия там, где находимся, где бы то ни было, какое бы неверие, какая бы неверность или сомнения нас ни окружали, просто веря до конца Господу, будучи детьми Царствия. В этом – акт предстательства, который имеет первостепенное значение. Своим присутствием в какой-то ситуации мы коренным образом переворачиваем ее, потому что с нами в нее входит Бог, Он присутствует в ней нашей верой: будь то в нашей семье, среди друзей, в момент вспыхнувшей ссоры, где проявляется несогласие, где непонимание начинает разъединять тех, кто были едины; будь то на работе или просто в дороге, в метро, на улице, в поезде… Там, где мы среди людей, устремленных к своему вечному назначению, мы всегда можем сосредоточиться, внутренне уединиться и сказать: “Господи, я верю Тебе; приди и будь среди нас!” И в этом акте доверия, в созерцательной молитве, которая не просит видения, которая довольствуется обещанием Божиим быть там, где Его призовут на помощь, мы можем осуществить свое предстательство. Порой нам недостает слов, порой мы не умеем поступить с мудростью, но мы всегда можем просить Богу прийти и быть с нами. И тогда мы часто увидим, как меняется атмосфера, ссора прекращается, снова водворяется мир. Это немаловажная форма предстательства, хотя она менее ярка, чем то, что мы считаем большой жертвенностью. И мы еще раз видим, насколько неразрывно связаны действие и созерцание, видим, что невозможно действовать по-христиански вне созерцательного момента. Мы видим также, что созерцание не есть только Боговидение, оно есть прозрение в глубину, которое позволяет нам видеть суть вещей, различать их вечное значение; созерцание есть видение не только мира, но и мира в Боге.
В центра этой всечеловеческой общности, этого видимого мира, который гораздо шире человеческого общества, присутствует община, которая одна только способна охватить и трансцендентное, и непосредственное призвание того, что ее окружает: это Церковь, общество избранных, и избрание это означает для членов общины не привилегии и права, а служение. Христос обещал, что пошлет нас, как овец среди волков; в вечер Своего Воскресения Он заповедал нам выйти в мир, как Его послал Отец. Он нас предупредил, что мы на земле – как бы небесное поселение, авангард Царствия Божия, мы соратники Господни в деле освобождения мира от сил зла и смерти. Церковь можно определить только извне; изнутри она – сама тайна внутренней жизни и углубления в Боге; она – тайна встречи, Присутствия и приобщенности. Она далеко превосходит человеческое общество, обращенное к Богу, послушное Ему, собранное вокруг Него; она – живое тело, одновременно Божественное и человеческое. У нее есть эмпирический аспект: мы; есть и вечный аспект: Бог, Бог в нас и мы в Нем. С одной стороны, по определению св. Ефрема Сирина, Церковь – не собрание праведных, а толпа кающихся грешников; она в тоске взывает к Богу; она сама нуждается в спасении. С другой стороны, она не только in via, она уже достигла и цели: Бог здесь, она нашла покой в Нем. Ее богочеловеческая природа сложна; такова же и ее человеческая сторона. Она открывается как в грешнике, который нуждается в спасении, так и в Воплощенном Слове, истинном Боге и истинном человеке. Только Он являет подлинную меру человечества как места присутствия Святого Духа; Того Духа, Который созидает из нас тело Христово, всецелого Христа (по смелому слову одного из Отцов Церкви, мы когда-то станем Им, единородным сыном в Единородном Сыне); Духа Божия, научающего нас обращаться к Отцу Слова как к своему Отцу.
Церковь – таинственный организм, где действием Духа мы становимся тем, что есть Христос; Он пожелал стать тем, что есть мы, и наша жизнь сокрыта со Христом в Боге.Существенное отличие Церкви от мира – ее эсхатологическое измерение. Она принадлежит уже будущему веку, и поэтому Дух Божий пронизывает всю жизнь Церкви. Поэтому к Нему мы обращаем нашу молитву при совершении Евхаристии. Царство Божие, Царство будущего века уже здесь, и в нем все уже завершено. Бог уже все во всем; Хлеб и Вино уже содержат Божество. Церковь знает все – и предметы, людей – не только в их всегда трагичном временном становлении, но и в их последнем завершении и зрелости, и поэтому она может возносить благодарение за все изнутри этого трагического и часто жестокого мира. Благодарить за все можно, только если мы умеем видеть все в завершенности, иначе наше благодарение – признак бесчувственности, которой нам не может простить ни мир, ни Бог. Мы должны уметь изнутри своего опыта повернуться к Богу и сказать вместе с праведниками: Ты был прав, Господи, во всех путях Твоих… Церковь способна на это, потому что у нее есть такое видение. Это не только видение мира, потемненного грехом, но видение, в котором уже восходит заря Преображения, в котором уже действует Воскресение; это видение пронизано вечной жизнью, которая, изливаясь в этот мир, шаг за шагом, час за часом покоряет его вечности.
Поэтому-то Церковь не знает различия между живыми и усопшими, которое вне ее полно тревоги и смущения. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых; для Него все живы, – все живы и для Церкви. Только изнутри этого эсхатологического опыта можем мы ожидать смерть, словно огромную надежду, и призывать час суда, приход Христов в радости, взывать вместе с Духом и Церковью: Гряди, Господи Иисусе, и гряди скоро! История и вечность нераздельно соединены в этих эсхатологических и евхаристических категориях; и молитва Церкви обнимает и охватывает не только ее членов, но через них или ради них, благодаря им – весь мир, рассматриваемый как потенциальная Церковь, всецелая Церковь, которой мы чаем. И в Церкви, в этом становлении в рамках эсхатологии, где, как указывает греческое слов, все уже завершено, но одновременно – в становлении, у нас есть, через общение святых и грешников, живая связь со всеми живущими и со всеми усопшими.
Что же означает наша молитва за усопших? Разве мы просим Господа проявить несправедливость? Конечно, нет. Этой молитвой мы свидетельствуем, что они прожили не напрасно. Мы доказываем, что среди тысячи незначительных мелочей, которые заполняли их жизнь, они сумели бросить семя любви. Мы молимся о них потому, что в нашем сердце есть любовь и благодарность, живое воспоминание их присутствия среди нас, и это свидетельство мы приносим молитвой за них; и эта молитва, как любая другая, должна быть подтверждена нашей жизнью. Если в своей жизни мы не принесем плод того, чему нас научили усопшие, то наша молитва за них будет хотя и не напрасна, но слаба, она не взлетит ввысь. Мы должны быть в состоянии сказать: “Господи, посмотри – этот человек прожил, он посеял в моем сердце любовь, он посеял в моей жизни примеры, которым я следую”. Придет день, когда все будет завершено, мы сможем встать и сказать: “Господи, добро, которое ты видишь в моей жизни, не мое, оно – его; прими его, пусть оно будет его славой или, может, его прощением”. Вспомните молитву, написанную человеком в концентрационном лагере. Я не могу воспроизвести ее дословно, но там говорилось следующее: Господи, когда придет время суда и возмездия, не вмени мучителям тех страданий, которые они нам причинили, но взгляни на плоды этих страданий в нас: на наше терпение, на взаимное товарищество, на взаимную любовь, и т.д., и пусть эти плоды будут их оправданием… только бы мы не были для них призраком ужаса, а их спасением!.. Как я передаю, оно звучит очень слабо, но это самое потрясающее, что я читал .
Жизнь каждого из нас не прекращается в день смерти на земле, рождения на небе. Каждый из нас накладывает печать на всякого встреченного человека. И здесь –ответственность, непрерывно переходящая через века. Эта посмертная жизнь глубоко и неразрывно связана с жизнью живущих на земле, и ответственность выражается в наших молитвах за умерших. Через них мы уже не полностью принадлежим земле; в нас, во всех тех, на ком усопшие оставили отпечаток своей личности, дорогие нам усопшие люди еще принадлежат истории и становлению мира. Эти молитвы существенно важны, так как являются одним из выражений жизни, которая охватывает и объединяет всех людей, все человеческое сообщество.
Однако, мы молимся особенно не только за некоторых людей, но и некоторым людям; мы молимся Богородице и святым. Это не означает, будто мы противопоставляем их благость строгой правде Божией. Мы молимся им потому, что знаем, что их воля едина с волей Божией, и что наше обращение к ним создает не противопоставление, а гармонию, которая объединяет в любви всех, и живых и умерших. Если наш Бог действительно не есть Бог мертвых, а Бог живых, разве не естественно нам обращать молитвы к тем из них, кто для нас особенно близок, является ярким примером? Каждый из нас может найти среди церковных святых тех, кто ему наиболее понятен, чей образ особенно много говорит нам. Мы не делаем радикального различия между теми, чья святость признана и провозглашена, и неканонизованными людьми. Некоторые святые были выделены Богом и явлены как примеры для христиан; это не означает, что другие не таковы. Мы свободно можем обращаться с молитвами к усопшим родителям или друзьям, в этом нет кощунства.
Молитвы, которые мы обращаем к Пресвятой Богородице, носят особую печать. Среди земнородных, Она ближе всех ко Христу, и не потому, что Она дал Ему тело Воплощения, но потому что Она действительно Его Мать, Она связана с Ним не только физически, но и метафизически, духовно. В наших молитвах к Ней всегда есть глубоко трогательный момент. Наши грехи были причиной смерти Христа на Кресте – и Ее, Мать нашего Господа, мы призываем на помощь. Всякая молитва, обращенная к Ней, может быть переведена в такие слова: “Мать, я убил Твоего Сына… Но если Ты простишь – никто меня не осудит”. Вот что подразумевает наша вера, наша любовь к Той, Которая отдала Своего Сына на распятие без единого слова, без жеста, полной отдачей, в полной приобщенности намерению и воле Божией.
Еще несколько слов о литургической молитве. Эта молитва, постоянно совершаемая в Церкви, в сердцевине видимого мира, не только мира людей, но мира предметов, некоторым представляется лишенной непосредственности. Она кажется слишком четко определенной, заключенной в жесткие формы. Она действительно такова, потому что ее цель – не только выразить общее, общинное человеческое чувство, но и воспитать. Она также должна быть откровением красоты – не только красоты уже существующей, но выражением того, чем мир мог бы стать, чем он призван быть в Боге: всеобщей гармонией, равновесием всего в Боге. Можно было бы без труда показать на множестве мелких деталей, как православное богослужение раскрывает все библейское откровение – в молитве, в жестах, в иконе, в движении. Это очень важный элемент богослужения. Оно – школа духовной жизни, оно – некая точка, встреча с Богом и с миром в Боге. В нем есть подлинная непосредственность, которая, однако, превосходит эмпирическое чувство каждого из его участников. Это священное чувство, которого уже достигла община; сама община больше нас и в Боге превосходит самоё себя; это священная встреча, в сердцевина которое главное: таинственное предстояние лицом к лицу с Богом, где Бог встречает человека не только через слово и незримую благодать, но и через преображенное вещество. Воды Крещения, приносимые Богу актом веры и верности, становятся не только первозданными водами, но и той водой, которую Христос обещал самарянке. Хлеб и вино, уже ставшие Телом и Кровью Христовыми, предвосхищают день, когда Бог будет все во всем. Но за пределом этой личной встречи Бога и людей в Церкви, за пределом встречи человека с миром, открываемым в Боге, есть суровое, трагическое противостояние христианина и мира, куда христианин входит, чтобы послужит миру по образу Сына Божия, ставшего человеком в акте подлинного и полного, окончательного и безвозвратного Воплощения. Сын Божий воплотился, так сказать, до конца, Он сделался неотъемлемой частью человеческого становления, и в этом процессе молитва становится предстательством и предстательство делается совершенной Голгофской жертвой.
Между экстазом, невыразимостью встречи и нашим присутствием в мире есть напряжение, несоответствие: оно отражает неспособность человека жить полнотой Божественной жизни и не терять притом связи с собственной, личной, узкой жизнью. По слову Симеона Нового Богослова, это удел новоначальных; совершенство, идеал – в постоянном, неизменном единстве, охватывающем всего человека, дух, душу и тело, без преткновения или колебаний, по образу Господа Иисуса Христа и некоторых святых. Совлекшаяся внешнего мира, свободная от борьбы, от сомнений и забот, душа приобретает доселе ей неведомые трезвость, внимание, силу и ясность. Чувство живо, горячо, чисто; свободное от всякой эмоции или страсти, оно является (в своих внешних выражениях) силой и светом. Вовсе не затемняя мысль, как свойственно эмоциям, чувство ведет ее к расцвету, помогает раскрыться. Мысль все время остается до конца, глубоко сознательная и свободная; душа в этом делании никогда не бывает пассивна; освободившись от самозамкнутости, она предается Богу, и то хранит полное самообладание и может по желанию безмолвствовать либо творить молитву; то слова, которые она употребляет, сами рождаются в сердце и уме молящегося, так что он не может их менять, выбирать или направлять; то она становится неизреченным молчанием в человеке, преодолевшем узы чувственного мира, и он в полном безмолвии всех душевных сил созерцает нетварный Божественный свет, тайны мироздания, собственной души и тела (св. Исаак Сирин; цит. по: Преп. Нил Сорский. Предание о жительстве скитском).
Всякая истинная молитва, то есть совершаемая в полном смирении, в отказе от обращенности на себя, во всецелом предании себя Богу, рано или поздно получает живоносную благодать Духа Святого. Она становится закваской каждого действия и служит его мерилом, она является всем в жизни, перестает быть “действием” и превращается в само бытие, делается излиянием Того, Кто исполняет все и все ведет к полноте.
* Пер. с франц. Название оригинала “La Priиre” (“Молитва”). Русское название заимствовано из английской версии текста. В самиздате встречался перевод именно с этой (слегка сокращенной) версии
О Молитве Господней, казалось бы, говоpить нечего. Мы все ее употpебляем, с детства знаем, она постоянно нам попадается в службах, и мы к ней естественно обpащаемся, отчасти из-за ее изумительной стpойности и кpасоты, отчасти – зная, что это молитва, котоpая нам дана Самим Спасителем Хpистом, и поэтому она святыня для нас, это Его собственная молитва, котоpой Он с нами поделился. Я думаю, что мы должны помнить, когда молимся этой молитвой: это молитва Сына Божия, ставшего сыном человеческим, котоpая выpажает все Его сыновство (и многое дpугое, что к этому ведет, – к чему я еще веpнусь).
Для меня Молитва Господня годами была самой тpудной молитвой. Разумеется, каждое отдельное пpедложение доступно и понятно каждому в пpеделах его духовного pоста или углубленности или опыта, но в целом она меня не то что не удовлетвоpяла – я не мог найти к ней ключа. И в какой-то момент я обнаpужил в ней нечто, чем хочу с вами поделиться: она – не только молитва, она – целый путь духовной жизни (к этому я тоже веpнусь).
Мне Молитва Господня пpедставляется как бы pазделенной на две части. Пеpвая – пpизывание: Отче наш и тpи пpошения.
Эти тpи пpошения ясно пpедставляют собой молитву сыновства, но не нашего относительного сыновства – мы ведь блудные дети нашего Небесного Отца, мы –колеблющиеся, ищущие, а это – слова, котоpые мог сказать только совеpшенный Человек, Котоpый есть и совеpшенный Бог. Это молитва сыновства в полном смысле этого слова. А затем идут пpошения, котоpые, как мне кажется, к этому сыновству ведут или котоpые могут служить путеводной звездой к тому, чтобы выpасти в это сыновство. И вот я попpобую вам сказать нечто об этих двух частях.
Пеpвое, что меня поpажает, что меня удивляет в себе, удивляет и в дpугих: когда мы говоpим Отче наш, мы всегда думаем, что это молитва, котоpая нас всех, веpующих, пpавославных или пpихожан одного хpама, или членов одной семьи, выpажает вместе; и я до сих поp не встpечал никого, кто бы ощутил, что когда Хpистос нас сказал Отче наш, Он говоpил о том, что это Отец Его – и наш, этим как бы пpедваpяя момент, когда позже, в течение Евангельской истоpии, Он Своих учеников назвал бpатьями Своими. Это замечательная вещь, это потpясающая вещь, потому что если бы pечь шла о том, что мы пpизнаем отцовство Божие для нас, это было бы уже так много; но когда мы думаем, что это отцовство включает Единоpодного Сына Божия, что отцовство в этом пpизывании ставит нас и Его в одно и то же положение по отношению к Богу Отцу, это нечто, как мне кажется, такое потpясающее, такое глубокое…
Отцовство имеет особенные свойства. Отец – это тот, кто является источником нашей жизни. Отец – тот, кто эту жизнь в нас воспитывает, но воспитывает стpогим тpебованием безгpаничной любви, кто ни на какие компpомиссы не готов идти и тpебует от нас, чтобы мы были тем, к чему мы пpизваны, кто не удовлетвоpяется ничем в нас, что ниже нашего достоинства. К пpимеpу, возьмите пpитчу о блудном сыне. Вы помните, как блудный сын, опомнившись, идет отбpатно к отчему дому. И по доpоге он повтоpяет для себя – не то что заучивает наизусть, но в его душе плачет молитва: Отче, я согpешил пpотив неба и пеpед тобой, я недостоин называться сыном твоим; пpими меня как одного из твоих наемников…Это плач души, это не повтоpение того, что он скажет отцу, – он это чувствует все вpемя и идет к отцу, несмотpя на свою недостойную жизнь. Хоть он недостоин, но он знает, что отец остался отцом, что любовь не поколебалась даже когда сын ему сказал: “Я не могу дождаться момента твоей смеpти для того, чтобы начать жить. Давай сговоpимся: умpи для меня, дай мне ту долю богатства, котоpую я получил бы после твоей физической смеpти, уговоpимся, что тебя нет больше…” Даже тогда отец не обмолвился ни одним упpеком, а пpосто дал ему его долю имущества и отпустил с миpом. И вот, вспоминая это, юноша идет домой именно к отцу – не к судье, не к чужому человеку, не в надежде, что его “может быть” пpимут. Это слово “отец” значит, что у него надежда еще не умеpла. Но обpатили ли вы внимание, что, когда он пеpед лицом отца хочет пpоизнести свою исповедь, отец ему не дает сказать последние слова. Сын пpоизносит: Отче, я согpешил пpотив неба и пеpед тобой, я недостоин называться твоим сыном… – и тут его отец пpеpывает: сын или дочь могут быть недостойными детьми своего отца или матеpи, но никаким обpазом не могут пеpестpоить свои отношения на отношения достойных наемников или pабов. Отец не может его пpинять как наемника, как pаба, он его может пpинять только как сына: кающегося – да, недостойного по своему поведению – да; но как сына и не иначе. И вот, стpашно для нас важно, что Бог никогда не пpимиpится с тем, чтобы мы были ниже своего уpовня. Это – отцовство Божие. И когда в этом контексте мы думаем о том, что Хpистос нам дает эту молитву и говоpит Отче наш, то пеpед нами вдpуг выpастает обpаз того, что мы собой должны бы пpедставлять. Если мы действительно бpатья и сестpы Единоpодного Сына Божия, ставшего сыном человеческим, то вот меpа нашего человечества – не меньше. Мы должны быть иконами Хpиста; и больше, чем иконами: мы должны так сpодниться со Хpистом, чтобы все, что можно сказать о Хpисте, в свое вpемя, когда все будет завеpшено, могло бы быть сказано о нас. И это не легкомысленное замечание с моей стоpоны, потому что есть место в писаниях святого Иpинея Лионского, где он говоpит (это не точная цитата, но мысль его я пеpедаю), что, когда пpидет конец вpемен, все человечество в единении с Единоpодным Сыном Божиим силой Святого Духа станет единоpодным сыном Божиим. Гpань между Единоpодным Сыном Божиим и детьми Божиими по благодати сотpется, потому что наше единство со Хpистом будет всечеловечеством пеpед Лицом Божиим, и в центpе этого спасеного и достигшего своей полноты всечеловечества, когда Бог будет все во всем (1 Коp.15,28) – имя Иисуса Хpиста.
Таким обpазом, когда мы говоpим Отче наш, мы должны понимать, что беpем на себя это непостижимое пpизвание и готовность на это непостижимое состояние, что мы не только бpатья и сестpы Хpистовы по человечеству, но что ничто меньшее, чем полнота обpаза Хpиста, недостаточно, чтобы мы были полностью самими собой. Это тpебует многого. Это не пpосьба к Богу, чтобы Он сделал для нас то, чего мы не делаем ни для себя, ни для Него; это пpизыв к тому, чтобы мы были геpоичны в искании той полноты, котоpой, конечно, мы не можем достигнуть своими силами, но котоpая является нашим пpизванием; и мы не имеем пpава о себе думать ниже этого, мы должны быть достаточно смиpенны, чтобы пpинять это величие и склониться пеpед ним – да, но и выполнить его. А если поставить вопpос о том, каким обpазом это можно сделать, я на это отвечу словами, котоpые Господь сказал апостолу Павлу, когда тот пpосил силы для того, чтобы осуществить свое дело. Господь ему сказал: Довлеет тебе благодать Моя, силя Моя в немощи совеpшается (2 Коp.12,9).
И конечно, немощь, о котоpой здесь говоpится, не наша лень, не наша косность, не наше малодушие, но это та тваpная хpупкость, котоpая делается пpозpачной для воздействия Божества, котоpая делается гибкой в pуке Божией, когда мы Богу отдаемся с веpой, довеpием, в послушании. Так что, как Спаситель сказал в Евангелии, невозможное человеку возможно Богу (Лк.18,27). И поэтому мы должны веpить, что это возможно. Опять-таки, Павел говоpит: все мне возможно в укpепляющем меня Господе Иисусе Хpисте (Флп.4,13). Так что тут и пpизвание, котоpое свеpх наших сил, и увеpенность, что мы можем выpасти в меpу этого пpизвания – выpасти не оpганически, а подвижнически; это тpебование, котоpое пеpед нами ставится.
И эти слова – пpостые, такие пpивычные: Отче наш – нас вдpуг ставят пеpед лицом нашего бpатства со Хpистом и непостижимым величием нашего пpизвания, и увеpенностью,что это пpизвание может быть исполнено силой Божественной благодати, если только мы отдадим себя Богу именно, как я сказал, гибкостью, пpозpачностью, послушанием.
И тут я хотел бы сказать, что послушание не есть повиновение, поpабощение; оно – состояние человека, котоpый всеми силами своего существа – и ума, и сеpдца, и всего – пpислушивается: пpислушивается к голосу своей совести, пpислушивается к слову евангельскому, пpислушивается к таинственному голосу Святого Духа, Котоpый невыpазимыми стенаниями (Рим,8,26) говоpит в нем или минутами с ясностью учит его говоpить небесному Отцу Авва, Отче (Рим.8,15).
А дальше идут пpошения. Отче наш, Иже еси на небесех – на этом и останавливаться не стоит в том смысле, что ясно: мы не говоpим, что Бог живет где-то над тучей или в пpостpанственном положении; небо – это то место, где Бог есть, так же как дpевний шеол, дpевний ад, каким он был до сошествия туда Самого Хpиста, был местом всеконечного, безнадежного pазлучения от Бога. Значит, мы говоpим опять-таки о том, откуда пpишел Хpистос, куда Он веpнулся вознесением и где мы потенциально находимся. Вы ведь, навеpное, помните то место у апостола Павла, где он говоpит, что наша жизнь сокpыта со Хpистом в Боге (Кол.3,3). Он – Всечеловек; каждый из нас, все мы вместе в Нем как бы уже находимся потенциально как возможность или, веpнее, как постоянное вpастание в эту тайну; поэтому мы можем смотpеть на пpестол Божий и видеть в нем подлинно, истинно Человека. Об этом Иоанн Зластоуст говоpит: если вы хотите знать, что такое человек, не смотpите в стоpону цаpских пpестолов или палат вельмож – поднимите глаза к пpестолу Божию и увидите одесную Бога и Отца – Человека в полном смысле. Но когда мы Его видим, мы видим то, чем мы пpизваны быть. И мы не имеем ни пpава, ни возможности на себя смотpеть иначе; это наше пpизвание, это воля Божия о нас. Бог в нас настолько веpит, что Он нам дает такое пpизвание.
Я помню одного “культуpного” человека, котоpый очень пpостому священнику объяснял, что он, конечно, не может веpить, потому что чего только не изучал: и богословие, и философию, и истоpию изучал… Священник был пpостенький, бывший деpевенский священник, попавший за гpаницу. Он на него посмотpел и говоpит: “А pазве важно, что ты в Бога не веpишь? Какой Ему вpед от этого? А вот замечательно то, что Бог в тебя веpит…” Вот наше положение: Бог в нас веpит, и значит, мы можем быть спокойны; только отзовись на эту веpу послушанием, то есть слушанием всем существом того, что Он имеет сказать – и это исполнится.
И вот – Да святится имя Твое. “Святиться” – с одной стоpоны, от слова “свят”, с дpугой – говоpит о сиянии. Я сейчас не путаю оба слова, но когда мы говоpим о святыне, мы говоpим о чем-то, что пpеисполнено света. Аз есмь свет миpу (Ин.8,12); вы посланы как свет в этот миp (Мф.5,14). И так пpосто было бы понять значение этих слов, если бы мы пpосто к ним подходили. Именно: пpедставьте себе, какая была бы pеакция каждого из нас, если имя самого любимого нами человека употpебляли бы в гpязной шутке или каким-нибудь поpочащим обpазом; какое было бы в нас возмущение и больше того – какая была бы нестеpпимая боль, что имя моей матеpи так употpебляют, имя моей Родины так употpебляют, имя того, что для меня – святыня, так употpебляют. В этом вся пpостота этого пpошения. Если бы для нас Бог был не самым любимым (мы ведь не можем хвалиться тем, что любим Бога больше, чем pодителей, pодных, детей), но если бы бы мы любили Его хоть сколько-то, нам было бы невыносимо, что имя Божие пpоизносится в контексте, не достойном Его… Это мы встpечаем в истоpии.
Два пpимеpа я вам могу дать. В Сибиpи в стаpое вpемя было племя (есть ли сейчас – не знаю), котоpое не имело слова для Бога, потому что они считали, что Его нельзя назвать, что это слишком святое Существо, чтобы Ему дать земное имя. И они были пpавы, потому что только вполотившийся Бог мог получить земное имя Иисус. И когда они в pазговоpе хотели обозначить Бога, они делали паузу и поднимали pуку к небу, указывая, что они говоpят “о Нем”, но имени Ему они не давали.
Втоpое: есть замечательное место в писаниях Маймонида, евpейского писателя ХII века, об имени Божием. Он говоpит, что в дpевнеевpейской тpадиции имя и существо совпали. Настоящее имя – не кличка, как Петp, Иван, или фамилия, а настоящее имя – то самое имя, котоpое пpознес Бог, когда Он вызвал каждого из нас из небытия, – совпадает с человеком или с данным существом, и поэтому нельзя пpоизносить имя Божие даже в богослужении всенаpодно, потому что не каждый может понести эту тяжесть или пpеклониться должным обpазом пеpед этой святыней. И Маймонид говоpит, что когда наpод собиpался в хpам, когда поднимались молитвы, когда пение псалмов звучало, гpемело в хpаме, Пеpвосвященник, котоpый единственный знал, как пpоизнести эти четыpе буквы имени Божия (YHWH – пpочесть их можно было, только если знать, какие гласные дают жизнь этому слову, и знал это тогда единственно Пеpвосвященник), нагибался и тихо пpоизносил это имя, и оно, говоpит Маймонид, словно кpовь, бежало чеpез всю эту молитву, и молитва, котоpая была как бы меpтвым телом, вдpуг оживала и возносилась к Богу. Вот то чувство, котоpое пpодиктовано евpейским ощущением имени Божия и котоpое мы можем понять из этих пpимеpов; вот что такое имя доpогого человека. Но узнав, что значит беpечь, обеpегать имя любимого человека, мы можем соответственно учиться – и всю жизнь учиться – относиться к имени Божию именно с таким чувством, что это святыня и что сказать “Бог”, сказать “Иисус”, сказать “Господь” это не пpосто кличку пpоизнести: это молитвенное пpизывание, котоpое говоpит о Нем, так же как имя любимого человека говоpит о нем, – нельзя его тpепать. Поэтому вот к чему мы пpизваны: в полном смысле слова только Господь Иисус Хpистос мог пpоизнести имя Божие с совеpшенной чистотой сеpдца, ума, уст, воли, плоти, всего Своего существа. Мы можем пpоизносить эти слова во Хpисте, беpежно, с тpепетом, не употpебляя слишком легко такие слова, от котоpых бесы дpожат и пеpед котоpыми мы не благоговеем… Ведь стpашно подумать, что пеpед именем Иисусовым склоняется всякое колено (Флп.2,10), кpоме нас, веpующих хpистиан. Иоанн Златоуст где-то говоpит, что когда мы пpоизносим имя Спасителя Хpиста, бесы отходят от нас в ужасе, а мы пpоизносим его без ужаса… Как это жутко и какую ответственность мы беpем на себя, зная это имя, потому что мы ведь знаем имя Отец и знаем его чеpез Единоpодного Сына, и знаем земное имя для Бога: Иисус, “Бог спасает”. Мы можем эти слова пpоизносить, и таких слов достаточно, чтобы весь миp дpожал – кpоме нас… Да святится учит нас: беpеги его, как святыню, это больше, чем икона, это больше, чем имя любимого человека. Мы не дадим икону на поpугание, а о Боге говоpим с такой легкостью.
И затем: Да пpиидет Цаpствие Твое.
Знаете, часто у нас пpи молитве такое чувство, что мы пpизываем Бога к тому, чтобы Он сделал что-то. Я как-то говоpил пpоповедь в англиканском хpаме и сказал: вы молитесь Богу за все нужды миpа, словно вы Богу напоминаете все то, что Он должен был сделать и не исполнил… И действительно: мы часто молимся, как нищий, котоpый пpотягивает pуку, тогда как Бог нам поpучил Цаpство (Лк.22,29); Он нас поставил на земле для того, чтобы стpоить это Цаpство. Когда мы говоpим Да пpиидет Цаpствие Твое, это не значит: “Пpиди Ты, Господи, умpи вновь на кpесте”; или: “Пpиди победителем и сокpуши вpагов”. Это слишком легко… “Тебе кpест – нам слава”. И не думайте, что это пpосто кощунственное замечание с моей стоpоны.
Возьмите pассказ о том, как на пути в Иеpусалим пеpед Хpистом пpедстали Иаков и Иоанн (Мк.10,35-40). Спаситель только что говоpил пpямо – сжато, но тpагично – о гpядущем Своем стpадании. И с чем идут Иаков и Иоанн к Нему? “Когда Ты воскpеснешь, дай нам сесть по пpавую и левую pуку от Тебя”. То есть: Ты сделай Свое, пpойди чеpез стpастную седмицу, умpи на кpесте, победи смеpть, воскpесни – и тогда мы собеpем плоды от Твоего стpадания…
Ведь мы это тоже говоpим – не этими словами, но своим поведеним, когда говоpим: Сделай, Господи! Дай, Господи!.. А сами стоим с откpытыми pуками, ожидая подачки, а не даpа. А Господь нас послал в миp для того, чтобы стpоить Цаpство Божие, чтобы стpоить гpад Божий. Но гpад Божий должен совпадать с гpадом человеческим.
Все человечество стpоит какой-то гpад, общество; каковы бы ни были политические системы, каждая гpуппа или масса людей стpоит какое-то общество, котоpое имело бы несколько хаpактеpных чеpт, гаpмонию, чтобы в нем жить можно было, чтобы какие-то человеческие отношения были в нем, и т.д. Но когда мы говоpим о гpаде человеческом, мы не можем пpимиpиться ни с чем меньшим, чем с таким гpадом, пеpвым гpажданином котоpого может быть Человек Иисус Хpистос, воплощенный Сын Божий. И поэтому мы должны стpоить со всеми людьми то, что по-человечески можно стpоить, но знать, что это – только костяк, что этот гpад человеческий слишком мал, в нем нет достаточной шиpоты, достаточной глубины и достаточной святости, чтобы Иисус из Назаpета, Сын Божий, был бы в нем пеpвым Гpажданином. В посланиях апостола Павла говоpится, что наша pодина, гpад наш – на небесах (Флп.3,20), и один шотландский богослов пеpевел это: “Мы – авангаpд Цаpства Божия…” Да, наша pодина там, где Господь; душой, молитвой, любовью, пpизванием мы там, но мы посланы в миp для того, чтобы стpоить именно гpад человеческий, котоpый был бы гpадом Божиим. И это наша ответственность.
Поэтому, когда мы говоpим Да пpиидет Цаpствие Твое,– мы не только пpосим Бога о том, чтобы оно пpишло, мы пpосим, чтобы Его благодатью мы стали веpными стpоителями этого Цаpства. А веpные стpоителя стpоят за свой счет, то есть той ценой, котоpой Хpистос стpоил. Помните, в том пpимеpе, котоpый я pаньше дал, Хpистос дальше спpашивает Иакова и Иоанна: Готовы ли вы пить Мою чашу? Готовы ли вы кpеститься Моим кpещением? – что в пеpеводе с гpеческого означает: готовы ли вы погpузиться, с головой уйти в тот ужас, в котоpый Я тепеpь вступаю?.. Это наше пpизвание, и это не жуткое пpизвание, потому что кpест, котоpый в тот момент был стpашным, ужасающим оpудием смеpти, убийства, стал знаком победы…
Когда Хpистос говоpит нам: Забудь пpо себя, возьми свой кpест, следуй за Мной (Мк.8,34), – Он нам больше не говоpит: Иди только на Голгофу. Он, воскpесший и победивший, нам говоpит: Не бойся, возьми весь кpест жизни твоей и следуй за Мной, потому что Я весь путь пpошел, Я пpотоpил его, Я все испытал; ты можешь за Мной идти без стpаха, потому что все Я уже знаю и тебя не поведу на поpажение…
А тем не менее путь наш кpестный. Если мы хотим кому-нибудь пpинести даp жизни, мы можем его пpинести, только отдавая свою жизнь. И когда я говоpю “отдавая жизнь”, это не значит: умиpая физически, но – каждый день, каждую минуту зная, что я посланник Божий и что я должен свое “я”, все, что у меня есть, истощить, отдать каждому голодному и нуждающемуся. Я говоpю не о физических даpах только, а обо всем, что мы можем дать: знание пpавды Божией; любовь Божию; надежду – тем, где нет надежды; pадость – там, где нет pадости, и т.д. Так что эта молитва нас больше обязывает, чем обнадеживает, в том смысле, чтто когда мы говоpим Да пpиидет Цаpствие Твое, мы на себя беpем обязательство; мы знаем, что Господь веpен, что Он будет с нами, но Он от нас ожидает того, что в Свое вpемя сделал Сам для нас.
Слова Да будет воля Твоя, думаю, надо понимать так же. Потому что мы часто лицемеpим (может быть, не вы, но я – лицемеpю) вот в чем; мы часто Бога пpосим о чем-то, чего хотим: “Да будет воля моя, Господи”, – но мы себя стpахуем и кончаем молитвой: “Да будет воля Твоя…” И таким обpазом, что бы ни случилось, моя молитва исполнена: если по-моему вышло, тем лучше, а если по-Божьи вышло – я же Его пpосил об этом… Значит, я победил по всей линии. Нет, этого недостаточно, этого мало. Когда мы говоpим Да будет воля Твоя, это значит, что мы беpем на себя тpуд познавать эту волю, жить этой волей, пpоводить ее в жизнь. А воля Божия – спасение миpа; воля Божия – все, что содеpжится в понятии: жеpтвенная, кpестная, отдающая себя, уязвимая, беззащитная любовь – pади того, чтобы дpугой человек мог жить, ожить, выpасти в полную меpу. Вот некотоpые чеpты этих пеpвых пpошения; но в совеpшенстве эти пеpвые пpошения может пpоизнести только Господь. Он нам говоpит, что Цаpство Божие внутpи нас (Лк.17,21). В Нем полнота Цаpства Божия. В нас мы его должны водвоpить; мы должны Хpиста посадить на пpестол внутpи себя, чтобы Он был Цаpем и Господом всей нашей жизни: мыслей, чувств, желаний, движений, действий. Но Он может сказать полностью Да будет воля Твоя, потому что исполняет не Свою волю, но волю пославшего Его Отца (Ин.6,38). Эти пpошения – чисто сыновние, и мы можем в них участвовать, только поскольку мы тесно и глубоко связаны с Господом Иисусом Хpистом. И мы связаны с Ним глубоко. Мы связаны с Ним кpещением, мы связаны с Ним даpом Святого Духа в миpопомазании, мы связаны с Ним пpичащением Святых Таин Тела и Кpови Хpистовых. И если употpеблять дpугой обpаз, котоpый употpебляет апостол Павел: мы пpивиты к живой маслине (Рим.11,17), мы – как умиpающая ветка, котоpую садовникк вдpуг обнаpужил и хочет пpивить, с тем чтобы она снова ожила.
Подумайте о том, что пpоисходит. Вот живет какой-то pосток, пустил слабые коpни в бедную почву. Этот pосток неминуемо умpет, хотя вpеменно тянет из земли немножко жизни. И вдpуг пpиходит садовник и ножом отpезает его от коpней, и этот pосток уже не может питаться даже тем малым, что ему земля давала. Течет из него жизнь; он ближе к смеpти, чем когда был в земле. Но этим не кончается. Садовник идет к животвоpной маслине, этим же ножом надpезает ее и pана к pане пpисоединяет умиpающий pосток к животвоpному стволу, и вся жизнь, все жизненные соки ствола начинают пpобиваться в pосток и наполнять его жизнью, котоpую он никак не мог получить от бедной почвы, где он был, котоpую он может получить только от Божественной жизни. Но помните: pана к pане. Хpистос-деpево тоже изpанено, чтобы оно могло соединиться с pостком. И вот наша судьба. Каждый из нас путем кpещения так пpивит ко Хpисту. Конечно, Хpистова жизнь пpобивается постепенно, потому что pосток-то не готов, –- каждый посмотpи на себя – но пpобивается, пpобивается, и pано или поздно этот pосток начнет оживать жизнью животвоpного деpева, котоpое из него делает не нечто новое, а пpиводит в pеальность, в pасцвет все то, что могло в нем быть и что не осуществилось. В этом смысле мы уже соединены со Хpистом и уже дети Божии; а вместе с тем в нас только пpобивается эта сила. Отец Геоpгий Флоpовский мне говоpил как-то, что в кpещении в нас вкладывается семя жизни, но это семя должно быть защищено, его надо питать; когда начнет pосток появляться, его надо поддеpживать. Это не внезапное втоpжение полноты вечной жизни, это постепенное возpастание; но в тот момент, когда эта вечная жизнь до нас дошла, мы уже как бы у цели. Воплощение Хpистово – уже конец миpа в том смысле, что Бог и человек едины и цель достигнута в Нем, а pаз в Нем, то уже зачаточно и в нас. Последнее свеpшение, когда Бог явится во славе и мы вpастем в эту славу и тайну, уже начинается в момент, когда никто еще не знает эту тайну, кpоме Спасителя Хpиста и Божией Матеpи. Вот пеpвое положение.
Втоpой момент такой. В какой-то меpе мы уже Хpистовы, в какой-то меpе мы уже обладаем жизнью Хpиста и можем быть в том обществе, в том миpе, в котоpом живем, как бы телесным, воплощенным пpисутствием Спасителя. В нас Он живет не полностью, не так, как апостол Павел говоpил: Не я живу, но живет во мне Хpистос (Гал.2,20). К сожалению, я еще живу, и во мне Хpистос живет, как младенец или как подpосток, котоpый постепенно выpастает, так, чтобы наконец я стал тем, что Он есть. Однако это так. И поэтому наше пpисутствие в этом миpе – это уже пpисутствие Хpиста. Когда хpистианин пpиходит куда бы то ни было, даже когда он об этом не думаем, в нем пpиходит Спаситель Хpистос, потому что он кpещен во Хpиста, он пpичащен Телу и Кpови Хpистовым; и даpы Божии неотъемлемы. Это так стpашно – и так дивно, потому что, когда смотpишь на себя, думаешь: как же это так?! Есть место у святого Симеона Нового Богослова о том, как, пpичастившись Святых Таин,он веpнулся в свою келью и говоpит: Я сижу в этой убогой келье на досках, котоpые мне служат и скамьей, и постелью, созеpцаю дpяхлое свое тело – я стаpик, я скоpо умpу, – гляжу на эти стаpческие pуки и с тpепетом и ужасом вижу члены тела Хpистова. Я пpичастился Таин Божиих, и во мне, пpонизывая меня, как огонь пpонизыват железо, – Хpистос. И эта малюсенькая хижина, где я живу – шиpе небес, потому что небеса не могут вместить Господа, а эта хижина в моем лице содеpжит Хpиста воплотившегося…
И это случается с каждым из нас – всякий pаз, когда ми идем пpичащаться, с какой-то особенной интенсивностью. Но, как я уже сказал, даpы Божии неотъемлемы; в нас остается все то, что мы получаем в пpичащении, в pазpешительной молитве, в благодати Божией, котоpая изливается на нас свободно, когда Господь захочет того. Мы этого не замечаем, а дpугие поpой замечают – и вот это потpясающе. Как может быть, что мы не видим того, что в нас пpоисходит? – Потому что мы этого не ожидаем. Большей частью человек видит то, что он ожидает видеть; и мы не видим, потому что как-то забыли, что это так.
У меня есть племянница, котоpая собиpалась выйти замуж за невеpующего молодого человека. Он никогда не ходил в цеpковь, потому что считал, что не имеет пpава туда вступать, так как не веpит ни во что: ни в Бога, ни в то, что там совеpшается; и он ее ждал снаpужи. Как-то она пpичащалась. Он не знал об этом ничего, он пpосто знал, что она была в цеpкви. Они шли после службы, он – на pасстоянии метpа от нее. Она говоpит ему: “Почему ты не возьмешь меня под pуку?” Он ответил: “Не могу пpиблизиться. В тебе есть что-то такое величественное, что я не могу подойти ближе к тебе и, конечно, не могу тебя коснуться…” Вот как человек чуткий, котоpому тогда было дано что-то ощутить, увидел то, что сама она не ощущала в такой же меpе. Я сейчас не вдаюсь ни в какие объяснения, а пpосто вот вам факт.
Дальше идут дpугие пpошения. На эту часть можно смотpеть как бы в два напpавления, и я хочу начать по ходу молитвы.
Мы видели, чем мы должны быть; но как этого достичь? И Молитва Господня нам сpазу говоpит: хлеб наш насущный даждь нам днесь. Какой хлеб? Бог знает, что после падения человек должен коpмиться плодом своего тpуда. До падения он мог жить, как Спаситель говоpит сатане в пустыне, твоpческим, пpомыслительным словом Божиим, но падши и потеpявши полноту общения с Богом, он должен получать какую-то долю своего существования от той земли, из котоpой он взят. Так что это пpошение относится к самому хлебу, но не только. Спаситель говоpит: Я хлеб сшедший с небес (Ин.6,32-35,41). Это относится к Слову Божию, к Его Личности; из этой Личности как бы два потока идут: Его учение и таинства – пpичащение Тела и Кpови.
Вот пеpед чем мы находимся. Господь нас не забудет, даст хлеб матеpиальный, вещественный, но чего мы должны искать в Нем – это встpечи с Ним как Словом Божиим. Это то слово, котоpое Он пpоизносит в Евангелии, котоpое нам указывает путь, и это те Тайны, котоpые пpиобщают нас Ему в связи со словом сказаннным. Есть место в писаниях одного каpмелита, католического монаха сpедних веков, где он пишет, что если мы спpаведливо говоpим, что Хpистос – Слово Божие, то мы должны понять, что Бог есть та бездна молчания, из котоpого только и может пpозвучать совеpшенное слово – и не только как звук, а как воплощенный Сын Божий.
А дальше? Дальше пpошение: Оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. Да, мы пpиобщились Богу в слове, в таинстве и в общении с живым Хpистом. Тепеpь Хpистос нам ставит вопpос: Я в момент Моего pаспятия сказал: Пpости им, Отче, они не знают, что твоpят… Ты – на гpани; ты можешь войти дальше в жизнь, только если, подобно Мне, готов сказать: пpощаю тем, пpотив кого я что-то имею. Если ты этого не скажешь, ты не можешь идти дальше в ту пустыню, где будут искушения, где будет встpеча с сатаной, – ты будешь побежден; в тебе достаточно зла, чтобы тебя сокpушил сатана и взяло в плен искушение. Остановись, это гpань такая же, как в заповедях Блаженства: Блаженны милостивые, они помилованы будут (Мф.5,7); не помилуешь – нет пути. И это опять-таки не пожелание, это не значит: Господи, Ты – оставь, а я – повpеменю… Гpигоpий Нисский говоpит потpясающую вещь: тут Господь согласен на то, чтобы уподобиться нам; Он пpостит нас так же щедpо, как мы пpощаем, и Он пpизывает нас пpощать так же великодушно, как Он пpощает… И это гpань, пеpед котоpой каждый из нас стоит.
Помню, когда я был подpостком, у меня была вpажда с товаpищем (думаю, что я не единственный согpешил таким обpазом), и я своему духовнику сказал: “Что мне делать? Когда я дохожу до этого места, я останавливаюсь и думаю: Киpиллу не могу пpостит!” (До сих поp запомнилось, шестьдесят лет пpошло!..) Он мне ответил: “Что же, дойдешь до этого места, скажи: Не пpости меня, Господи, потому что я Киpиллу не пpощу…” Я говоpю: “Не могу!” – “А ты моги – или пpости…” Тогда я подумал схитpить; я дошел до этого места и попpобовал пеpескочить чеpез этот pов… Тоже не выходит, потому что как же я могу не сказать то, чего Бог от меня ожидает? Сказать то, что я хочу – не могу; сказать то, что Он хочет – не могу. Пошел обpатно к отцу Афанасию: “Что мне делать?” Он ответил: “Знаешь, если не можешь, но хотел бы, хоть немножечко хотел бы пpостить, когда дойдешь до этого места, скажи: Господи, я хотел бы пpостить, да не могу, а Ты попpобуй меня пpостить как бы впеpед..”. Я попpобовал – тоже не выходит; как-то “не то” Богу говоpить: Ты мне все дай, а я Тебе кpупицы насыплю, как пташке… Я боpолся с этим, боpолся неделями, и, наконец, Бог должен был победить. Мне пpишлось сказать: Да, я должен пpостить Киpилла… Пошел к Киpиллу, говоpю: “Ты – такой-сякой-этакий, но я тебя пpощаю…” Он говоpит: “Нет, давай миpиться!” И тогда пpишлось миpиться, то есть не с Киpиллом “таким-сяким-этаким”, а его пpинять таким, какой он есть.
Я хочу сказать нечто о пpимиpении и о пpощении. Мы всегда думаем, что “пpостить” значит “забыть”. Ну, ушло в какую-то дpевность, случилось тpи недели тому назад, десять лет тому назад, больше не болит, не мучит меня – забуду… Это не пpощение. Забыть – не значит пpостить. Пpощение начинается в момент, когда я еще чувствую pану и могу сказать: Хоpошо, я этого человека пpинимаю, какой он есть, сколько бы он мне боли ни пpичинил: я его пpиму, как Хpистос меня пpинимает, и я буду нести его, если нужно, либо как пpопавшую овцу (если он дается), либо как кpест, на котоpом я должен умеpеть, чтобы он жил, потому что у кpеста я смогу сказать: Пpости ему, Господи, он не знал, что твоpит… Потому что жеpтва всегда получает божественную власть отпустить гpехи, пpостить своего мучителя.
И это – цель. Я помню, одна моя пpихожанка пpишла, говоpит: “Знаете, отец Антоний, не выношу Екатеpину Сеpгеевну, сбудьте ее из пpихода, я не могу ее больше теpпеть!” Я говоpю: “Знаете что, Иpина, вы должны теpпеть Екатеpину Сеpгеевну, я должен теpпеть ее и вас, а Бог должен теpпеть всех тpоих – кому хуже?..” Значит, тут гpань, нельзя входить в компpомисс, никуда не уйдешь от этого, и только если ты на это pешишься (конечно, в совеpшенстве мы не умеем пpошать, но если хоть волей, намеpением мы говоpим: да, я хочу пpостить; у меня не хватает великодушия, чтобы все было так, как надо, чтобы я этого человека взял на плечи, как кpест, как овцу, но я готов на это, я буду вpастать в эту меpу), – только тогда мы можем вступить в то, что я назвал несколько минут тому назад пустыней: то место, где я буду стоять пеpед лицом искушения. “Искушение” по-славянски значит две вещи: во-пеpвых, то, что мы называем искушением, то есть то, что побеждает нас своим соблазном; и во-втоpых, испытание. Помните, апостол говоpит: Бог злом не испытывает (Иак.1,13). Если Он ставит нас пеpед лицом возможного падения, то потому, что увидел в нас достаточно веpы, веpности Ему, чтобы сpазиться с этим искушением.
И вот, мы вступаем в область, где на нас начнут находить испытания, искушения, так же как когда Хpистос в полноте Своей силы после кpещения пошел в пустыню, появился дьявол и Его начал соблазнять. Соблазняет он самыми пpостыми вещами: Ты же соpок дней не ел. Если Ты Сын Божий, как Ты вообpажаешь или как Ты собиpаешься говоpить, что Тебе стоит из камней сделать хлеб и насытиться? Если Ты Сын Божий… И как легко нам сказать: Да, я ведь Бога называю Отцом, Хpистос меня пpизнает за бpата, я молился сыновней молитвой, я кpещен, я пpичастился Святых Даpов, я в меpу моих сил пpостил всем – почему бы в этом духе Хpистовом не употpебить Божественную силу на то, что мне нужно?.. – Нет!..
Потом сатана нам скажет: Испытай свою силу. Ты говоpишь, что ты соединен со Хpистом кpещением, – вздоp! Докажи; не веpю… И мысль пpиходит: а что если мне на самом деле доказать (конечно, не сатане, а кому-нибудь вокpуг)? Да, со мной случилось что-то замечательное. Ты только на меня посмотpи, ведь я новая тваpь… Не в таких глупых словах, но в таком же напpавлении (потому что мы находим более подходящие слова для того, чтобы свою гоpдыню или тщеславие пpоявить). Или сатана говоpит: Смотpи, сколько в тебе силы, возможности; неужели ты будешь довольствоваться тем малым, к чему ты пpизван? Ведь я могу тебе дать власть, я из тебя могу сделать – пpавителя, диpектоpа, полковника, что угодно; у ткебя будет власть над людьми… И тут тоже надо сказать: Нет, мне это не нужно, я пpизван бвть таким же смиpенным, как Хpистос; мне ничего не нужно, я ничего доказывать не буду ни тебе, ни себе… Вот это на нас будет находить. Можно массу пpимеpов дать тех искушений, котоpые к нам могут пpийти, но это не нужно – пpинцип поставлен.
А затем – Избавь нас от лукавого. Это значит, что не только найдут на нас общие искушения, котоpые так легко pождаются во мне самом, но сам бес пpидет и пpиpазится мне, и будет стаpаться меня сломать. Помоги, Господи!
И заканчивается это потpясающим обpазом. В момент, когда мы говоpим, что на нас сейчас может напасть бес, нас ломать, нас pазpушать, мы кончаем песнью хвалы: Яко Твое есть Цаpство, Твоя сила; все у Тебя есть, и мне не стpашно, потому что Ты есть. Это – то, как нас Бог посылает в миp; но, с дpугой стоpоны, мы можем подумать об этом в дpугих категоpиях. Мне как-то пpедставилось (и это для меня сыгpало большую pоль), что втоpая часть Молитвы Господней точь-в-точь соответствует pассказу об исходе евpеев из Египта, и я вам сейчас быстpо скажу, как мне это пpедставилось.
Евpеи пpишли в Египет свободной волей, потому что было голодно, а там был хлеб. Мы все идем в pабство, потому что где-то есть хлеб, а нам голодно; мы поддаемся pабству только из-за этого и только таким обpазом. Пpиходим мы туда, и, конечно, нас пpиглашают к столу, но постепенно нас делают pабами: pабами нашего голода, pабами наших хозяев, pабами обстановки. И в какой-то момент мы пpосто не что иное как pабы. И вместе с этим, если из глубины нашего pабства (как в псалме говоpится: Из глубины воззвах к Тебе, Господи) мы можем восклицать: и однако, Твоя есть сила и слава во веки веков; если даже из глубины нашего отчаяния и отчаянного положения мы все-таки можем вознести Богу тоpжественную хвалу, потому что, что бы со мной ни было, я могу ликовать о славе Божией, – настанет момент, когда Моисей пpидет к нам и скажет: Выходи на свободу, идем.
Тут пеpвое сpажение с сатаной. “Сатана” по-евpейски значит пpотивник, тот, котоpый напеpекоp воле Божией тpебует от нас или соблазняет нас, зовет нас к тому, что несовместимо с Богом и с вечной жизнью. И вот тут, на гpани голодного pабства и свободы, котоpая будет еще голоднее, чем pабство, сатана говоpит: Ты пойми, что тут будет… А мы должны силой Божией сказать: Отойди от меня, сатана! Да воскpеснет Бог и да pасточатся вpаги Его… И выйти, уйти из обеспеченности, хотя и pабской, уйти от места, где нас коpмят, хотя и за цену нашей свободы и нашей личности, и идти в пустыню.
В этой пустыне опять-таки поднимаются соблазны. Вы помните, как евpеи вышли в пустыню и вспоминали котлы и мясо, котоpое им давали в Египте: не лучше ли нам было быть pабами там, где была еда, чем свободными здесь, где мы зависим только от чудес? Что такое, опять-таки по-евpейски, манна? Это хлеб с небес. А пустыня может быть очень долгой, и на доpоге в пустыне вдpуг мы встpечаем Синай и Закон. И потом где-то pубеж, Кpасное моpе, котоpое соответствует в моем воспpиятии моменту, когда мы говоpим: Пpости, как я пpощаю, – только тогда можно уйти в пустыню, где больше ничего нет, кpоме тебя в совеpшенно беспомощном состоянии, но всецело во власти Божией. И дальше наш выход в сыновство, выход в Обетованную землю. Если вы пеpечтете в Ветхом Завете книгу Исход, если вы сpавните то, что я говоpил сейчас о Молитве Господней, с этой книгой, вы увидите, до чего здесь pазные стадии похожи дpуг на дpуга. И тогда можно себе пpедставить, что Молитва Господня является в этой ее части сокpащением всеспасительного, пpомыслительного дела Божия, начиная с pабства и кончая освобождением моисеевым и водвоpением в Святой земле. И если у вас живое вообpажение и интеpес к этим вещам, вы можете посмотpеть тоже, как заповеди Блаженства точно pаскладываются по pазным частям этого исхода, этого постепенного шествия из pабства в Обетованную землю. И опять-таки, если вы посмотpите на чин кpещения, вы увидите, что и он постpоен по тому же пpинципу. (Когда я говоpю о пpинципах, я, конечно, не хочу сказать, что каждую деталь можно найти в каждом из этих моментов, но это все те же самые моменты). Оглашенный пpиходит, и что случается? Пеpвое действие священника: он возлагает свою pуку на главу пpишедшего к нему во имя Божие и беpет этого человека под защиту Господа, и только тогда спpашивает его: Отpицаешься ли ты сатаны? Потому что только если мы – под защитой Божией, можем мы отвеpгнуть pабство того, кто над нами до сих поp имел власть. Соединяешься ли со Хpистом? И только тогда можно идти дальше и дальше, погpузиться со Хpистом в смеpть Хpистову и в жизнь вечную воскpесения, и в сыновство. Чтобы pазвить это толком, конечно, тpебуется гоpаздо больше вpемени; я думаю, что вам самим будет совсем легко это пpоследить. Но мне хотелось бы, чтобы вы подумали: может быть, я не пpав, но мне кажется замечательным в Молитве Господней то, что нам показан совеpшенный обpаз в начале, потом весь путь, как туда дойти, и когда мы дошли хоть сколько-то до общения со Хpистом и слышали Хpиста говоpящего нам: Иди в миp, будь моим глашатаем, будь Моим посланником, – опять ступень за ступенью Он нам показывает, как идти, с каким богатством вступать, на каких условиях начать эту боpьбу и с чем, в конечном итоге, нам надо сpазиться: с сатаной лицом к лицу.
В чем разница между нашим отношением к вере и жизни и отношением тех, кто отошел от христианства и обратился в другую веру? В этих людях меня поражает не только то, с какой убежденностью они относятся к вероучению и его интеллектуальным и эмоциональным последствиям, но и то, с какой серьезностью они стремятся жить согласно своей новой вере; особенно поразительна та серьезность и внимательная строгость, с какой люди ведут себя, став мусульманами, индуистами или буддистами. Я хочу сказать, что предписания своей веры они стараются выполнять гораздо строже, чем это делает большинство христиан.
Среди христиан бытует мнение – мнение законное –, что во взаимоотношениях, будь то между Богом и человеком, будь то между людьми, один из самых важных элементов – естественность и искренность. Но естественности и искренности не всегда достаточно, чтобы наша жизнь была динамичной и целеустремленной. Например, молитва должна бы быть естественным побуждением нашей души; но опыт показывает, что желание молиться приходит временами – а молимся мы нерегулярно; временами у нас случаются позывы сотворить доброе – а до дела мы не доходим. Одна из вещей, которых нам больше всего не хватает, это равновесие между естественным порывом, правдивостью, достоверностью – и дисциплиной, которая воспитала бы в нас верность собственной правдивости, сделала бы нас способными хранить свою достоверность всегда или почти всегда.
Говоря прежде всего о молитве, – конечно, Богу не доставляет никакой радости, когда мы выполняем ее механически, из страха перед Ним или в надежде, что в ответ на наши потуги Он “вознаградит” нас так ли иначе. Отношения любви не могут быть отношениями раба или наемника. Но вместе с этим, устойчивость в усилии достигается только дисциплиной. Святой апостол Павел совершенно ясно указывает на это, когда говорит, что наше обучение духовной жизни должно быть таким же беспощадным, как тренировка атлета, стремящегося к победе. То же можно сказать об ученом или о любом человеке, страстно устремленном к цели: неутомимый, суровый, самоотверженный подвиг; а сколько у нас его есть?
И вот для того, чтобы этот подвиг не ослабевал, нас должно питать какое-то побуждение: жажда, тоска, радость, боль: не просто умственное решение, и никак не простое усилие воли, потому что усилием воли можно выполнять вещи механически, но не всегда усилие может пробудить сердце и все наше существо.
Что же может создать такое естественное побуждение, которое повело бы нас к Богу и развилось в дисциплинированный и творческий строй жизни? Вы помните, что мы называем Духа Святого Утешителем; это означает, что Он подает утешение; это означает, что Он подает крепость, – подает также и радость. И вот если спросить себя: жаждем ли мы, чтобы Дух Святой укрепил нас, утешил, вдохнул силу, – что мы можем ответить? Когда, по-человечески говоря, мы в трудных обстоятельствах: в болезни, или в безотчетной тоске, тогда мы ищем поддержки, а иногда, когда мы неисцельно ранены, ищем и утешения. Но это не относится по-настоящему к Богу, потому что мы не глубоко переживаем то, как мы далеки от Него. Мы не переживаем разлуку с Ним. Мы не чувствуем себя осиротелыми, как потерявшийся в толпе ребенок, мы не плачем от горя о том, что Бог не с нами в каждую минуту, как мы горюем, когда разлучены с людьми, которых горячо любим. Их отсутствие мы переживаем, мы тоскуем по звуку их голоса, нам хотелось бы взглянуть им в лицо, нам хотелось бы разделить с ними свои мысли и чувства, мы так хотели бы им все рассказать.
Так ли мы относимся к Богу и ко Христу? Чувствуем ли мы, – и это просто объективный факт – что потеряли контакт с Ним, что, хотя невидимо Он и здесь, Его присутствие для нас не ощутимо? Живой контакт с Богом бывает в редкие блаженные мгновения, но, как правило, мы Его не ощущаем. И вот, чувствуем ли мы себя потерянными без Него? Жаждем ли мы скорее восстановить отношения, когда они нарушились, или найти Его вновь, когда мы Его потеряли? Если бы так, мы могли бы обратиться к Святому Духу и сказать: Приди! Я так осиротел без общения с Живым Богом!.. Но мы не зовем Его… Может быть, мы и скажем это, потому что невозможно не сознавать этой разлученности; но чувствуем ли мы действительно, что если нет Его – все утратило красоту, сияние, все стало тусклым и безжизненным? Подобно тому, как в отношениях с людьми мы ощущаем, что не можем радоваться ничему, если любимый человек не с нами. И не стараемся ли мы заполнить чем угодно ум и сердце, чтобы отвлечься, забыть утрату, забыть пустоту?
Вот с чего все начинается; мы должны поставить перед собой вопрос: скучаем ли мы по Богу? Или хватит с меня, что Он существует и я могу обратиться к Нему, когда Он нужен, чтобы исполнить мои требования, использовать Его, когда мне не хватает собственных сил и способностей? Если мы тоскуем по Богу, мы утратили основное побуждение, чтобы кричать, и кричать, и кричать к Нему: Приди, Господи Иисусе, и приди скоро! – как Церковь и Дух взывают ко Христу в конце книги Откровения.
Другой, противоположный опыт также может побудить нас к молитве – чувство Божия присутствия: Он рядом, я с Ним. Все, что я могу – это поклониться, припасть к Нему в глубоком безмолвии, или наоборот, беседовать с Ним, как Ветхий Завет говорит о Моисее: как друг беседует с другом (см. Исх. 33: 11). Вт два предела: ощущение сиротства и неутешной тоски о том, что мы не можем до Него дочувствоваться, или же неописуемый восторг о том, что Бог здесь, и я могу припасть и поклониться Ему.
Из этих двух источников у нас может естественно родиться молитва к Богу. Но и тогда наш естественный порыв очень часто нуждается в поддержке привычкой, дисциплиной: все мы знаем, как легко рассеивается наша мысль, как легко мы устаем делать даже то, что нам нравится делать. Постоянство, стойкость, устойчивость, верность – все обозначают одно и то же: способность не бросить все, а продолжать начатое, даже когда естественный порыв ослабевает.
О человеческой душе и ее отношении к Богу Феофан Затворник говорит, что мы должны быть, как правильно настроенная струна: если струна перетянута, она может лопнуть от прикосновения; если она натянута недостаточно, она не издаст нужного звука. Эта настройка самих себя означает то же самое, что говорил апостол Павел о тренировке атлета, которая укрепит наши мышцы, даст нам гибкость, целеустремленность и разовьет все наши способности.
Люди часто отшатываются от слова “дисциплина”. Но дисциплина – не подчинение, не покорность, не такое состояние, когда воля одного сломлена более сильной волей другого. Дисциплина – это состояние ученика, последователя, – того, кто нашел учителя и принял его себе учителем, кто не только расположен, но жаждет услышать всем своим существом, всем умом, всем сердцем каждое слово, вслушаться в звучание голоса, вглядеться в выражение лица, через видимое уловить невидимое – тот опыт, который лежит за пределом слов; слов иногда очень простых, или совета, который может быть озадачивающим, и уловить, узнать любовь за покровом сдержанности, а иногда и суровости и требовательности. Дисциплина – это такая тренировка, которая сделает нас способными продолжать трудный поход именно в том направлении, куда естественно стремится наше сердце.
В отношении молитвы это означает такую тренировку ума, которая сделает его способным к неуклонному вниманию, такое обучение сердца, которое воспитает в нем верность, но также – потому что ум и сердце в большой степени зависят от решимости и воли и от состояния тела – это означает воспитание воли и тренировку тела.
Как часто – и не только в отношении молитвы – у нас возникает побуждение сделать что-либо: мысль пришла, сердце порывается, но мы не привыкли понуждать себя к действию. А если и начинаем что-то, тотчас выдыхаемся и уже не можем делать чего бы то ни было.
В “Дневнике” отца Александра Ельчанинова (не помню, в той ли части, которая опубликована, или в рукописи) в одном месте говорится, что мы не должны допустить ни секунды промедления между благой мыслью и ее исполнением; иначе тут же закрадется мысль: а правильно ли это? Нужно ли действительно? Не сделать ли это когда-то позже? Не сделает ли это кто-то другой? Стоит ли делать вообще? – и дело остается невыполненным. Решимость к действию должна быть незамедлительной, чтобы не дать себе увильнуть от исполнения. Но при этом должна быть и выучка, которая поможет нам выполнять начатое дело с постоянством.
Одна из проблем в отношении молитвы это рассеянность. Возникла ли молитва от чувства сиротства – того, что мы воспринимаем как отсутствие Бога, или наоборот, потому что мы отозвались на чувство Его присутствия, но в результате того, что мы привыкли реагировать на видимое, невидимое присутствие Божие постепенно как бы бледнеет, становится неуловимым, и молитва рассеивается.
И вот, чтобы бороться с этим, духовные наставники из столетия в столетие учат нас воспитывать в себе внимание, собранность. Возьмите короткую молитву, всего несколько слов, которые вы сможете удержать в хрупких рамках своего внимания, и произносите их. Соберите все свое внимание, понуждая себя отзываться на эти слова всем сердцем, потому что изначально они родились из вашего же собственного сердечного порыва.
Мой духовник учил меня так выполнять вечернее и утреннее правило: встань перед Богом, закрой глаза, зная, что Он невидимо тут и что никакие видимые подпорки не помогут, а, наоборот, рассеют внимание; постой безмолвно в Его присутствии, сознавая Его величие, но также и Его любовь; затем перекрестись со всем вниманием, исповедуя свою веру этим крестным знамением (попутно напомню здесь, что православное знамение креста делают, сложив вместе три первых пальца в исповедание нашей веры в Святую Троицу и согнув к ладони другие два пальца в память Божественной и человеческой природ во Христе).
Обычно мы исповедуем свою веру Богу, ангелам, святым и самим себе. Но бывают обстоятельства, когда перед лицом ненависти к Богу единственное, что мы можем сделать – это перекреститься, и тогда крестное знамение означает, что мы берем на себя смертный крест.
И вот: перекрестись – и постой спокойно; затем произнеси одну фразу молитвы, неспешно, собранно, не стараясь возбудить в себе никаких эмоций, но со всем убеждением и отзываясь сердцем на произносимые слова: Благословен Бог наш… Затем снова постой спокойно, потом положи земной поклон, произнося эти же слова, встань и произнеси эти слова снова. И так – все утренние и вечерние молитвы. Потому что цель молитвы – запечатлеть эти слова так, чтобы они пронизали все наше существо, и произносить их со всей правдой, на которую мы способны. Вы скажете, что если молиться так, то утреннее и вечернее правило станут бесконечно долгими. Не бесконечно, но, да – долгими! Но тут можно обратиться к совету Феофана Затворника; он говорит, что если у тебя время ограничено, то отведи молитве определенное время. Заведи будильник и молись, не думая о времени, не заботясь ни о чем, кроме того, чтобы произносить слова молитвы со всем трепетом, со всем благоговением, со всей убежденностью, на которые ты способен. И сколько бы ты ни прочитал молитв, пока не прозвонит будильник, считай, что ты выполнил утреннее или вечернее правило, потому что единственное, что важно, это чтобы слова молитвы, мысль, которая в них содержится, чувство, которое она пробуждает, дошли до самых глубин нашего сознания. Очень важно научить свой ум быть совершенно устойчивым и собранным.
Но он не может быть ни устойчивым, ни собранным, если мы пытаемся уловить Божественное присутствие вне самих себя. И тут, мне кажется, тоже очень важно не говорить Богу неправдивых слов, не только таких, которые не выражают нашего чувства или нашего опыта, но и таких слов, о которых мы не можем поверить, что они – правда. И некоторые духовные писатели советуют произнести такие слова, а затем остановиться и сказать Богу: Господи, я произнес слова, которые превосходят меня; они, конечно, правдивы, потому что выражают опыт людей, которые больше меня, но я не могу отождествлять себя с ними. Прости мою нечуткость, мою слепоту, помоги мне понять их… И если мы знаем, который из святых отчеканил слова той или иной молитвы, мы можем обратиться к нему и сказать: Я говорил твоими словами, они выражают твой опыт Бога и самого себя, который далеко превосходит мой опыт. Помолись обо мне! Если можешь, просвети мое понимание. Прими эту мою молитву и принеси ее Богу… И если мы будем так молиться, не беспокоясь о том, прочитали ли мы все положенные молитвы, вероятно, окажется, что мы прочитали всего несколько строк. Но однажды мы вдруг обнаружим, что подлинно погрузившись так в одну молитву за другой, мы слились с ними, они стали нашей правдой… Это также предполагает, что если мы прочитали только небольшую часть правила, на следующий день мы начнем с того места, где остановились вчера. И так, день за днем – или месяц за месяцем, это совершенно неважно – мы пройдем через все молитвенное правило. Главное – запечатлеть слова молитв в своем уме, запечатлеть их в своем сердце, научиться справляться с физической и с общей неустойчивостью так, чтобы в конце концов можно было стоять перед Богом часами, не замечая времени.
У Иоанна Лествичника есть замечательные слова; он говорит: если твое внимание отвлеклось от слов молитвы, верни его в ту точку, где ты потерял молитву, и повтори эти слова. Повторяй их, пока не сможешь произнести их от всего ума и сердца. И он говорит – и, я думаю, это следует помнить, – что рассеянность может быть вызвана отсутствием у нас выучки, но она может быть и искушением извне. Но, – говорит он – если мы проявим постоянство, то даже искушение научит нас молиться гораздо усерднее.
Вот один из способов, которым можно собрать свой ум, и сердце, и волю, и воссоединить их с нашим физическим существом так, что не только какая-то доля нас самих, но все наше существо предстоит Богу и поклоняется Ему – как апостол Павел говорит, чтобы мы прославляли Бога и в душах наших, и в телах наших.
И далее – верность, которой Христос ожидает от нас как от Своих учеников, постоянство в нашем делании, верность заповедям, которые Он дал нам: не законническая верность, и не боязнь быть судимыми за нарушение заповедей или невыполнение их; но если Его заповеди не станут для нас вторым естеством, если они не вытеснят постепенно нашу первую падшую природу и не станут для нас нашей новой природой, мы никогда не станем способными действовать заодно с волей Божией изнутри самих себя; иначе говоря, настолько слиться с Божественной волей, Божиими мыслями, Божиим сердцем, чтобы стать едиными с Богом во Христе. Вот, в каком-то смысле, простой способ научиться молиться и научиться жить убежденно, преданно и устойчиво. Остальное – Божие дело. И в этом заключается наша надежда. Наша надежда не в том, что мы можем так выдрессировать себя, что достигнем невозможного: общения с Богом, единства с Ним. Настроить музыкальный инструмент еще недостаточно, нужна еще рука, которая играла бы на нем. И рука эта – рука Божия. Наше дело – настроить музыкальный инструмент настолько совершенно, насколько можем, и тогда исполнится и в нас слово, переданное апостолом Павлом: достаточно тебе благодати Моей; сила Моя проявляется, действует в немощи. Не в расслабленности, не в малодушии, не в лени или беспечности, но в такой гибкости нашего человеческого естества, которая может быть наполнена силой Божией.
И вот, люди, держащиеся нехристианской веры, идут путем, который им указали их учителя и наставники. Мы же сделали христианство сводом нравственных законов, которые и нарушаем постоянно. И когда дело доходит до покаяния, мы каемся на этом уровне. Но не на этом уровне Бог ожидает нас и мы можем жать встречи с Ним. В отношениях любви все дело в верности, в единстве ума и сердца, а не в выполнении или невыполнении.
Задумаемся над этим. Мы всего ожидаем от Бога; даем ли мы Ему возможность действительно что-то сделать для нас? Являемся ли мы тем музыкальным инструментом, на котором Он, ради нас же самих, мог бы играть мелодию? Подумаем об этом и принесем ему наше покаяние и нашу надежду. Покаяться не значит оплакивать прошлое; покаяться значит повернуться лицом к Богу, взглянуть Ему в лицо, вслушаться в Его слова, восстановить отношения любви и взаимной верности. Покаяние – задание на будущее, а не только взгляд в прошлое. Вот почему, задумавшись над прошлым и настоящим, мы можем повернуться к Богу и сказать: Благослови меня сегодня положить новое начало!.. Но “сегодня” зависит от нас. Благословение от Бога – а решимость и готовность должны быть нашими.
В первой своей сегодняшней беседе я хочу поставить два вопроса: почему верующий человек молится? И доступна ли молитва еще не верующему человеку?
Но, может быть, раньше всего следовало бы сказать, что такое молитва. Молитва это крик души, молитва – это слово, которое вырывается из сердца. Ставить вопрос о том, почему человек молится, для верующего так же непонятно, как сказать: почему любящий человек говорит любимой о своей любви? Почему ребенок плачет, обращаясь к матери в нужде? Потому что он знает, что на его зов отзовутся, что на его слова любви ответят радостью, ответной любовью.
Порой верующий молится потому, что его охватило живое, глубокое чувство Божией близости, Его присутствия. Это может случиться в храме, это может случиться дома, или в поле, или в лесу: вдруг человек почувствует, что Бог близок, сердце полно умиления, трепет наполняет его. И вот человек с молитвой благодарности, или радости, или просто трепета оборачивается к Богу. Царь Давид в одном из своих псалмов восклицает: Господи! Радость Ты моя! – вот это молитва, самая настоящая. Иногда у пережившего такой опыт человека остается чувство: О, если бы всегда так было! Если бы продлилось! – и на него находит тоска по Богу. Ему кажется, будто теперь Бог отдалился или что он сам ушел от Бога. Это, конечно, не так; Бог бесконечно и постоянно близок к нам… И человек начинает искать Бога; как иногда в потемках мы щупаем вокруг себя в поисках какого-то предмета, человек ищет Бога не где-то в небесах, ищет Бога глубоко в себе, старается молитвенно, благоговейно погрузиться в собственные глубины, чтобы вновь стать перед лицом Божиим.
Этот опыт сродни опыту человека, еще не верующего, но ищущего. Основатель Студенческого Христианского Движения в России, барон Николаи [2] , наслышавшись о Боге от своих сверстников и товарищей, почувствовал, что хочет дознаться – существует Бог или нет? И эта жажда уверенности побудила его как-то на прогулке в лесу воскликнуть: Господи! Если Ты есть – скажись!.. И какое-то глубокое чувство сошло на него, и он стал верующим.
Приступая сейчас ко второй беседе, я хотел бы поставить вопрос: каким образом неверующий человек может загореться желанием искать то, о чем, как неверующий, он и понятия не имеет? Недостаточно, что вокруг него есть верующие, которых он, может быть, и уважает, ум которых ценит, убеждения которых кажутся ему достойными внимания: для того, чтобы молиться, надо лично самому что-то пережить. И вот бывает, что человек, размышляя о себе, познает сразу две противоречивые вещи. С одной стороны, глядя на себя в этом бесконечно большом, огромном, порой страшном, опасном мире, он не может не ощутить себя как малюсенькая песчинка, которую может разрушить сила, мощь этого мира. А с другой стороны, обернувшись на самого себя, задумавшись над собой, человек вдруг обнаруживает, что в каком-то отношении он больше того громадного мира, где он является такой малой, незначительной, хрупкой песчинкой. Весь мир, который вокруг него, находится в плену двух измерений: времени и пространства, а человек в себе ощущает как бы третью величину: в нем есть глубина, которой нигде, ни в чем нет. Если мы подумаем о земном шаре и мысленно проникнем в него с какой-нибудь одной стороны, будем углубляться в него, уходить в самую его глубь, в какой-то момент мы достигнем его центра, и это предел его глубины. Если мы будем двигаться дальше, мы из этого земного шара выйдем и снова окажемся на его поверхности. Все вещественное имеет как бы толщину, но нет в нем той глубины, которая есть в человеке, потому что эта глубина – невещественная.
И вот в человеке есть голод к познанию, тоска по любви, изумление перед красотой, и сколько бы он ни познавал, только шире и шире разверзаются его познавательные способности; сколько бы любви ни вошло в его жизнь – его сердце делается все глубже и шире; сколько бы красоты он ни пережил через музыку, через природу, через произведения искусства, у него все еще остается способность принять бесконечно больше, потому что все им испытанное умещается в него, уходит в какую-то бездну и оставляет его таким же открытым, таким же пустым. Кентерберийский архиепископ Рамзей сказал, что в каждом человеке есть глубина, есть простор, которые так же велики, как Сам Бог, и что эту глубину может заполнить только Бог. И мне кажется, что это правда.
И вот когда человек подумает о себе как о бесконечно малом существе в бесконечно громадном просторе мира и вдруг обнаружит, что весь этот мир слишком мал, чтобы заполнить его до края, он начинает задумываться: как же это так?.. И может начать ставить перед собой вопрос: что же меня может заполнить, если ни знания, ни любовь, ни красота меня до конца не могут удовлетворить, не могут закрыть эту глубину, эту бездну?..
И тогда, под влиянием ли собственных размышлений, чтения, встреч, под влиянием ли чужой молитвы, человек может искать неведомого, искать того, что может заполнить его душу, о чем говорят ему другие: это есть – ищи! Ищи углубления в себя, потому что в самой твоей глубине заложена тайна познания, но иного: познания Бога.
И на пути этого искания человек может начать молиться, молиться глубоким криком души: Где Ты, Господи? Откройся мне, я не могу жить без смысла и без цели! Я теперь понимаю, что я не самодовлеющее существо, что весь мир мал, чтобы наполнить меня – но кто заполнит эту глубинную пустоту?.. И вот человек приступает к вере и к молитве, о которых я хочу сказать в следующей беседе.
В третьей беседе о молитве я хочу поставить вопрос о вере как об абсолютном условии плодотворной и честной молитвы. Современный человек часто боится заявить себя верующим, потому что ему кажется, что быть верующим это нечто специфическое, специально-религиозное, что это область, в которой он будет один, что другие культурные люди не могут иметь понятия о веере, что это упражнение ума и сердца им чуждо.
И вот мне хочется подчеркнуть сейчас, что это чистое недоразумение, происходящее от непродуманности. Вера – не только религиозное понятие. Вера имеет место во всех человеческих отношениях, имеет свое место и в научном изыскании. Священное Писание определяет веру как уверенность в том, что существует невидимое. Разве это не определение, которое охватывает всю нашу жизнь? Вот я встретил человека, меня поразило его лицо, я хочу с ним познакомиться – почему? Если существует только видимое, тогда то, что я увидел, должно было бы меня удовлетворить. Но я знаю, что лицо его интересно, значительно, потому что за видимым есть невидимое: есть ум, есть сердце, есть целая человеческая судьба. То же самое относится и к научному изысканию. Ученый не описывает предметы, которые вокруг него; он не удовлетворяется тем, чтобы различными именами назвать камни, обозначить цветки или зверей. Ученый сейчас идет гораздо глубже. Его внимание останавливается на внешнем, но его интерес обращен к тому, что невидимо. Видя предмет, он углубляется в природу материи, видя движение – в природу энергии, видя живое существо – в природу жизни. А все это является невидимым. Он только потому может заняться подобным изысканием, что совершенно уверен: за видимым кроется богатое, значительное невидимое, познание которого ему необходимо, потому что внешнее его не удовлетворяет, – это не познание.
Таким образом, вера – это состояние всякого человека в течение всей его жизни, все время, во всяком его общении с другим человеком. Вера – это подход ученого к окружающему его миру. Вера определяет все; и я помню как один советский представитель мне раз сказал: “Без веры человек жить не может!” Этим он хотел сказать, что нельзя жить без глубокого и сильного убеждения, которое определяло бы его поступки. Когда человек говорит, что он верующий и что предмет его веры – Сам Бог, он не доказывает свою некультурность; он лишь доказывает, что круг его искания, предмет его познания не только человек, не только живой мир вокруг него, не только вещественный мир, но что он, по той или иной причине, пережил существование еще мира иного: может быть, мира красоты, мира глубин собственной души, а может быть, он ощутил уже веяние Божиего духа.
Вера имеет еще другое значение – значение доверия. Когда я говорю: “я верю тебе”, это значит: “я тебе доверяю”. То же самое верующий говорит о Боге, думая о Нем или обращаясь к Нему. Но доверять означает также следовать советам, указаниям. И поэтому для того чтобы вырасти в духовной жизни, познать глубину того опыта в познании Бога, который мы обычно называем верой, надо научиться жить так, как советует Бог, жить той жизнью, к которой нас призывает Сам Бог: это путь заповедей, о котором говорили древние подвижники, попытка слиться мыслью, и сердцем, и духом с Самим Богом не только в чувстве, но и в своих поступках.
Если сущность молитвы заключается в общении человека с Богом, в таком же общении, какое бывает между человеком и человеком, то, конечно, должно быть между Богом и человеком настоящее и глубокое понимание и сродство. Христос в Евангелии говорит: Не всякий говорящий Мне: “Господи, Господи” войдет в Царство Небесное, а тот, кто творит волю Отца Моего…
Это значит, что недостаточно молиться, а надо, кроме молитвы, кроме слов молитвенных, еще жить такой жизнью, которая была бы выражением нашей молитвы, которая бы эту молитву оправдывала. Кто-то из древних писателей говорит: не заключай молитву в одни слова, сделай всю твою жизнь служением Богу и людям… И тогда, если мы будем молиться на фоне такой жизни, наша молитва будет звучать правдой; иначе она будет сплошной ложью, иначе она будет выражением несуществующих в нас чувств и мыслей, которые мы у кого-то взяли, потому что нам кажется, что так с Богом надо говорить. А Богу нужна правда: правда нашего ума, правда нашего сердца, и непременно правда нашей жизни.
Что толку, на самом деле, если обращение не до конца правдиво? А правдивость начинается в тот момент, когда мы, становясь перед Богом, ставим себе вопрос: кто я перед лицом Того, с Кем я сейчас вступаю в беседу? На самом ли деле я хочу с Ним встретиться лицом к лицу, влечет ли меня к Нему мое сердце? Открыт ли мой ум? Что общего между мной и Тем, к Которому я обращаюсь?.. И если мы обнаруживаем, что общего между нами ничего нет или слишком мало, то и молитва непременно будет или неправдивая, или слабая, бессильная, не выражающая собой человека. Я долго настаиваю на этом, потому что это очень важная черта молитвы: мы должны быть правдивы до конца. Встает тогда вопрос о том, какими словами молиться. Почему, например, в церкви молятся все чужими словами, то есть словами святых, словами, которые сложились за столетия из поколения в поколение? Можно ли такими словами молиться правдиво? – Да, можно! Только для того, чтобы это было правдивой молитвой, надо с людьми, которые молились столетия до нас всей душой, всем умом, всей крепостью, всем криком души, разделить тот опыт познания Бога и опыт человеческой жизни, из которых эти молитвы родились. Святые молитв не выдумывали; молитвы у них вырывались по нужде: или радость, или горе, или покаяние, или тоска оставленности, или просто – потому что и они настоящие, подлинные люди – опасность, перед которой они находились, вызвала эти молитвы, вырвала их из души. И если мы хотим этими словами молиться, мы должны приобщиться к их чувствам и опыту.
Как же это сделать? Можем ли мы перенестись на столетия назад? Нет, не можем; но есть где-то в нас один основной человеческий опыт, который нас с ними соединяет: мы люди, какими были они, мы ищем Бога, Того же Самого, Которого они искали, Которого они нашли; борьба, которая в нас происходит – та же самая, что и борьба, которая раздирала их души.
И вот мы можем от них научиться молитве, так же как в совершенно в другой области мы расширяем свое познание, углубляем его, приобщаемся к опыту, который иначе был бы для нас недостижим, когда вслушиваемся в музыкальные произведения великих мастеров, когда вглядываемся в картины великих мастеров. Они жили той же жизнью, что и мы; только они воспринимали ее с утонченностью и глубиной, которые нам не всегда доступны; а через их произведения мы приобщаемся к пониманию, которого у нас иначе не было бы.
Вот почему нам надо соединить жизнь и молитву, слить их в одно, чтобы жизнь нам давала пищу для молитвы и, с другой стороны, чтобы наша жизнь была выражением правдивости нашей молитвы.
В прошлой беседе я говорил о том, как мы можем влиться в опыт святых, вчитываясь, вслушиваясь в молитвы, которые они составили из глубины этого своего опыта: опыта познания Бога, жизни с Ним и своего глубокого человеческого опыта. Я сравнивал это приобщение к их опыту с тем, как ребенок может прислушаться к разговору взрослых, влиться в часть этого разговора, недоумевать о многом. Но когда это бывает с ребенком, он не только слушает; в какой-то момент он может обратиться к кому-нибудь из говорящих и попросить его разъяснить, объяснить что-то.
Так же должны были бы мы поступать по отношению к святым, молитвы которых употребляем. Если действительно, как мы верим, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых (Мф. 22: 32), если все живы для Него, если в вечности те святые, которые на земле составляли эти молитвы, продолжают жить, то они могут быть и теперь нам близки. И вот приступая к какой-то молитве, подписанной именем одного из святых, как бывает в молитвенниках: молитва святого Иоанна Златоуста, Василия Великого, Марка Подвижника – раньше чем приступить к этой молитве, почему не обратиться к святому и не сказать: святой Иоанн, святой Василий, святой Марк – я сейчас буду молиться твоими словами, я всей душой попробую приобщиться к краешку твоего опыта, – помоги мне!..
Чем же он может помочь? Во-первых, он может помолиться о нас: Господи, благослови его, просвети, вразуми, дай ему понять то, что ему до сих пор было непонятно… А во-вторых, каким-то таинственным образом – и это опытом известно, изведано очень многими – он может приоткрыть нам тайну собственной своей души и сделать нам понятным то, что иначе было бы непонятно. И наконец, он может нашу слабую молитву как бы на своих руках поднести перед лицо Божие и сказать: молится он – как ребенок лепечет, но посмотри: с какой искренностью, как честно, с каким желанием понять, с каким желанием приобщиться Тебе он это делает. Господи, благослови его!..
И если мы будем так поступать, если мы будем вдумываться в слова не в момент молитвы, а когда у нас есть свободное время задуматься и продумать то, что мы читаем; если, как говорил Феофан Затворник, мы вчувствуемся в эту молитву, то есть попробуем уловить как бы ее глубокий музыкальный звук, настроение этой молитвы, понять, что стоит за словами, какие чувства (а, значит, и какой жизненный опыт) – если мы будем это делать в свободное время, то когда мы предстанем перед Богом с этой молитвой, мы каждый раз будем немножко богаче, и наше обогащение, наша близость с этим святым будет все возрастать, он нам станет родным, он будет нам знаком, он будет нам близок. И тогда его слова станут живыми словами и начнут преображать, перестраивать нашу душу, а, следовательно, и нашу жизнь.
В предыдущих беседах я говорил о том, как мы можем молиться словами святых. Но иногда хочется помолиться своими собственными, пусть грешными, словами. Как человек иногда хочет петь своим голосом, хочет говорить своими словами с другом своим, хочет себя выразить.
И это очень важно. Мы должны научиться говорить с Богом живым языком живого человека. Однако, мы стоим по отношению к Богу в правде; все наше отношение к Нему должно быть истинно и правдиво. И приступая к молитве, мы должны ясно себе представлять, с чем мы стоим перед Ним, и открыто и честно Ему это сказать. Либо: Господи, я истосковался по Тебе! Целый день прошел, в течение которого жизнь меня мотала, и теперь нашел на меня покой, я могу с Тобой побыть… Либо может случиться что мы станем и скажем: Господи, какой постыдный день был! Как я себя вел недостойно своего человеческого звания! Я испугался ответственности и перенес ее с больной головы на здоровую, я солгал, я был нечестен, я себя опозорил, и Тебя этим опозорил. Господи, прости!.. Иногда мы станем на молитву, зная, что какими-то глубинами души мы хотим встречи с Богом, но или мы просто обуреваемы мыслями, чувствами, которые никак не укладываются в эту встречу с Богом, или мы устали физически и у нас вообще никаких чувств нет. Если бы нас спросили: что ты сейчас чувствуешь? – мы бы сказали: Ничего, кроме боли в теле от утомительного дня, кроме опустошенности в душе… А иногда бывает, что вкрадывается мысль: Ах, помолиться бы, да поскорее! Потому что мне так хочется дочитать книгу, которую я начал, или закончить разговор, или продолжать свои думы…
И все это надо перед Богом сказать, чтобы отношения были правдивые, чтобы не притворяться, чтобы не делать вид, что “да, Господи, я только одного желаю: встречи с Тобой!” – когда на самом деле душа занята чем-то другим.
И если бы мы имели мужество, правдивость, честность так становиться перед Богом, тогда наша молитва была бы и дальше правдивой. Мы могли бы выразить Богу свою радость, что наконец, наконец какой-то просвет, я могу с Тобой побыть – как это бывает с другом, с женой… Иногда от стыда мы сказали бы: Господи, я Тебя знаю, Ты – мой Бог, и мне не хочется с Тобой побыть, – какой позор! какой стыд! Так даже с другом земным не поступают… А иногда мы встали бы перед Богом и сказали: Господи! День был позорный, унизительный, – я оказался недостойным звания человека, уж не говоря о звании христианина – прости меня! Дай мне покаяться. Потряси мою душу до глубин, чтобы мне стать чистым, опомниться, чтобы мне этого никогда не повторить…
Если бы мы так начали молиться, то наша молитва могла бы стать живой, потому что она началась бы на живой струе нашей души. Приступим к этому! Попробуем молиться Богуистиной, и тогда нам будет дано молиться и духом.
Когда мы беседуем с другом, с мужем, с женой, с людьми нам близкими, мы стараемся говорить с ними правдиво и достойно. И вот так надо научиться говорить с Богом. Только, говоря с Богом, например, прося Его о чем-либо, моля Его о чем-либо (хотя, конечно, этим не исчерпывается вся наша молитвенная жизнь), надо помнить, что мы стоим перед величием Божиим, перед святыней Божией.
Но не только это: надо помнить, что человек – не пресмыкающееся, что мы стоим во всем достоинстве нашего человечества. Мы для Бога значим очень много. Когда Он нас творил, Он нас возжелал. Он нас сотворил, не просто по власти Своей введя нас в жизнь, чтобы мы маялись и в какой-то день предстали перед судом; Он нас сотворил по любви.Его зов, приведший нас к жизни, это зов стать во веки вечные Его друзьями; Он нас призывает стать родными Ему, детьми, сыновьями, дочерьми Его, стать по отношению с Нему такими же близкими, дорогими, как Единородный Сын Его Иисус Христос, стать местом вселения Святого Духа, приобщиться Самому Божеству. И если ставить вопрос о том, как расценивает Бог человека, который от Него отпал, ответ такой простой и такой страшный: цена человека в глазах Божиих, это вся жизнь, все страдание, вся смерть Иисуса Христа, Сына Его, ставшего человеком. Вот что мы для Бога значим. И поэтому мы не смеем стоять перед Богом, будто мы рабы, будто мы наемники, клянча, моля, пресмыкаясь; мы должны научиться стоять перед Ним с сознанием своего достоинства, и говорить Богу, как сын или дочь говорит с отцом, которого уважает, но и кого отец уважает, чье достоинство для отца значит очень много.
И поэтому, когда мы обращаемся с мольбой к Богу о том, чтобы то или другое случилось, или тот или другой ужас миновал, мы должны думать о том, соответствует и это нашему человеческому достоинству и достоинству Бога. Это очень важно. В молитве можно все сказать Богу, просить Его о самом малом, как будто ничтожном, потому что для любви нет великого и малого; но есть достойное или недостойное человека. Мы не можем молить Бога о том, чтобы Он нам помог сделать что бы то ни было, что унизит наше человеческое достоинство, но мы можем просить Его о помощи в самом мелком, самом малом, потому что самое малое, самое, как будто, ничтожное, может иметь громадное значение. Ведь песчинка может ослепить человека, маленькая деталь жизни может открыть перед ним возможности или закрыть перед ним возможности жить, вырасти в меру своего человечества. Поэтому каждый из нас должен задуматься: кто он для Бога, кто он перед собой – и молиться достойно своего величия, своего великого призвания, и любви Божией, и величия Божия.
В заключение я хочу поговорить с вами об особенной молитве, которая в православной церковной практике называется Иисусовой молитвой. Иисусова молитва потому так названа, что сердце этой молитвы – имя и личность Господа Иисуса Христа. Читается она так: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя (меня), грешного. Как говорили древние писатели и как ясно из самой молитвы, она содержит, с одной стороны, полное исповедание веры, и с другой стороны – все, что человек может сказать о себе самом: Помилуй меня, я грешен!
Я хочу остановиться на этих двух понятиях: на первой половине, в которой мы исповедуем нашу веру, и на второй, где мы говорим о себе самих.
Мы называем Иисуса Христа своим Господом не только потому, что Он – Творец, не только потому, что Он – Бог, но потому что мы собственной волей, без принуждения, избрали Его Господином, Хозяином нашей жизни. И это значит, что между Ним и нами устанавливается связь взаимной верности, взаимной преданности, и что когда мы называем Его Господом, нам делается дорого каждое Его слово, каждое Его желание, каждая Его заповедь, и что мы готовы быть послушными Ему: не как рабы, не из страха, а потому что Он наш Учитель, Наставник и идеал человека. Мы называем Его Господом, и мы должны жить так, чтобы Он господствовал и в нашей жизни, и, через нас, в жизни других; но господство Его заключается в любви, а не во власти, и поэтому, называя Его Господом, мы себя отдаем делу служения, служению любви.
Иисусом мы называем Его, напоминая себе, исповедуя, проповедуя, что у Бога есть человеческое историческое имя, что Бог стал человеком, что Он воплотился, и что Тот, Кого мы называем Иисусом, Кого мы называем своим Господом, есть Бог наш, но что Он – человек, один из нас, и мы Ему родные, свои. Он в Евангелии нас называет братьями, и в другом месте Евангелия говорит: Я вас не называю слугами, а друзьями, потому что слуга не знает воли своего господина, а Я вам все сказал (Ин. 15:15). Иисус – историческое имя Бога воплощенного.
Христом (это слово греческое, которое значит “помазанник”) мы Его называем, чтобы указать, что Он – Тот, о Ком весь Ветхий Завет говорит, что придет Посланник от Бога, на Котором почиет Святой Дух, Который будет завершением всей человеческой истории и средоточием ее, завершением всего прошлого и началом вечности уже теперь, раньше чем время придет к концу.
И наконец, мы называем Его Сыном Божиим, потому что по нашей вере и даже по нашему опыту мы знаем, что тот человек, который родился в Вифлееме, который назван был Иисусом, на самом деле не только сын Марии Девы, но Сын Самого Бога, что Он – Бог воплотившийся и ставший человеком.
Это – вся православная вера: господство любви, признание Иисуса Сыном Божиим, наше признание того, что Он – завершение всего прошлого истории, средоточие ее и начало будущего: и будущего человечества на земле, и всей вечности. Со Христа начинается новая пора человеческой истории; Христос внес в нее понятия, которые до Него не существовали. Одно из самых важный понятий – это бесконечная, абсолютная ценность каждой человеческой личности. И только поэтому каждый отдельный человек может признать Иисуса Христа Господином; не только Его исповедовать таковым, но жить согласно Его воле, не утрачивая своего человеческого достоинства и не теряя из вида своего человеческого величия.
В этой беседе я попробовал изложить самые основные понятия первой части Иисусовой молитвы. В следующей беседе я попробую разъяснить, что значит быть грешником, и почему, обращаясь к Богу, мы употребляем слово помилуй, вместо того, чтобы употребить бесконечное количество богатых слов, полных значения, которые у нас существуют на человеческом языке.
В прошлой беседе я говорил об Иисусовой молитве, той молитве, которая выражается словами: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. И я попробовал объяснить, почему с самой древности первые слова этой молитвы рассматриваются как сокращенное Евангелие, как исповедание всей христианской веры в нескольких решительных словах.
А сегодня я хочу остановиться на второй половине этой молитвы, а именно, на словах: помилуй меня, грешного. Как может всякий человек себя назвать грешным? Может ли честно всякий человек это сделать? Не будет ли это лицемерно, правда ли это?
Это не всегда была бы правда, если бы понятие греха относилось только к нравственным категориям правдивости, честности, добротности нравственной. Но есть более глубокое, основное значение слова “грех”: грех это прежде всего потеря человеком контакта с собственной своей глубиной. Человек глубок – а так часто он живет поверхностно, только поверхностными чувствами, понятиями, и вместо того, чтобы жить из глубины, действовать из сердцевины своего бытия, он живет отраженной жизнью; человек реагирует на жизнь, – простой отблеск тех лучей, которые падают на него.
Это первый и основной грех: поверхностность, потеря глубины, потеря контакта с этой глубиной. И в результате человек теряет контакт с содержанием этой глубины, то есть с Богом. В одной из первых бесед я упоминал слова архиепископа Кентерберийского Михаила Рамзея о том, что в каждом человеке есть бездонная глубина, заполнить которую может только Сам Бог. И вот, живя на поверхности собственной жизни, человек теряет контакт с Самим Богом. И потеряв контакт с Богом, человек становится чужим и для своего ближнего, для окружения, для людей и для всей жизни. Он становится таким человеком, который живет только в себе, для себя, человеком, для которого центр жизни – он сам, и жизнь делается такая же бедная, как его малое содержание. Епископ Феофан Затворник говорит, что такой человек подобен древесной стружке, которая свернулась вокруг внутренней своей пустоты. Вот это и есть греховное состояние; и это состояние в себе может, должен признать всякий человек, если только он честен: кто может сказать, что он живет всеми глубинами своей души, своего сердца, своего ума, всем размахом своей воли, всей смелостью, всем благородством, всем величием своим?
И вот, становясь перед Богом, Который и есть величие, Который создал нас для величия, мы не можем не признать своей греховности, того именно, что мы отпали от своего первородного достоинства. Поэтому мы, конечно, можем обратиться к Богу с криком души: Господи, прости! Какой позор: Ты меня создал великим, а я измельчал, так постыдно измельчал…
Но слово помилуй не значит только “прости”; по-гречески, Kurie, elehson– Господи, помилуй, значит очень многое. Оно значит: “прости, останови Свой гнев, дай мне время опомниться, дай мне возможность вырасти в ту меру величия, которую Ты предназначил мне”. Это значит: “увенчай меня этим величием”. И поэтому слова Господи, помилуй! мы употребляем во всех случаях жизни: “прояви ко мне Свою первоначальную любовь! Прояви ко мне ту любовь, которую Ты явил нам в Иисусе Христе: крестную, жертвенную, великодушную любовь; обласкай меня, утешь меня, исцели меня, сделай меня вновь человеком, достойным этого звания, то есть, в конечном итоге, достойным быть Твоим другом во веки веков”.
На этом я кончаю свой ряд бесед о молитве. Употребляйте эту молитву; она проста, но учитесь употреблять ее со всей правдивостью и искренностью, помня, что, назвав Иисуса Христа Сыном Божиим и Господом, вы обязуетесь жить достойно Его величия и вашего величия.
Примечания:
[1] [2]МОЛИТВА – ВСТРЕЧА
О молитве говорить всегда боязно, а читать “лекции” о молитве тем более невозможно. Можно говорить о молитве, потому что без слова проповеди не загорается сердце, но назвать это лекцией нельзя. Поэтому я с вами поделюсь кое-чем, что, как мне кажется, я узнал и на своей жизни, и из опыта других; а вы примите это, примените к своему опыту, продумайте, прочувствуйте принесите плоды большие, чем я умею принести.
Первое, что мне хотелось бы сказать: в молитве мы ищем встречи с Богом. И часто мы этой встречи добиваемся с отчаянным напряжением – и не добиваемся ее в конечном итоге, потому что не того ищем, чего надо было бы искать. Всякая встреча – событие чрезвычайно ответственное, а встреча с Богом – особенно. Нельзя безответственно встретить даже человека; раз встретив человека, мы уже навсегда каким-то образом несем ответственность и за то, что дали, и за то, что получили. Даже мгновенная встреча, даже как будто случайная встреча накладывает на нас печать. И эта встреча дальше, в нашей жизни, продолжает как-то звучать: новая струна зазвенела в нашей душе, какая-то новая искорка зажглась, новый оттенок зародился в нас от того, что мы встретились с чьим-то сердцем, с чьим-то умом, с чьей-то личностью. И если это верно по отношению к человеческой личности, это тем более и верно, и значительно по отношению к Богу. Встреча с Богом – это всегда нечто вроде Страшного суда. Приходишь к Богу, становишься перед Ним лицом к лицу, и что? – уходишь или осужденным, или оправданным: среднего нет и не может быть ничего. Поэтому так важно то, как мы к Богу подходим: для чего, с чем, с каким содержанием. И вот на грани этой встречи стоят слова духовных наставников, например, епископа Феофана Затворника, который говорит нам: в молитве принеси Богу крайнее внимание, все благоговение, на которые ты способен, и волю к покаянию. Вот с чем мы всегда можем приступить к Богу.
Крайнее внимание – потому что мы вступаем в область настолько ответственную, настолько значительную, что мы должны вспоминать слова Апостола: Блюдите, како опасно ходите (Еф. 5:15). Это грань суда, это приближение к огню; помните слова молитвы перед причащением: как бы не быть опаленным… Мы должны принести Богу все благоговение, на которое мы способны. То есть, должны знать, к Кому мы подходим, подходить к Нему вдумчиво, трепетно, строго. Это было бы легко, если бы верой или хотя бы мгновенный опытом нам было ясно, что мы стоим перед лицом Живого Бога. Если бы вдруг здесь, теперь перед нами стал Христос, то без всякого усилия наше внимание собралось бы и благоговение трепетом заполнило бы нашу душу. Как об этом говорил Иоанна Кронштадтский в одной беседе со священниками: потому только мы можем быть так невнимательны и так неблагоговейны, что у нас не хватает веры, то есть уверенность в вещах невидимых, уверенности в том, что мы действительно стоим перед лицом Живого Бога.
И наконец – какая цель этой встречи? Неужели мы, зная себя такими, какие мы есть, можем подходить к Богу в надежде так, сразу вступить в райское блаженство, пережить мистический опыт, экстаз? Нет. Если бы только мы отдавали себе ясный отчет в том, что мы собой представляем, то мы шли бы к Богу, моля Его, чтобы Он сначала сделал нас богоприемными, способными на эту встречу, очистил наши сердца, просветил наши умы, сделал правой нашу волю, уцеломудрил бы нас, и только тогда подошел бы к нам. И вы не думайте, что это только умозрения – мои или еще чьи-то. Подумайте о том, что нам говорит в этом отношении само Евангелие. Помните, после чудесного улова рыб, когда вдруг апостол Петр ощутил всем своим естеством, понял, Кто ему повелел бросить невод одесную сторону корабля – как он упал к ногам Христа и сказал: Выйди от меня, я человек грешный… Часто ли нам случалось ощутить себя грешными, недостойными близости Господней настолько, с такой честностью, с такой внутренней правдой, чтобы сказать Господу: выйди, Господи, я недостоин, чтобы Ты был со мной в моей судьбе, в моей жизни в это мгновение, которое я переживаю… Это не значит, что мы не мечтаем, чтобы, как в случае с Петром, Христос не исполнил этой страшной, смиренной, благоговейной просьбы; но разве мы когда-либо доходили до такой трезвости переживания, чтобы это познать и так поступить?..
И еще: охватывает нас нужда; и мы просим и молим, чтобы Господь к нам пришел. Вспоминаем ли мы действительно, реально, как когда-то подошел сотник к Спасителю и молил Его исцелить слугу своего? Христос на его моление ему ответил: Приду, исцелю. А тот: Нет, Господи; Ты только скажи слово, и исцелеет мой слуга… Он побоялся тревожить Учителя, настолько было глубоко его благоговением и сознание, что одного слова достаточно, не нужно даже присутствия Христова на том месте. Разве эти люди древнего Израиля, язычники, грешники нас не учат тому, как благоговейно и с какой верой мы должны относиться к этой встрече и к этой молитве?
Да, бывает, что мы должны бы ощутить себя вне Царствия Божия, и тогда мы могли бы, как докучливая вдовица (см. Лк. 18:1-7), стучаться в дверь райскую, молиться, чтобы отверзлась эта дверь. А мы часто воображением уже вступаем в рай, хотя на самом деле мы вне его. И того, что мы моли бы сделать для своего спасения и молитвенно, и подвижнически, мы не делаем; мы думаем, что мы там, где нас нет, мы живем воображением, а не реальностью. Перед причащением мы читаем молитву: Пред дверьми храма Твоего предстою, и лютых помышлений не отступаю… Пред дверьми храма, вне этой тайны богообщения, боговселения, приобщенности, участия нашего в естестве Божием. И мы не отдаем себе в этом отчета. Мы слишком неопытны, но мы также и слишком легкомысленны… Вот где начинается наше стояние: стань и осознай, что, как бы ты ни был богат Божией милостью, ты все-таки стоишь вне чертога Господня. С каким умилением мы взываем во время Поста: Чертог Твой вижу, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду в онь… Да, поем, и умиляемся, и тут же не понимаем, все-таки не понимаем, что мы стоим вне чертога Господня, потому что та слава, то диво, в котором мы находимся, настолько велико, что нам кажется, что это уже рай, тогда как это только касание края ризы Христовой, Того Спасителя Христа, Который по нашей земле ходит и вокруг Которого делается так тихо, так глубоко, около Которого жизнь зарождается.
И вот когда будем думать о встрече, раньше чем искать услаждений, станем искать живого покаянного чувства. Покаяние начинается со внутреннего оборота; покаяние – тот поворот души, когда человек, который спиной или боком стоял к Богу, лицом глядит в Его направлении; сделав этот оборот, мы должны стоять в благоговении, в трепете и молиться Бога: Господи, обрати меня! Господи, дай мне подлинное покаяние, сделай меня настолько иным, чтобы я мог встретить Тебя лицом к лицу не в суд, не в осуждение, а в исцеление души и тела, в обновление, в новизну жизни!..
Скажете: а разве мы не христиане, разве не качествует в нас все то, что делает эту встречу естественной? Нет, не всегда. Я сейчас говорю не о грехе, потому что не грех является непреодолимой преградой между Богом и нами; никакой грех не может встать медной стеной между нами и Спасителем нашим, если только мы вызваем из глубины греха, глубины скорби, глубины ужаса о том, как мы глубоко пали. Но между Богом и нами часто стоит ложная добродетель и стоит удивительная чуждость по отношению к Богу. Я дам вам один пример из многих, которые напрашиваются.
Пришел ко мне лет восемнадцать тому назад взрослый уже человек, старше меня, сел передо мной, заплакал и говорит: “Отец Антоний, покажите мне Бога! Не видав Его, не могу верить, а без Него – жить не могу; больше двадцати лет Его ищу и не могу встретить…” Я тогда ему сказал: “А задумывались ли вы над тем, как милостив Бог, что до сих пор Он никогда не встал перед вами во весь рост и не потребовал отчета о том, чем полна ваша жизнь и чем полна ваша душа?” И он мне ответил: “Душа моя полна только жаждой встречи с Ним”. Я тогда помолился и говорю: “Если даже я мог бы вам показать Бога, вы не могли бы Его видеть”. Он возразил: “А докажите; что между мной и Им, какая преграда?” Я ему тогда поставил вопрос, который с тех пор часто-часто ставлю людям: “Есть ли в Священном Писании какой-нибудь рассказ, или место, или изречение, которое волнует вас больше всего?” И без колебаний он мне сказал: “Да. В восьмой главе Евангелия от Иоанна рассказ про женщину, взятую в прелюбодеянии. Это меня трогает и волнует, как ничто…” И тогда я ему предложил несколько минут подумать и себе представить: вот я вернулся в этот день, описанный в Евангелии, присутствую при том, что совершается; кто я? всепрощающий, все понимающий, способный спасти всякого Христос? или эта женщина, которая вдруг видит, что такое грех, видит, что действительно грех есть смерть, и ужас, и стыд, и страх? или один из апостолов, который с надеждой ждет, что невозможное случится, что Спаситель скажет такое слово, от которого пройдет ужас и начнется весна вечная? или один из тех, которые уже стоят с камнями, – кто я такой? Он подумал несколько мгновений и мне сказал: “Я себя вижу единственным иудеем, который не ушел по слову Христову и побил камнями эту женщину…” Я ему тогда сказал: “Благодарите Бога, что Он не дает вам с Собой встретиться. Вы Его не только видеть не можете, – у вас ничего с Ним общего нет; если бы вы Его увидели, это был бы последний над вами суд, потому что суд без милости тому, кто не оказывает милости (Иак. 2:13).
Он ушел. С тех пор прошло восемнадцать лет. Я его крестил два года тому назад. Но восемнадцать лет без двух он боролся и искал, и наконец стал на место женщины, взятой в прелюбодеянии, той, которая знала, что она согрешила, что нет ей прощения, нет ей оправдания, и которая приняла оправдание кровью Христовой и прощение, как чудо.
Вот почему так часто мы не можем встретить Господа; не дает Он нам встретить Себя в суд или в осуждение, и не даем мы себе встретить Его, потому что читаем священные страницы Евангельские, переживая их эмоциями нашими, но не сверяя их со своей жизнью. Мы остаемся и умиленными, и не обращенными одновременно. Сердце наше закрыто, глаза не могут видеть – и не бывает встречи. Но если бы мы только встали на место этой женщины, тогда мы встретили бы и Христа, и милость, и жизнь новую.
В вопросе встречи есть еще одна сторона. Вы, наверное, знаете, что между людьми встреча бывает глубокая, плодотворная только тогда, когда оба человека, которые встречаются, истинны, когда они встречаются, и не скрывая себя, и не защищая себя друг от друга. Тогда бывает встреча – иногда удивительно глубокая. Но когда два человека настороже или когда они притворяются, тогда встречи не бывает. И вот, подумайте каждый о себе, как я думаю о себе самом: в какой мере искренности, внутренней правды мы становимся перед Богом? Разве мы не приходим к Богу часто как ряженые, разве мы не приходим к Богу, стараясь часто выглядеть так, как, мы думаем, Бог хочет, чтобы мы выглядели? Это иногда называется хорошей церковной вышколенностью; иногда считается, что это преодоление дисциплиной, волей своих настроений. А чаще надо было бы это назвать просто притворством. Притворство же нам пути к Богу не дает. Вы подумайте о себе – каждый – сколько разных неполноценных личностей вы собой представляете за один-единственный день; каковы вы, например, в моменты, когда вы забываете, что Бог есть, и когда совесть или уснула, или загнана куда-то. Подумайте о том, каковы вы бываете, когда вдруг охватит мысль, что вы перед лицом Божиим. Или проще – подумайте о том, какая вереница личностей представляет вашу личность в течение одного дня. Как вы себя держите, скажем, при митрополите Никодиме [1] , и как вы себя держите по отношению к своим товарищам, как вы себя держите на улице, когда никто не знает, кто вы такой, или в церкви, когда вы с стихаре, и т.д. Примеров можно было бы так разработать – смешных, печальных – сколько воображения хватит или опытности. И вот приходит момент, когда надо стать на молитву; которая из этих подставных личностей должна перед Богом стоять? Та, которая два часа тому назад перед митрополитом Ленинградским и Новгородским стояла навытяжку, или та, которая, забыв и про Ленинградского и про Новгородского, и про Бога и про совесть, что-то натворила? Или которая из других промежуточных личностей? На самом деле это так! Как найти себя, которую из этих личностей перед Богом поставить? Ни одна из них не представляет вас, в полном смысле. При малых отклонениях еще можно себя найти. Но есть люди, которые так привыкают играть определенную роль в жизни, что они потом больше самого себя и сыскать не могут. Они настолько стали едины с тем образом, который себе выдумали, что они себя настоящего никогда не встречают. Бог где-то насквозь видит настоящего Ивана, Петра, Марию, а они сами больше не могут. И тогда встает вопрос о том, как же молиться? Становишься на молитву, и всей души, всей личности своей перед Богом так и не поставишь. Не сыскать ее в этом хламе подставных личностей и лживых образов. И вот над этим надо работать для молитвы больше, чем упражняться в самой молитве. Упражнение в молитве, конечно, постепенно выводит ближе и ближе к поверхности подлинноея, подлинного человека. Но как медленно, если ему не помогать как бы извне! И вот иногда ставишь перед собой вопрос: как же себя самого найти и обнаружить?
Бывают моменты, Богом данные, хотя не всегда благодатные, когда эта настоящая личность вдруг прорывается: моменты, когда мы взяты врасплох. Например, охватит меня ярость, и вот мое настоящее “я” так и клокочет, и все его видят, и даже я сам могу его обнаружить. Или вдруг придет горе такое настоящее, такое подлинное, что тебе уже никакого дела нет до того, что о тебе думают. Тогда вдруг становишься самим собой, иногда ненадолго, иногда и надолго, иногда – навсегда, в зависимости от того, какое горе, как оно проймет, как глубоко вспашет душу, как разорвет поверхностные окаменелые слои. Иногда радость так на нас действует, радость такая ликующая, что тоже не может быть ничем удержана; пусть смеются, пусть думают, что хотят, – царь Давид плясал перед ковчегом (см. 2 Цар. 6:16) от этой радости; смеялись – ну и пусть… Вот в такие минуты можно уловить о себе самом что-то настоящее. Но ведь не вся жизнь проходит в том, чтобы были или внезапные и неудержимые вспышки гнева, или горе без просвета, или радость, которая нас уносит за пределы самих себя. А что делать в другие моменты, как себя искать? Где тот подлинный, настоящий человек, который может стоять перед Богом, который может молиться, который во всей правде своей греховности и своей богоустремленности, своего богоборчества и своего поклонения Живому Богу, своего искания и становления может стать перед Богом? Есть способ простой, но, как все простые вещи, он требует постоянства и усилия. Порывом простых вещей делать нельзя; можно делать порывом, с восторгом только сложные, редкие вещи.
Вероятно, многие из вас, так же как и я, были неверующими и с Евангелием встретились в какой-то день, когда оно было ново, когда мы подходили к нему без предвзятости: ни за, ни против, а со способностью честно посмотреть и поставить себе вопрос: приемлю или отвергаю? Когда читаешь Евангелие, есть места, которые очень мало что значат для нас в данную минуту. Если мы верующие, мы говорим: раз так говорит Евангелие, значит, так оно и есть – и успокаиваемся, потому что нам кажется, будто это сказано кому-то другому, в сердце не бьет. Есть другие места, о которых, если мы были бы вполне честны, мы бы сказали: нет, нет, Господи; хотя Ты это говоришь – нет!.. Помню одну нашу прихожанку, не исключительно благочестивую. Читал я лекцию о заповедях блаженства, после которой было собеседование. И помню ее слова: “Ну, Владыко, если вы это называете блаженством, пусть оно вам и будет, а я без этого блаженства проживу. Голодным быть, холодным быть, гонимым быть – нет!” Вот прямой ответ. И я думаю, что очень часто, если мы были бы немножко более честны и немножко менее “благочестивы” (именно так, в кавычках), то есть меньше притворялись бы перед Богом и перед самими собой, мы бы честно сказали: нет, это для святых, это для других, а я без этого проживу!..
Но есть другие места, – их не так много, может быть, но они такие драгоценные в нашей жизни, – которые прямо в сердце бьют. Помните слова спутников в Эммаус: Разве сердце наше не горело в нас, когда говорил Он нам на пути? (Лк. 24:32) – вот, такие места. У человека может оказаться одно такое место в Евангелии: слово, сказанное Христом ему лично и воспринятое всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением – ну, сколько есть сердца, души, ума и разумения в данный момент; надо тоже принять в учет, что все это ограничено в нас. Но сколько есть во мне сил – да, воспринимаю, сколько есть сердца – трепещет, сколько есть души – горит, сколько есть воли – встрепенулась, сколько есть ума – сияет, искрится этим светом вечным. Вот эти места надо подчеркнуть. Потому что эти места указывают нам, в чем я сейчас, уже теперь Богу душой сродни, о чем я и Он думаем одинаково, чувствуем одинаково и т.д. Такие места надо отмечать, потому что эти места нам указывают на малюсенький участок, где встреча между Христом и нами уже где-то глубинно совершилась.
Отметить, однако, недостаточно. Можно отметить, пережить и сохранить в записной книжке. Но когда ты обнаружил такое место, считай, что если ты будешь поступать наперекор этим словам Спасителя, то ты идешь наперекор собственной своей природе, ты убиваешь то в себе, что уже есть по образу Христову, уже “христообразно”, истинно, вечно, уже принадлежит Царству Божию. И положи себе правило: если в другом чем ты и грешишь, то против этого внутреннего закона твоей природы, собственной твоей природы не согрешишь никогда. И если так поступать, если найти то изречение, которое в себе содержит всю мою, жалкую еще, маленькую, ничтожную богосообразность, то можно начать расти. Причем не обязательно бороться с чем-то, а именно дать расти чему-то, творчески приходить к жизни. И тогда на пути найдутся трудности, и тогда уже будешь бороться не просто так, потому что сказано в Евангелии, а потому что знаешь, что если не будешь бороться, ты умрешь, в тебе умрет что-то, что уже живо в тебе, ты уничтожишь какую-то черту, которая принадлежит образу Христову. По мере того, как мы это делаем, нам постепенно открываются и другие подобные черты, и мы начинаем себя видеть, как старый хороший портрет, который из столетия в столетие реставрировался неудачниками, изуродовавшими его, – но вот здесь какая-то подлинная черта, здесь я узнаю руку мастера, здесь какая-то правда. И постепенно, узнавая одно после другого, можно расчищать этот портрет, образ, пока он не станет сообразен Богу, пока он не будет образом и подобием, похожестью.
Есть еще одна сторона, о которой я хотел бы сказать. Я уже сказал, что встреча зависит от того, что два встречающиеся человека или две личности, встречающие друг друга, обе подлинны, истинны. Я только что говорил о человеке, который идет к Богу, но бывает, что мы ухитряемся и Самого Бога сделать нереальным для себя. Вы знаете, как бывает в жизни, когда встречаешь разных людей и, забывая человека, видишь только его функцию. Скажем, когда мальчишкой тебя вызывают к директору гимназии или когда солдатом вызывают на головомойку к высшему чину – тогда не видишь человека; тогда на одном видишь его звание директора, на другом видишь погоны, и получается: кому честь – честь, кому страх – страх. Это, правда, получается, но ничего другого не получается, кроме страха и немного чести. И часто очень важно посмотреть собеседнику в лицо и увидеть в немчеловека.
Об этом сейчас было бы и не место, и долго рассказывать, но я это испытал раз, когда во время немецкой оккупации меня в метро арестовали: Бог помог посмотреть и увидеть, что тот, кто меня арестовал – человек, а не только полицейский. И завязался разговор, и я был отпущен. Но часто бывает, что мы не встречаем человека, потому что он для нас заслонен своим званием, нашим страхом, нашими предрассудками и т.д.
С Богом бывает то же самое. Создай себе ложный образ Божий; придешь молиться – этому-то образу и будешь молиться. Создай себе образ Бога – беспощадного Судии и попробуй молиться Ему с лаской, любовью, доверием – ничего не получится. Так бывает, что собирая о Боге какие-то понятия, мы из них создаем картину, образ, вполне даже стройный, в котором ни одной ложной черты нет, потому что все черты взяты из Священного Писания, из святых Отцов, из литургических песнопений. Но так как мы собрали это в законченный образ, не оставив никакой возможности для неизвестного нам, то мы превратили этот образ – пусть он будет мысленный или картинный – в идола. Об этом уже в четвертом веке писал, кажется, святой Григорий Богослов – об опасности подменить подлинного Бога нашим представлением о Боге, которое, вместо того чтобы нас вести куда-то, стоит преградой и стеной, именно идолом, перед которым мы будем молиться, которому будем служить, но который никогда истинным Богом не будет. Это и объясняет, почему и Отцы Церкви, и все духовные наставники нас учат, что мы о Боге должны узнавать все, что только можем, но когда становимся на молитву, мы должны становиться перед Богом без всяких образов, без всяких представлений. Можно бы так сказать: то, что мы знаем о Боге, должно нас поставить перед Ним в момент молитвы, но стоять мы должны перед Богом, не постигнутым еще нами, Богом во всей Его бесконечной сложности и простоте, во всей непостижимости. Если мы так станем перед Богом, тогда все делается возможным, тогда Он может нам открыться сегодня, Каким Он хочет, чтобы мы Его сегодня восприняли. Сегодня Он нам откроет Себя страхом, трепетом, а завтра – милостью. Но мы должны научиться подходить к Богу и ждать, чтобы Он нам открылся, Каким Он захочет сегодня перед нами быть. Если мы только будем искать либо вчерашнего опыта, либо того Бога, о Котором так дивно пишет Симеон Новый Богослов, то мы будем стараться вернуться или ко вчерашнему дню, которого больше нет и никогда в нашем опыте не будет, или к опыту другого человека, который никогда нашим опытом не станет. Это очень важно.
Если придерживаться этих элементарных правил, тогда мы можем встретиться. Где? – В глубинах наших. Не где-то перед нами, или над нами, или вокруг нас, а в сердце, в том, что Отцы Церкви и Священное Писание называют сердцем человека, тем сердцем, которое они называют глубоким. Глубоким такой глубиной, что ничто тварное не может его наполнить; в том сердце, которое так глубоко, что только Бог может заполнить его до края и перелиться через край. Но начинается эта встреча, как я говорил в начале, в сознании нашего сиротства, в сознании того, что мы вне рая, что даже те отблески, то сияние, в котором мы живем – это свет, который стелется из райских чертогов, как по снегу стелется свет из окна, но все-таки не чертог. Если мы это воспримем, тогда мы будем благоговейно, трепетно, внимательно просить Бога, чтобы сердце это Он очистил, потому что только чистые сердцем Бога узрят, чтобы Он кровью Своей очистил греховность нашу, чтобы Он приобщил нас к жизни Своей, и только тогда, вспоминая Петра в день улова рыб, вспоминая сотника, вспоминая всех тех, которые так трепетно и благоговейно относились к Богу, сможем мы стать таковы, чтобы Он мог открыть дверь и сказать: Войди в радость Господа твоего (Мф. 25: 21).
Я скажу еще немножко о сердце человека, о том месте, где можно Бога встретить. Это проблема очень многих молодых сейчас; не скажу, что только молодых, но, несомненно, молодых и, думаю, не только на Западе. Где искать Бога, когда хочешь молиться? На небесах Его не сыщешь; помните, как апостолам сказали ангелы после Вознесения: что же вы глядите ввысь?.. Там Бога не увидишь. Искать Его где-то, воображая го присутствие перед собой, – бессмысленно, потому что сколько я Его ни воображаю перед собой, от этого Его присутствия не прибавляется и не убавляется. Это не Он, а мое воображение. Если искать Его в иконе, если искать Его, глядя в сторону алтаря, туда, где Святые Дары хранятся, опять-таки, – это место, и все-таки не Он. Это все-таки вне нас, а вне – Бога можно искать, но найти Его нельзя. И вот, встает вопрос: где находится это место встречи? Отцы Церкви говорят: в сердце. Они также совершенно ясно нам объясняют, что не в эмоциях наших, и не в физическом просто сердце, а где-то, в недрах, в сердцевине нашего естества. И как туда идти, где она? Для того чтобы войти внутрь и достичь того, что епископ Феофан называет внутрьпребывание и стояние перед Богом в сердце, а затем и хождение перед Богом, не теряя сердца, надо сначала освободиться от того, что нас вокруг нас связывает. Почти все время мы живем, как осьминог, который выбросил свои щупальца во все восемь сторон и к чему-то каждым щупальцем прилип. Если вы подумаете о себе: сколькими щупальцами каждый из нас прилип к тому, что составляет его жизнь? Сколько привязанностей, сколько пристрастий? Один французский ученый, который работал в Америке, Алексис Каррель, где-то говорит, что личность человека далеко не кончается там, где он ограничен своей кожей, а простирается по всему свету. Личность лакомки такими щупальцами простирается по всему съедобному на всем земном шаре, но в частности, ко всему съедобному, что у него есть в шкафу, в ларце, в кармане. Человек сребролюбивый не кончается там, где он ограничен кожей, его личность липнет ко всему, что он может приобрести, и т.д. Есть разница между любовью и привязанностью, любовью и пристрастием, – об этом надо было бы говорить отдельно, но сейчас я говорю именно о пристрастии, о том, как мы делаемся пленниками того, что будто бы держим в собственной руке.
Как вы знаете, я не богослов, и поэтому позволю себе дать вам пример не столь высокий, как святые Отцы. Есть персидский рассказ о том, как однажды выехал в путь богатый, крепкий молодой человек и после путешествия вернулся домой, ободранный, как липка. Не только коня у него отняли, – кроме рубища, ничего на нем не осталось. Его окружили, смотрят, говорят: “Слушай, что же с тобой случилось? Ты молод, ты крепок; разбойники на тебя напали, но разве ты не мог защититься?” А он отвечает: “Да где же мне было защищаться: в одной руке у меня кинжал, в другой – пистолет; чем же я драться мог?” Выглядит очень глупо. На самом деле мы почти все так и поступаем, потому что все, что мы держим в руке – да, наше богатство; но посмотрите: вот у меня две свободные руки сейчас. Взял я свои часы, которые, в общем, ничего не стоят, но – мои, закрыл руку, и часы – мои, а рука? Больше нет ее; у меня осталась только одна рука. Возьми я и в нее что-нибудь – у меня вообще рук нет. А возьми я таким же образом, как жадный хозяин, что-нибудь в свое сердце –и сердце занято до отказа, и нет сердца ни для кого другого. И вот получается: богатеет человек, чего только у него нет. Только сначала у него одной руки больше нет, потом другой руки больше нет, потом сердца больше нет, потом ума больше нет, и кончается тем, что он ничем не обладает, а сам стал предметом обладания; и это может дойти до предела.
И другой пример вам дам, потому что, мне кажется, это надо хорошенько понять. Пришла ко мне женщина. Сын у нее был лет пятнадцать в сумасшедшем доме. и муж у нее умер. Поехала к сыну, говорит: “Папа скончался”. Тот рассмеялся в ответ: “Невозможно! Он бессмертен!” Сначала мать подумала, что в нем проснулась вера, религиозность, ранее привитые понятия; потом оказалось, что совсем не то, просто говорит: не мог умереть и не умер… Пришла ко мне эта женщина, говорит: “Помогите, объясните ему, что папаша умер”. Ну, встретились. Юноше тогда было уже лет двадцать пять, я его знал совсем маленьким. Он говорит: “Отец Антоний, мама ничего не понимает. Мой отец жил только своим пристрастием к машине, к стенным часам, к телевизору, к нескольким статуэткам и картинам, которые у него были, и к предмету, который он преподавал в университете. Вне этого его вообще не было. Пока эти предметы существуют, он такой же живой, как раньше…” Ладно, вы скажете: сумасшедший сказал… А сколько в этом правды! Ведь когда он жил на земле, он без остатка жил только этими предметами. И жену бросил, и сына бросил, и все бросил ради того, чтобы жить этим. Вот и случилось, что когда жил – его не было, а когда умер – ничего, в общем, не переменилось ни для кого. И вот, надо обратить внимание, что если мы так живем, то, конечно, внутрь себя мы никогда не войдем. Надо, чтобы осьминог отпустил то, что, как он воображает, он держит, и чтобы он стал свободным. Я прошу прощения, что вас с осьминогами сравниваю, но я бы сказал, каждый из нас – осьминог в десятой степени, потому что, будь у нас только восемь пристрастий, было бы еще ничего; но мы же прилипли со всех сторон. И мы воображаем, что мы такие свободные, потому что пристрастие-то мое ведь ничто, я ведь не так чтобы что-то очень греховное люблю, а – тут мелочь, там мелочь… Есть другой, детский рассказ из творчества англичанина Свифта, “Путешествие Гулливера”. Попал он в страну лилипутов, заснул на траве; проснулся – встать не может. Почему? Потому что лилипуты каждый его волос привязали к одной травинке. Каждую травинку он бы сорвал и каждый волос он бы вырвал, а когда привязали все волосы ко всем травинкам – с места не мог сдвинуться. А разве мы не похожи на это, разве мы не приделаны к бесконечному количеству травинок, так, что не можем двинуться? Это очень важно.
Ну, предположим, что мы остриглись, оторвались. Как говорит один из Отцов пятого века, вошли под собственную кожу. И вот я весь живу под моей кожей, то есть я изнутри вижу, изнутри действую, а не нахожусь где-то рядом с собой или вокруг. Это еще не значит, что все достигнуто. Надо найти способ дойти до глубины, а не только под своей кожей сидеть.
Первая задача: найти время, чтобы побыть одному. Времени для этого сколько угодно, но мы его не находим. Можно быть в полном одиночестве, когда мы сидим в поезде, мы бываем в полном одиночестве в большом количестве разных моментов нашего дня. Но мы их не используем. И вот – побудь в одиночестве. Что тогда? Опыт показывает: уйдешь, и сначала так тихо и так хорошо. Никто тебе не мешает быть одному. Внешнего шума нет, внешних побуждений нет. Могу быть самим собой. Но проходит очень непродолжительное время, и делается скучно. Что это значит? Это выявляет то, что все, кроме нас, о нас знают: что если с нами остаться вдвоем наедине, то через короткое время делается скучно. А почему? – Потому что во мне ничего нет, чем бы питаться. И тут обнаруживается, что человек большей частью не живет, а реагирует на то, что случается. То есть живет отраженной жизнью, как можно отражать свет. Не то что человек сам в себе имеет жизнь и из внутреннего побуждения, из внутреннего чувства или мысли что-то творит. А: что-то случилось – и я на это отвечаю, еще случилось – и снова отповедь даю; и так мы думаем, что живем. Но так мы не живем, так мы только отповедь даем, реагируем. Акции нет, есть только реакция, ответ на что-то, на вопрос, на оклик: но никогда мы не звучим из себя самих. А когда остаемся одни, оказывается, что действительно мы не умеем изнутри себя как-то действовать, жить. Если принудить себя к одиночеству, то через некоторое время делается просто страшновато, потому что делается темно, и тесно, и страшно в этой пустыне. Пустыня это не только место незаселенное, это всякое место, где пусто. Такая пустыня бывает у человека в сердце. Такая пустыня бывает в толпе. И вот, делается страшно в пустыне. И надо идти дальше. И тут нужно проявить очень много терпения и мужества. Когда дошел до этого момента страха, до этого момента, где делается темно и тесно, надо сказать: Господи, аще и в сени смертней пройду, не убоюся зла, яко Ты со мною еси (Пс. 22:4) – и идти дальше, во тьму, во мрак, , в это узкое ущелье, идти дальше, не ожидая себе света, не ожидая ничего, зная, что когда придет время – свет воссияет, когда придет время – встреча совершится; а пока –пусть будет темно, пусть будет ночь. И вот так идешь, и если претерпеть до конца, тогда приходишь в место, где снова поднимается заря. И это – единственное, что мы можем сделать для того, чтобы встретить Бога в молитве.
Это означает очень важную вещь; это значит, что подготовка к молитве, то есть к молитвословию, к чтению тех или других молитв гораздо важнее самого чтения. Надо стать перед Богом в правде, стать перед Ним и сказать: Господи, я стою в таком-то расположении духа; мне лень, мне скучно, или: мне хочется с Тобой побыть, да не слишком долго; или иное что; и идти, идти, идти. Отрываться и идти вглубь, отрываться и идти дальше. И если этим заниматься неспешно, не назначая себе никаких сроков, а просто изо дня в день, то в какой-то момент можно установиться внутри так, что уже никакие внешние обстоятельства тебя изнутри не выведут. Тогда можно и говорить, можно и читать, можно и общаться, можно и работать изнутри, откуда-то из той глубины, откуда бьет ключ жизни, который бьет из творческого и животворного, основоположного слова Божия.
Молиться легко, когда вдруг ощутишь Бога. Тогда молитва сама бьет, и тогда времени не существует, тогда тело может устать до такой степени, что не знаешь, есть ли оно у тебя или нет, но оно не мешает… Бывает наоборот: молитва рождается от ужасного сознания своего сиротства, такого отдаления от Бога, которое значит для тебя смерть, и тогда опять-таки будешь кричать, и кричать, и кричать к Богу, не зная ни времени, ни усталости, потому что такой ужас смерти тебя охватил. На этом построены наши богослужения, потому что они составлялись не в кабинете, не в уютной обстановке, они создавались постепенно людьми, которые колебались между этими двумя полюсами, или которые одновременно колоссальной емкостью души охватывали и ужас своей всеконечной ничтожности, и бесконечное величие своего призвания, и свою бесконечную бедноту, и свое беспредельное богатства. Так можно было молиться. Подвижники молились; нам эти богослужения даны отчасти в том же порядке, потому что и у нас бывают минуты светлого ликования и минуты истинного сокрушения духа. Но они нам даны тоже и как школа, как обучение тем настроениям, тем внутренним переживаниям, тому строю, тому видению вещей, которое родилось, которое питало этих людей или выразилось в их жизни.
В такое богослужение просто, внезапно ввести человека нельзя. Надо ему научиться сначала молиться в основном смысле слова, то есть приобщиться тем двум основным переживаниям (и многому, кроме того, что я говорил, и но и тому, о чем я говорил раньше). И надо вводить человека в этот опыт постепенно; скажем, в монастыре молодого послушника не заставляют выстаивать все службы с первого дня. Он должен втянуться; его будут воспитывать так, чтобы ему делалось голодно и желанно, ему будут давать службы так, чтобы он хотел оставаться, и ему не давали бы, так, чтобы молитва в храме была привилегией и счастьем, так, чтобы, в конечном итоге, быть в храме было бы для него моментом ликования, радости, священного танца (я сейчас думаю о царе Давиде) или моментом радостной, светлой семейной встречи, как когда соберутся после многих лет члены одной семьи, и расставаться не хочется, и проходит час за часом, и ночь прошла, и утро настало, и оторваться друг от друга невозможно. Но для этого нужно, чтобы было что-то в сердце; просто прошколить, выдрессировать человека, как собаку дрессируют прыгать через кольцо, нельзя, потому что дело совсем не в том, чтобы он развил бесконечное терпение или крепкие ножные мускулы и мог стоять без конца, а в том, чтобы в нем родилось такое чувство, которое его влечет в храм, молиться. Я уж не говорю о том, что надо его учить пониманию и языку этих молитвословий. Мы можем учиться этому из самых простых молитв, если, как говорит епископ Феофан, мы берем утреннее или вечернее правило и не только его вычитываем, а еще хуже – выстаиваем, а стараемся в промежутках между моментами молитвы (то есть стояния лицом к лицу с Богом и общения с Ним в слове) обдумать эти молитвы, понять все, что сказано в них, значение слов, мыслей, чувств, которые вложены в них, обчувствовать эти молитвы (это выражение опять-таки Феофана), и еще вдобавок, если мы твердо изо дня в день применяем в жизни то, что говорим в молитве. Если ты утром сказал: прости, как я прощаю, и у тебя есть на кого-то злоба, в этот же день ты должен что-то сделать в этом отношении. Если ты сказал какую-либо другую фразу или слово в молитве, оно должно быть выполнено в течение дня. И для этого надо разбивать вечернее и утреннее правило на малюсенькие кусочки, которые могут послужить как бы правилом поведения на несколько часов; потом следующее и следующее. Тогда вся молитва делается живой, потому что она так переплетается с жизнью; а вечером, когда приходишь каяться, есть в чем каяться и не приходится выдумывать: “Что бы Господу сказать? всем, Господи, грешен…” – неправда, и слава Богу, что неправда: не всем, а вот какой-нибудь одной вещью так грешен, что каяться надо. Вот если так подготавливать людей, то постепенно они войдут в богослужение, и тогда это богослужение станет песнью души; но иначе – нет, не станет, разве что человек – гений духовный; но тогда он и без нас обойдется и найдет свой путь.
Я употребил выражение закрытые двери. Двери, конечно, не храма, и двери не нашего дома, и еще меньше – двери нашей любви, и еще меньше – двери нашей способности всякого принять, как нас принял Христос; а дверь другая, та дверь, через которую я сам вырываюсь из внутрьпребывания и делаюсь даже не странником, а бродягой. Войди внутрь себя, закрой дверь, стань затворником внутренним, и изнутри действуй, говори. Опять-таки, это не значит разобщенность, а это значит такая собранность, при которой можно всецело пребывать внутри себя, одновременно сияя наружу. Ну, если у вас есть свеча, на ветер вы ее не поставите для того, чтобы в ночи стало светлее, вставите вы ее в фонарь, причем крепко закроете фонарь, чтобы не задуло, и тогда свеча будет светить и в тихой ночи, и в бурной ночи. Вот так надо душу свою вставить, внутрь ввести, оградить ее каким-то образом, чтобы ничто не могло погасить дух, потушить свет, убить тепло, заглушить сияние, и она будет светить. Стяжи мир – тысячи спасутся вокруг тебя, говорил преподобный Серафим Саровский. И это возможно, но при этом надо, чтобы все было открытым. Одна из вещей, которая меня больше всего поразила в какой-то момент моей жизни, это слова Исаии: Дай душу свою на растерзание голодным… Дай, пусть растерзают, пусть насытятся – но не в том смысле, что: расплескай свое богатство, так, что ни ему, ни тебе ничего нет.
[1] Митрополит Никодим (Ротов, † 1978), в то время – Ленинградский и Новгородский.
Я хотел бы сегодня поговорить с вами о молитве и предпошлю тому, что собираюсь сказать, одно короткое замечание. Это, конечно, не будет лекция, потому что о молитве совершенно невозможно читать лекции. Можно из очень богатой сокровищницы православного опыта выделить те или другие моменты, те или другие понятия и подчеркнуть их, можно поделиться, но нельзя ex cathedra читать лекции о молитве, потому что молитва так же неуловима, как жизнь; она, в сущности, жизнь для нашей души, и без нее жизни нет.
Надо различать две молитвы, если так можно выразиться: молитву, которая является встречей с Богом, общением с Ним, живым и глубоким соотношением между Богом и нами, и – молитвословие, которое может быть молитвой, но к сожалению так часто является только словесным упражнением. Вырваться из молитвословия в молитву или проникнуть в молитвословие настолько глубоко, чтобы в его сердце найти молитвенность – одна из основных задач духовной жизни. Это относится к тем людям, которые привыкли молиться, привыкли употреблять священные церковные слова, и для которых от повторения, от невнимательного к ним отношения эти слова стали тусклыми, потеряли свой блеск, потеряли свою действенную силу. Таким людям надо что-то делать, чтобы освободиться из этого колдовства слов, из этого плена словесного. Надо опомниться вовремя и уйти вглубь, чтобы в сердцевине этих молитвенных воздыханий, которые когда-то вырвались из живых душ среди подвига, среди молитвенного труда, в громадном напряжении всех духовных сил и при громадном иногда страдании, найти их содержание и для себя. Вот, начиная с этого, мне хотелось бы рассмотреть некоторые трудности молитвы, как они представляются нам, в нашем современном мире.
Первая трудность, с которой встречаются все, это вопрос времени, и трудность эта – двоякая. С одной стороны, найти время на молитву, а с другой стороны – не дать времени (то есть поспешности, внутреннему напряжению, тревоге о том, что время бежит) убить в нас покой и глубинность, при которых молитва возможна. Найти время и для священника может оказаться не таким легким делом, потому что и священник может быть настолько глубоко поглощен своим служением, может вообразить, что его служение: встречи с людьми, беседы с ними, совершение самих богослужения – настолько важно само по себе, что он себе не оставляет достаточно времени для того, чтобы войти внутрь себя и пребыть безмолвно, то есть без внутренней тревоги, без какого-то движения куда бы то ни было, перед лицом Живого Бога. Вы мне можете возразить, что самое богослужение есть молитва. Да, при условии, что вы в нем молитесь; но само по себе богослужение есть только очень благоприятное условие для молитвы. Человек может отстоять службу и пройти мимо молитвы, человек может ее отслужить и ни до какой глубины встречи с Богом не дойти. И это – одна из самых разрушительных вещей, которая может случиться в жизни священника.
Но другая сторона, более, мне кажется, трудная и важная, это вопрос времени как такового. Вы, наверное, все знаете, как иногда становишься на молитву, и неотступно тебя гложет сознание, что время бежит, что надо “закончить правило”, надо “вычитать” канон, надо дойти до конца чего-то, а время как будто бежит с такой быстротой, что не поспеваешь за ним. И получается, что часто человек молится все поспешнее и поспешнее. Сначала он молится с каким-то сочувствием к словам, затем – еще с каким-то пониманием того, что он делает, потом все быстрее и быстрее, будто задача в том, чтобы уложить определенное количество молитв в определенное количество времени. И часто выходит человек после такой молитвы, будто он прошел мимо Бога. Все прочел, все сказал – и ничего не случилось. Вот тут проблема времени стоит очень остро.
Говоря сначала в порядке как бы внешней техники вопроса, есть замечательный совет в сочинениях епископа Феофана Затворника. Он указывает, что для того, чтобы молитва могла быть глубокая, неспешная, спокойная, внимательная, благоговейная, надо ее определять не количеством молитв, которые предполагаешь прочесть, а временем, которым ты располагаешь, и в это время молиться предложенными нам молитвословом или другими богослужебными книгами молитвами, не заботясь о том, закончишь ты свое правило или нет, дочитаешь или нет (здесь, конечно, речь идет о частной молитве отдельного христианина). Он указывает, например, что если у человека полчаса времени по ходу его дел, пусть он становится на молитву и с крайним, предельным вниманием, собирая в себе все благоговение, на которое он способен, приносит каждое слово молитвенное, каждое молитвенное предложение Богу, не заботясь о том, что будет. И он указывает в этом письме, что если за все время, которым ты располагаешь, ты прочтешь какую-нибудь четверть или половину вечерни или другого правила, которое ты себе назначил, но прочел это всем умом, всем сердцем, всем твоим естеством, ты исполнил правило, тогда как если ты “вычитал” все, проходя мимо каждой молитвы, ради того чтобы дойти до следующей (и это бывает), ты не исполнил правило, хотя и вычитал все. Потому что Богу нужно наше сердце, наше сознание, Богу нужна, так же как и нам, встреча, а вовсе не повторение молитв, которые были сложены другими и которые мы можем принести как свои, только если вложим в них наш ум, наше сердце, нашу волю, весь порыв всего нашего естества, включая и тело наше.
Это первое, что, мне кажется, нам надо помнить, потому что если мы так начнем, вначале нам не удастся, вероятно, в короткое время прочесть длинное правило; но по мере того как мы будем внимательно, благоговейно переходить от слова к слову, от мысли к мысли, от чувства к чувству, эти чувства и мысли станут искрометными в нас, так что через некоторое время будет довольно сказать слово для того, чтобы весь ум собрался, все сердце загорелось. И тогда не приходится долгим, напористым трудом доводить до своего сознания, до своего чувства молитвенные слова, потому что сознание, подготовленное из недели в неделю, а иногда из года в год, сердце, вспаханное этим трудом, будет отзываться мгновенно. И окажется, что после долгого, медленного, частичного труда мы вдруг стали способны с полным вниманием, с полным сердечным участием, всем нашим естеством возносить молитвенно все правило Богу.
Это относится вообще ко всякой человеческой деятельности. Чем бы вы ни занимались, если вы вначале будете очень внимательно, точно, медленно выполнять свое дело, через короткое время оно настолько станет вам привычным, что вы сможете действовать все быстрее и быстрее, не теряя совершенства исполнения при этом. Если же вы будете стремиться к быстроте, то это будет всегда за счет совершенства, качества; мы все это знаем, думаю, из разных областей жизни, начиная от самых простых и до самых сложных.
Очень часто время все-таки врывается в нас, в наше сознание; и вот нам надо научиться справляться с временем, просто останавливать время. Разумеется, я говорю не о течении звезд и движении Земли вокруг Солнца; я говорю о чем-то ином. Время бывает разное. Есть время, которое определяется часами, а есть время, которое определяется внутренним переживанием. Мы все знаете, как иногда несколько минут могут казаться бесконечно долгими: когда ждешь чего-то с напряжением, или со страхом, или с тоской, или с тревогой. Но вы также знаете, наверное, как иногда мгновенно промелькнут вдруг несколько счастливых или горестных часов. И вот я об этом времени говорю, об этой остановке времени, о том, чтобы справиться с временем в этом отношении.
Первое, я думаю, что мы должны помнить – и мы не всегда помним: за временем совершенно нечего гнаться, потому что время не от нас бежит, а к нам бежит. Буду ли я спешить навстречу следующему часу моей жизни, буду ли я сидеть и ожидать его прихода – неминуемо этот час ударит; поэтому те люди, которые как бы торопятся навстречу следующему часу – напрасно трудятся. Час придет, а то время, которое употребляешь на то, чтобы к нему устремляться с волнением, можно было бы так спокойно употребить на что-нибудь другое, более путное, нежели волнение и устремленность впустую. Это важно помнить, потому что все приходит в свое время, но в свое время или, если предпочитаете, в Божиевремя. Как ты ни стремись достигнуть момента, когда будешь молиться углубленно, до времени ты этого не достигнешь. И напрягаться к тому, чтобы видеть плоды молитвы, результат своего труда – совершенно безрассудно; так же как земледелец не ходит каждый день в поле смотреть, проросла ли травка. Он знает, что посеял семена, а теперь – ждать. Придет срок, они взойдут, и все будет, но пока они всходят, он, как Евангелие говорит, ест и спит и делом своим занимается. А мы часто, именно под напряжением этого ожидания или устремленности вперед, не молимся сейчас всей глубиной нашей души, потому что молимся и одновременно глядим, не поднимается ли заря будущего века… И не поднимается, потому что подняться-то она может только у нас в душе, и как ни смотри вдаль, не увидишь ее. И вот, одна из задач в том, чтобы научиться справляться с этим внутренним временем. Для этого можно делать просто, очень спокойно, определенные упражнения.
Упражнения заключаются в том, чтобы, когда вам нечего делать – ничего не делать и никуда не устремляться. Это кажется очень простым делом, а попробуйте… Вот выдалось пять минут свободного времени. Что вы делаете большей частью? Ерзаете на стуле; перебираете бумаги; смотрите вокруг; складываете и раскладываете книги; перекладываете тетради; смотрите в окно; думаете о том, что будет – то есть, занимаетесь тем, чтобы момент совершенной устойчивости превратить в маленькую бурю, – ну, в какую-то рябь, бурю в стакане. Вместо этого попробуйте ( и это далеко не легкое упражнение), если у вас есть пять минут, когда вам просто, вполне законно нечего делать, – сядьте и не делайте ничего. Сядьте и осознайте: вот я – Петр, Иван – сижу. Вокруг меня тихо, ничего не происходит и нечему происходить, и я – перед лицом Божиим; и побудьте эти какие-то мгновения перед Божиим лицом. Вы увидите, что это далеко не так легко, потому что начнутся кружиться мысли, как мошкара в весенний вечер, по словам Феофана Затворника; какие-то воспоминания начнут подниматься в душе, что-то будет подсказывать: Ах! а я забыл то, и другое, и третье, что надо сделать; тревога начнется, напряжение тела… И вот надо научиться справляться и со своим телом. Надо научиться сесть и расслабиться, сесть так, чтобы не сидеть, будто на угольках, а сидеть, как на стуле или в кресле, “осесть”, добиться покоя телесного, вслушаться в тишину, которая вокруг.
Здесь борьба с временем, с тревогой, которую время рождает в нас, совпадает с исканием внутреннего и внешнего молчания. Внешне молчать мы кое-как можем, хотя и тут мы часто воображаем, что молчим, а на самом деле ведем постоянный диалог с самим собой. Это тоже – течение, а не стояние перед Богом. Но вот я хочу вам рассказать про одну старую женщину (кажется, я о ней рассказывал в свое время здесь, – простите те, кто это помнит).
Вскоре после моего рукоположения пришла ко мне старушка, говорит: “Вот уже много лет я занимаюсь постоянно Иисусовой молитвой, и никогда Божьего присутствия ощутить не умела; что же мне делать?” Я ей посоветовал то, что мне казалось очень разумным: обратиться к кому-нибудь, кто умеет молиться. Она мне в ответ: “Да я всех спрашивала, кто знает, и ответа не получила, так я решила вас спросить…” Ну, утешительно было. Я тогда ей сказал по простоте: “Как вы думаете – когда же Богу слово вставить, если вы все время только и делаете, что говорите? Вы бы помолчали перед лицом Божиим”. – “А как это сделать?” Говорю: “Вот утром проснетесь, приберетесь, позавтракаете, уберете свою комнату, а потом сядьте поуютнее перед своей лампадой в комнате и занимайтесь вязанием перед лицом Божиим, только не молитесь , а просто сидите в сознании, что и вы тут, и Бог тут”. Мне вспомнился, по правде сказать, случай из жизни одного католического святого, который был приходским священником и обратился раз к крестьянину, часами сидевшему в церкви. Четок он не перебирал, губы у него не двигались, он просто сидел. И священник его спросил: “Что ты часами делаешь в церкви?” Тот Ответил: “Я на Него гляжу, Он – на меня, и нам так хорошо друг со другом…” Мне вспомнились эти слова, и я подумал: пусть старушечка моя попробует, не будет ли Богу и ей хорошо просто друг со другом и не скажется ли это как-то у нее в сердце сознанием, что Бог тут?
Через некоторое время приходит моя старушечка и говорит: “Знаете что, на самом деле что-то выходит!” Я спросил: “А что именно?” И она рассказала, как она убрала свою комнату, уселась в кресло, начала вязать и впервые после многих лет начала озираться вокруг не для того, чтобы что-то сделать, а просто посмотреть; и впервые после многих лет она увидела свою комнату не как место какой-то отчаянной деятельности, а просто как место покоя, где она живет – светлое, тихое, чистое, привычное, с лампадкой. Тихо стало вокруг, и у нее стало как-то тише в голове; стала вязать и прислушиваться к тому, как звякают спицы по ручкам кресла. От этого еще как-то тише стало в комнате. Так она молчала, и вязала, и радовалась душой на тишину, в которой сидела. А потом эта тишина начала в нее как-то постепенно вливаться. Ей стало тише и тише, телесно, душевно. “А потом, – сказала она, – не знаю, как это объяснить, но я почувствовала, что то молчание, та тишина, которые царствуют вокруг – не просто отсутствие шума, а присутствие какой-то сущностной тишины, и что в сердцевине этой тишины – Бог”.
Вот о чем я думаю как о первом шаге: сядь; утихни; подумай о том, что Бог здесь, что искать Его нигде не нужно, что тебе хорошо с Ним и Ему хорошо с тобой; и просто побудь, сколько можешь. Через короткое время по непривычке это станет упражнением слишком трудным. Я думаю, две-три минуты от силы выдержишь для начала. Тогда тихонько начни молиться. Но молиться такой молитвой, которая не разбивала бы тишину: Господи, помилуй… Господи, помилуй… – или что угодно. Ведь царь Давид в одном из своих псалмов говорит: Радость Ты моя!.. – можно и так к Богу обратиться. Что угодно можно сказать, лишь бы слова не были отрицанием и уничтожением той тишины, которая начинает рождаться в душе. Вы сами знаете, как иногда неожиданно, без того чтобы мы что бы то ни было сделали, на нас сходит тишина. Бывает это в любой обстановке, не обязательно там где тихо, не обязательно в лесу, в поле, не обязательно в пустой церкви; иногда среди шума житейского, среди тревоги вдруг коснется души какая-то тихость, и душа уходит вглубь, в какой-то град Китеж, который (вдруг оказывается) есть под бурной или рябой поверхностью нашей души и нашего сознания. Иногда это бывает, когда вдвоем с кем-нибудь сидишь. Поговоришь; потом и говорить не хочется, и уходишь вглубь, и все глубже, и делается все тише, и нельзя тогда ничего сказать, потому что кажется, что любое слово разобьет, вдребезги разнесет эту тишину. А потом эта тишина делается такая глубокая, что в ней начинает рождаться возможность что-то сказать; и тогда говоришь осторожно, трезво, немногоречиво, тихо, и каждое слово выбираешь так, чтобы в нем была правда и чтобы оно не разбивало эту Богом данную тишину.
Один западный подвижник одиннадцатого века, оставшийся безымянным, написал такую фразу: “Если на самом деле Сын есть Слово Отчее, то мы по справедливости можем сказать, что Бог – это то бездонное безмолвие, то бездонное молчание, из которого только и может прозвучать слово, до конца совпадающее с молчанием и выражающее его”. Вот если дойти до такой тишины, тогда можно начать говорить какие-то молитвенные слова; но говорить их с такой бережностью, так осторожно, чтобы не нарушить то, что дал Бог: тишину, безмолвие, молчание. И не справедливо ли попутно заметить, что и некоторые состояния, которые мы иначе определяем, являются благоговейным безмолвием; вера, например, как уверенность в вещах незримых, когда мы стоим на грани, зная и ведая, но ничего не говоря и не в состоянии что-либо сказать о той тайне, перед которой мы стоим.
Вот попробуйте это в виде первого упражнения. Но этого недостаточно. Надо научиться удержать состояние, свободное от тревоги, и тогда, когда тревога собирается ворваться. Бывает, например: собрался, стало тихо, назначил себе какие-то пять минут молчания, и вдруг кто-то постучал в дверь. Можно было бы и не отозваться, но сразу сердце всколыхнулось, мысли забегали, любопытство начинает уже грызть, покой-то ушел, хочется открыть дверь. Конечно, мы это прикрываем названием братолюбия, внимания, правдивого отношения к тому человеку, который стучит в дверь; на самом деле на две трети это просто неспособность спокойно сидеть и любопытство.
И вот, второе упражнение заключается в том, чтобы себе сказать: может быть, постучат в дверь, может быть, будет звонок в передней, может быть – телефон, мало ли что может быть, – а меня нет, я теперь уже не в этой комнате, я в Божием присутствии. Мы так поступаем постоянно, только не замечаем этого. Когда вы ушли, например, на базар, и кто-то стучится к вам в комнату, никто не открывает; когда вы ушли куда-нибудь на прогулку, к друзьям, никто не открывает вашей двери. Поэтому так и смотрите: я – в присутствии Божием, значит, некому и открывать. Если вы постарше да поэнергичнее, тогда вы можете поступать – как бы сказать помягче? – с большей уверенностью. Мой отец любил молиться и жил одиноко, и на свою дверь приделал записку: “Я дома, но не трудитесь стучать, – все равно не открою.”. Если у вас такое положение, когда вам хочется быть правдивым до конца и вместе с тем обеспечить себе эти несчастные пять минут (за которые все без вас обойдутся: честное слов, никто из нас не настолько необходим миру, чтобы мир не мог бы пяти минут обойтись без нас) – обеспечьте себе эти пять минут, как хотите: сделайте вид, что вас нет, спрячьтесь. Был когда-то в Петербурге отец Александр Косухин, большой друг Иоанна Кронштадтского, – тот себе устроил прямо из алтаря лесенку на чердак. Кончал литургию и по лесенке влезал на чердак, тянул лесенку за собой, и пока он “про жадную душу” не намолится, не спускался. Прихожане могли его искать, и прислужники шныряли по алтарю, думали: куда делся? А потом привыкли, что его нет после литургии, и все привыкли, и ничего ни с кем не сталось. И ни с кем ничего не станется, если на пять минут вы исчезнете с горизонта людского. Правда, мир может обойтись без каждого из нас пять минут и даже больше.
Если вы научитесь сидеть совершенно спокойно за дверью, в совершенном покое и тишине, когда кто-нибудь стучит, когда зовут по имени, это уже будет начало того, чтобы уметь останавливать время. И тогда вы можете останавливаться в нынешнем моменте. Дело-то в том, что вы не можете молиться ни в прошлом вашем, ни в вашем будущем, а только в то мгновение, в котором вы сейчас находитесь. Прошлое прошло, и туда возврата нет. Будущее впереди, и вас там еще нет; а вы находитесь в том мгновении, где и Бог и вы в вечности и во времени одновременно, – в объективном времени и в божественной вечности. Научиться жить в том мгновении, в котором мы находимся, не всегда легко, потому что мы привыкли к тому, чтобы настоящее было только такой воображаемой гранью между прошлым и будущим; мы переходим из прошлого в будущее, как, знаете, перекатывается яйцо, когда катаешь крашеное яйцо на полотенце. Оно сначала тут, потом там, но нигде не задерживается; так и мы ни в какое мгновение не находимся в реальности, в нашем настоящем. Отчасти мы живем тем, что только что было, и не умеем высвободиться; отчасти мы уже где-то впереди себя, то есть спешим. И вот тут надо научиться делать различением между быстротой и поспешностью; различение это очень простое.
Вы, наверное, видели, как человек старый или увечный, или слабый старается догнать троллейбус или идущего впереди приятеля: он спешит отчаянно, а движется медленно. И все время, пока он спешит, он старается поймать самого себя, идущего впереди него. Ему хочется каждое мгновение быть на шаг дальше, чем он есть. И вы знаете тоже, как бывает во время отпуска, каникул летних: идешь бесцельно, но чувствуешь себя хорошо, бодро, жизнь чувствуется в теле. Можешь и побежать, но никуда не спешишь, потому что никуда не стараешься попасть раньше того момента, когда до этого места дойдешь. И вот то же самое бывает с нашим внутренним миром. Мы не имеем права стараться добраться куда-то, мы должны там, где находимся, делать все, что сейчас можем. Будь всем, что ты есть, делай все, что ты можешь; а время, как я в начале говорил, в твою пользу работает, оно к тебе течет, оно мимо тебя проходит, спереди назад, и дойдет до места, которое тебе нужно.
Я это испытал, когда меня во время немецкой оккупации арестовал. В тот момент я вдруг обнаружил очень интересную вещь. Во-первых, что прошлое вдруг мгновенно исчезло, потому что прошлое было таково, что меня за него засадили бы и, вероятно, расстреляли; значит, реальному прошлому не было места, оно должно было исчезнуть. А того нереального прошлого, которое я собирался рассказывать, когда меня будут допрашивать, все равно не было; значит, я оказался без прошлого. И еще другую интересную вещь я обнаружил: будущее существует для нас, лишь поскольку мы можем вообразить, что будет впереди, и перенестись туда; но когда и вообразить не можешь, то и переноситься некуда, и будущее вдруг исчезает. Так бывает, когда войдешь в темную комнату, и ничего не видно, и весь мир кончается вот тут, потому что впереди только тьма, нет никакого пространства, а только глубокая тьма. И вот находишься, как будто в геометрическом плане, в малюсеньком отрезке времени, в котором сосредоточилось все твое прошлое и из которого может вырасти все твое будущее.
Такой момент, такое состояние дает нам возможность молиться всеми силами нашего естества – и ума, и сердца, и воли, и тела, потому что все сосредоточено в одну-единственную точку, которая достигает такой напряженности, такой сгущенности, что если только она разрядится, то на ней можно действительно строить будущее. И из этой точки можно смотреть на прошлое, но не быть воображением в своем прошлом; можно смотреть вперед, но не быть как будто где-то там, впереди, а быть здесь и смотреть вперед, как человек смотрит, например, в окно. Он – в комнате, сад снаружи; он видит сад, он может или вообразить себя в саду, или знать, что он здесь, за стеклом (а то и за решеткой)… И вот, если научиться этому – а научиться этому можно просто теми упражнениями, которые я указывал – тогда можно стоять перед Богом.
Ведь это опыт, который есть у нас и в других областях. Скажем, когда мы едем куда-то на поезде, поезд мчится, а мы сидим в совершенном покое, смотрим в окно, читаем газету или книгу, можем молиться, можем разговаривать, причем не о том месте, куда мы едем, и не о том, что мы там будем делать, и не о том, что нас там ожидает, а просто о том, что нам интересно говорить нашему спутнику или от него слышать. Почему же нам не применить это в молитве? Это опыт каждодневный; ведь только очень неразумные люди, когда едут из Одессы в Ленинград, во время путешествия стараются перебраться из последнего вагона в первый, чтобы быть ближе к месту прибытия. Всякий же понимает, что на таком расстоянии весь поезд меньше полувершка, значит, не стоит и двигаться. А в нашем молитвенном пути мы стараемся эти полвершка пройти вот-вот теперь, будто мы будем ближе к небу от того, что мы вот столько-то прошли. А небо само к нам идет, и время нас туда несет, только бы мы занимались своим делом и ввели небо в то место, где мы находимся, потому что это зависит от нас. Если мы живем в настоящем мгновении, если мы в это мгновение пребываем перед лицом Божиим, – все небо тут, и нечего его искать где-то за облаками: там его нет, оно только тут, где Бог и я находимся вместе, лицом к лицу, – и даже больше, чем лицом к лицу.
Мне кажется, что вопрос времени, о котором я сейчас очень много говорил, чрезвычайно важен, потому что на этом разбивается очень много молитвенного усилия.
Другая вещь, о которой я хочу сказать, это то, о чем епископ Феофан тоже пишет в первом из своих “Четырех слов о молитве”. Он говорит, что ко всякому делу мы приступаем с какой-то расстановкой и подготовкой; только в молитвенное делание, нам кажется, мы можем в любую минуту опрометью броситься. И он дает такой пример. Вот хочешь написать письмо. Вернулся ты домой разгоряченный, взволнованный; разденешься, повесишь верхнюю одежду на крючок; вымоешь руки, остынешь; потом подойдешь к письменному столу, сядешь, притом поудобнее, возьмешь бумагу, выберешь перо и подумаешь: во-первых – кому я пишу, во-вторых – какие у меня отношения с ним, как обратиться к нему, какими словами, каким стилем; и только тогда начнешь писать. А иногда даже заранее как-то распределишь разные вещи, о которых хочешь сказать, в определенном, разумном, осмысленном порядке.
Делаем ли мы это, когда становимся на одинокую молитву, или даем ли мы себе время, когда приходим в храм на общую церковную молитву, прийти достаточно рано, чтобы успеть это сделать раньше, чем первый возглас уже внесет нас в ту область, к которой мы еще не подготовлены? Знаете, иногда волна на краю моря вас возьмет и собьет, и унесет; хотя и плавать умеешь, и собирался в воду, но без внимания подошел, и событие опередило твою готовность. И мне кажется справедливо сказать человеку, который начинает молиться (а начинающие – мы все, и годами мы начинающие, и всю жизнь мы начинающие, потому что каждый день – день совершенно новый, небывалый, и в каждый день мы вступаем совершенно новыми людьми, небывалыми; ночь, которая разделяет прошлый день от настоящего, это время как бы небытия для нас, мы вновь рождаемся в новый день): стань и поставь себе первый вопрос: к кому я пришел? Верю ли я, что стою перед Божиим лицом? Есть ли во мне какой-то опыт того, что Бог действительно есть и что я перед Ним стою? И потом не стараясь – это очень важно – картинно себе представить, будто стоишь перед Богом или будто Бог перед тобой (потому что тогда я построю себе фантастический образ и буду обращаться к этому образу, а не к Живому, непостижимому, бездонно-таинственному Богу), встать и верой сказать: Верую, Господи, что Ты тут, и буду стоять перед Тобой, невидимым, непостижимым, с готовностью пережить Твое присутствие или пережить – субъективно говоря – Твое мнимое отсутствие, потому что я не смогу дойти до Тебя!..
Это – первое. Второе: честно и правдиво осознать перед Божиим лицом, с чем я теперь стою перед Богом. Вы благочестиво скажете: я стою перед Богом с благоговением, с верой и т.д. Оно так звучит лучше, чем есть; потому что если вечером, когда вы устали от дневного труда, когда вам хочется или почитать что-нибудь, или просто лечь, вы поставите перед собой вопрос: с чем я сейчас стою перед Богом, очень ли мне хочется молиться, ждал ли я весь день этого мгновения встречи с Богом, вы, вероятно, часто ответите: нет, весь день был занят чем угодно, я занимался даже предметами, которые как-то косвенно относятся к Богу, скажем, богословием в той или другой форме; но я не ждал этого мгновения, когда наконец мы будем вдвоем и одни. Если покопаться, бывает, что честно ответишь: становлюсь я на молитву, потому что во мне сидит какие-то суеверие: не помолюсь – Бог не защитит в течение ночи… Я сомневаюсь, чтобы с вами такого не бывало, но даже если допустить, что этого с вами не бывает, то бывает с другими людьми.
Определите то состояние, тот строй, с которым вы к Богу пришли, и скажите Ему прямо: Господи, по правде сказать, мне не хочется сейчас молиться, по правде сказать, я бы предпочел, чтобы можно было без этого обойтись, только боюсь, или стыжусь, или чувство долга во мне крепко, а любви-то к Тебе очень мало… И так далее: посмотрите в свое сердце и найдете массу ответов; и признайтесь, скажите Богу, и с этого и начните свою молитву. Раньше чем читать молитвы святых, где выражаются чувства, которые у вас – у нас – должны бы быть, но которых так часто нет, поисповедайтесь Ему в своем настроении, в своем расположении.
Сделайте так, и тогда вы можете встретить два рода обстоятельств. Или от того, что вы были правдивы и честны, в вас родится живое, добротное чувство к Богу, и вы сможете начать с Ним говорить; или же до чувства вам не удастся дойти. Если родится какое-то живое чувство: пусть будет покаяние, пусть будет благодарность, пусть будет трепет – тогда берите молитвенник и читайте внимательно, отдавая себе отчет в том, что означает то, что вы говорите. Вот первые слова вечернего, утреннего правила, всякой службы, которую мирянин вычитывает: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Большей частью это воспринимается людьми как просто вступление; но не значат ли эти слова, что я стал теперь перед Богом в Его имя, а не в свое, не от себя, а от Него, не ради себя, а ради Него; что все, что сейчас будет происходить в молитвенном порядке, зиждется на Нем, покоится на Нем, уходит в Него и вернется от Него ко мне. Возьмите хоть такую фразу и скажите ее сознательно, и вы увидите, что в то же мгновение сделается это очень трудным. Потому что просто сказать: Во имя Отца и Сына и Святого Духа – не трудно, а сказать это и себя просто отстранить, отодвинуть в сторону, и действовать в Божие имя, ради Него – совсем другое дело. И тут начинается наше освобождение от себя самого, от духовного корыстолюбия, от всяких переживаний, которые у нас есть и от которых гниет в нас молитвенный дух.
Потом дальше читайте молитвы – спокойно, читайте их, не направляя к Богу куда-то, а направляя их острие на себя самого, то есть доводите до своего собственного сознания, до своего собственного чувства, до своей собственной воли, до своего тела эти молитвенные слова, так, чтобы они вошли в вас, и всем сознанием, всем сердцем, всей волей, всем напряжением телесным, которое только вам доступно, воспринимайте эти слова. Не беспокойтесь: когда вы их доведете до сердца, оттуда они сами вспорхнут к престолу Божию. А если вы будете из уст их отсылать в небеса, то до вас они не дойдут, а до Бога они дойдут как молитвы других людей, которые их складывали, и вы будете просто чтецом, который прочел, но это не ваши молитвы будут.
Бывают другие случаи, когда сердце настолько мертво, когда силы и жизни отозваться не хватает, – тогда можно произносить эти молитвы из убеждения, а не из переживания. Вы знаете, как иногда бывает: устанешь до предела и однако действуешь в том или другом направлении, потому что знаешь, что хоть сейчас ты этого не ощущаешь, но где-то в тебе чувство живет. Бывает так: вернешься домой совершенно изможденный от усталости. Если тебя спросить: а скажи, ты чувствуешь живую любовь к тому человеку, который вот теперь тебя неожиданно посетил и требует помощи? – ты скажешь: нет, не чувствую, потому что я так устал всей душой и телом, что не добраться до чувства, я мертв, но буду действовать, будто я это чувствую; не лицемеря, а потому что знаю, что отойдет усталость, снова поднимется, как град Китеж из глубин, живое чувство. И тогда можно эти же молитвы произносить из убеждения, а не из чувства, произносить их, сказав Богу: Господи, я сейчас не могу собрать никаких чувств, даже мысли мои еле-еле ползут по этим словам, но эти слова выражают все, во что я верю, эти слова правдивы до конца, и я их говорю со всей правдивостью, несмотря на мое бессилие их в данную минуту пережить… Но говорить их иначе, то есть притворяясь, будто это то, что я чувствую и думаю, когда мысли разбегаются, когда сердце безучастно, когда и мысли не имеешь о том, чтобы исполнить на самом деле то, что говоришь – это безбожно, это кощунственно. И вот, если вы будете учиться изо дня в день молиться ответственно, молиться так, чтобы каждая молитва стала вашей, то когда вы придете в храм, душа ваша будет готова, как арфа, запеть под рукой того, кто на ней играет – Духа Святого.
И для того чтобы это стало возможно, надо сделать еще одно последнее: надо, чтобы молитва и жизнь так между собой переплелись, чтобы одна выражала другую. Нельзя вечером или утром становиться перед Богом и говорить Ему те или другие слова, и затем жить наперекор всему тому, что ты исповедал в своей молитве. Нельзя говорить Богу:Готово сердце мое, Господи, готово сердце мое…; нельзя говорить Богу: Душа моя яко земля безводная Тебе или: Яко лань, стремящаяся на источники вод, когда никуда не стремишься и душа ничего не ощущает подобного. Но еще меньше можно говорить Богу ответственные слова: прощаю.., имею волю каяться.., хочу… того или другого, как мы говорим в утренних и вечерних молитвах, и не касаться этих слов на самом деле в жизни; потому что тогда слова постепенно тускнеют, их покрывает плесень, они делаются безвкусными, они делаются со временем приторными и противными, ибо они отдают ложью и бесконечным повторением.
Если же мы возьмем каждую молитву, которой молимся, и разделим ее на такие предложения, которые мы можем провести в жизнь, и день за днем будем посвящать тому, чтобы жить этими молитвами, жить по часу, по два, по три одним предложением; если брать отдельные предложения: не стану осуждать, не стану делать того, буду делать то – как правило на час, на два, на три, на полдня, на неделю (в зависимости от того, насколько хватит в нас не только духа, а прошколенности в этом отношении, устойчивости, способности на продолжительный труд, чего у всех нас чрезвычайно мало) – если так будем поступать, то эти слова никогда пленкой никакой не подернутся, они будут каждый день, как меч острый, и когда мы будем приходить с утра к вечеру или с вечера на утро к молитве, то каждое это слово, каждое предложение, каждая молитва будет или судить нас, или раскрывать перед нами божественную подвижническую программу жизни.
Вот если вы попробуете применить к делу те две-три вещи, о которых я сегодня говорил, сознавая, что вы в самом начале вашего пути, как все мы, без исключения, каждый день, на самом начале пути, вы увидите, что соберется постепенно молитва, и тогда она уже будет не внешним упражнением, и даже не состоянием души, а самым бытием нашим. Но для этого нужно, чтобы молитва и жизнь стали одно, как Ефрем Сирин говорит: не заключай в одни слова молитву твою, пусть вся твоя жизнь станет богослужением.
Владыко, простите, вот Вы говорите о молитве. Но ведь мы живем в сложных ситуациях, поэтому нельзя мыслить о человеке, как об этой старушке она углубилась и вяжет себе чулок. Мы живем в мире, где масса не от нас зависящих вещей. Это проблема, по-моему…
– Это проблема; но я вам отвечу для начала сравнением. Когда на вас найдет большое, подлинное горе или громадная, захлестывающая радость, то очень ли окружающий мир в течение дня мешает носить ее в сердце, переживать и все делать на фоне ее? Едва ли. Беда в том, что молитва уходит, как солнце за тучу, потому что наша молитва, наше предстояние перед Богом, наше переживание Бога гораздо слабее того, что у нас бывает в жизни, когда близкий человек умрет или когда мы вдруг обнаружим, что человек, о котором мы думали, что он погиб –жив и перед нами. Об этом надо подумать, потому что это факт нашей жизни.
Другое вот что можно сказать. Житие одного из святых рассказывает следующее. Когда он был еще юношей, он услышал в церкви какие-то слова о молитве, которые его так поразили, что он захотел уйти и только этим жить: молиться, молиться, молиться… Был он безграмотный и необразованный церковно, и поэтому знал-то, кажется, только “Отче наш”. Ушел он в соседнюю гору и первые часы повторял эту молитву. Пока душа была жива, трепетна, он ее повторял раз за разом с живым, трепетным чувством. А потом день начал склоняться к вечеру. Ему было лет девятнадцать, его стал мучить голод, и он решил поискать, чем бы покормиться. Стал ходить собрал каких-то ягод, поел их немножко, голод не очень-то утолил. А к тому времени стало смеркаться все больше и больше, и он начал слышать, как вокруг него просыпается жизнь леса, жизнь гор: звери хищные. То глаза блеснут, то легкие шаги слышны – и на него напал страх. И тогда он начал кричать перед Богом: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй, спаси меня!.. И всю ночь со страху он так кричал. Утро пришло, звери улеглись в свои берлоги, и пришло время ему ягоды искать. Но теперь он уже знал, что под каждым кустом может сидеть один из тех страшных зверей, которые всю ночь рыскали вокруг него. И стал он ходить в своих поисках еды и все время говорил: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!.. Голод его мучил, ночь он не спал, усталость его одолевала. И стал он все отчаяннее взывать к Богу о помощи, потому что он не видел себе ни помощи, ни спасения. И ночь настала, и день настал; и так год за годом прошли.
Однажды, уже много лет спустя, когда он был уже стариком и прославленным, его посетил подвижник из какой-то пустыни и спросил: “Отче, кто тебя научил непрестанной молитве?” И тот ответил: “Бесы…”Потому что кроме зверей, голода, холода и одиночества, к которым он прижился довольно-таки быстро, начали нападать на него роями и помыслы, и плотские движения, и воспоминания, и все возможные соблазны. И чем больше они на него нападали, тем больше он кричал о помощи, до дня, когда вдруг перед ним явился Христос и настала тишина. Но к тому моменту он научился основному, чему всякий подвижник должен научиться: что если только Господь отнимет Свою защиту, никакие свои или другие человеческие силы не помогут. И поэтому он продолжал молиться. Хоть зверей он больше не боялся, хоть голод он преодолел, хоть подвижником он стал в бдениях, хоть бесы в это время отошли, он продолжал молиться той же молитвой.
И мне кажется, нам надо помнить, что если бы мы умели использовать все случающееся для того, чтобы молиться, нам некогда было бы заниматься чем бы то ни было другим: каждое мгновение нам предоставляет эту возможность, и даже то неладное, что в нас происходит. Если каждый раз, когда мы видим зло вокруг себя, мы на него отзывались бысостраданием, вместо того чтобы отзываться осуждением, и говорили: “Господи, спаси этого человека, прости ему; если я ошибся в своем суждении – слава Богу, но если я прав, только не осуди его, как я его осудил”; если, когда мы обнаруживаем, что не успели посострадать, а только осудили, мы повернемся потом душой к Богу и скажем: “Господи, прости, и только, только не осуди, как я осудил”; если каждый раз, когда мы сделаем что-нибудь доброе, мы с изумлением станем перед Богом и скажем: “Господи, спасибо Тебе, что Ты мне дал это сделать, своими силами я никак бы не смог”, тогда и грех, и добро, и зло, и наша слабость – все было бы для нас постоянным рядом обстоятельств для молитвы. Поэтому мешает нам не делание, мешает нам не то, что вокруг делается, а мешает нам молиться то, что в нас делается, и то, чего мы внутри себя не делаем. Были святые – возьмите апостолов, возьмите некоторых других подвижников, которые жили в постоянной суете: Амвросий Оптинский хотя бы, Серафим Саровский последние годы жизни, и другие, для которых все было пищей для молитвы, как дрова – пища для огня.
Если мы не можем молиться от окружающей нас бури, то лишь потому, что пустили бурю внутрь, не потому что буря вокруг. Ибо пока буря вокруг и мы в буре, мы кричим к Богу отчаянно; когда вдруг она ворвалась, мы уже больше кричать к Богу не можем, потому что она нас бьет во все стороны. Возьмите евангельский рассказ о буре на море Генисаретском, когда Христос спал на корме, и апостолы боролись со смертью, с волнами. Сначала они боролись, потом отчаялись и допустили тревогу и бурю внутрь. Это ясно видно из того, что они подошли ко Христу и не сказали Ему: “Господи, Тебе дана всякая власть на небе и на земле, Ты Хозяин жизни и смерти, Ты – Господь, сотворивший при нас столько чудес! Сотвори по воле Твоей и спаси нам!” Нет! Они его разбудили и сказали: Неужели Тебе дела нет до того, что мы погибаем?.. Они уже не думали о том, что Он имеет власть одним слово утишить бурю или их спаси иным образом. Они только хотели Его, своего Учителя и Бога, вовлечь в собственную тревогу. Если перефразировать, можно было бы так сказать: “Господи, если Ты ничего не можешь сделать, хоть не спи, хоть помучься с нами!” И Христос на это так и отзывается. Евангелие в этом смысле метко подчеркивает, что Христос не только на корме спал – с головой на подушке спал: Богу дела не было до них, Он Себе в Своем покое отдыхал, пока они, Его несчастные ученики, мучились. И Христос встает и говорит им: Маловеры, доколе Я буду с вами? А потом, уже не обращая внимания на этих Своих учеников и не давая буре войти в Себя, Он обращается к ветрам и к морю и говорит:Умолкни, утихни. Как бы Свой покой вливая в эту бурю и побеждая Своим Божественным покоем бурю тварную.
А мы это делаем постоянно. Когда буря вокруг нас, мы не стоим там, где стоит Господь, и не говорим: молюсь – а буря вокруг утихнет, когда придет время Божие и когда внутренний мой покой достигнет такой устойчивости, что вокруг него ничего не сможет волноваться. И здесь вспомните слова Серафимовы: “Стяжи мир – тысячи спасутся вокруг тебя”.
Тема моих бесед – вопрос о том, как можно быть христианином вдали от храма. И сразу поднимается в памяти рассказ о том, как жили первые христиане. Их было очень и очень мало; они были рассеяны по лицу всей Римской империи; больше того – они были гонимы, и поэтому даже собираться для них было опасно, порой – невозможно. Поэтому, ставя перед собой вопрос, можно ли жить не собранной вокруг храма группой, не пользуясь богослужением, и вырасти верой, познанием, стать общиной видимой, проще всего обратиться к этому прошлому.
Что характеризовало христиан, что делало их непохожими ни на кого, единственными в своем роде? То, что люди самого разного происхождения, разных общественных сословий, разного образования, разной культуры, разной национальности, разных языков, которые никогда бы и не подумали, что они могут встретиться на общей почве, нашли эту общую почву в том, что стали верующими, уверовали в Господа Иисуса Христа. Мы ищем общения межу собой, и это общение часто стараемся осуществить на всех планах нашей жизни. Они этого не могли даже помыслить, искать этого было для них невозможно. Единственное, что у них было общее, это их вера: то, что они, каждый по-своему, встретили Господа Иисуса Христа, признали в Нем своего Бога, своего Спасителя, Хозяина своей жизни, и отдали Ему все силы души, малые ли, великие ли – но все до конца.
В то время вера оказалась первично не системой богословских или философских воззрений; вера оказалась плодом встречи с Живым Богом и отдачей Ему всей своей жизни, доверием до конца и верностью до конца. Эта верность выражалась во всем: в чистоте жизни, в новом строе жизни. Вспомним такого человека, как апостол Павел, который был гонителем христиан и стал одним из самых пламенных проповедников Евангелия. Вот что он говорит о том, что делает человека неспособным называть себя христианином, недостойным называть себя христианином. В пятой главе своего Послания к галатам он пишет: дела плоти таковы: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разноbr /гласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. А когда ставится вопрос о том, каковы плоды Духа, то есть какие плоды рождаются в человеческой душе, когда коснется ее дар Святого Духа, действие Божие, каков христианин, что в нем может быть достойно и его как человека, и Бога как его Господа, Творца и Спасителя, то вот что мы читаем: плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
Вот те черты, на которые нам надо обратить внимание, если мы хотим быть христианами. Быть христианином значит быть таким человеком, которого Бог может не стыдиться. Такой человек вносит в мир свет – там, где все потемнело; надежду – там, где только отчаяние и безнадежность; любовь – там, где горечь, безразличие, ненависть, ссоры, зависть, вражда, распри, расхождения. Очистив свой ум от недостойных мыслей, свое сердце от скверных чувств, он вносит в жизнь чистоту, он из своей жизни исключил то, что позорит его, позорит имя христианина и позорит, в конечном итоге, Бога. Тот же апостол Павел писал: ради вашего поведения хулится имя Христово. Это тогда случалось, но это случается и теперь: пьянство, бесчинство, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, зависть, гнев все еще наблюдаются среди христиан, хотя эти свойства свидетельствуют, что люди, которые живут этими чувствами и с такими чувствами действуют – не христиане в своей жизни. И вот с чего каждому из нас надо начать: ставить перед собой вопрос не о том, далека ли церковь, близка ли, удается ли часто бывать там и что мы от нее получаем, а о том, кто мы такие: Христовы или не Христовы? Живем ли мы законами правды Божией или позорим имя Божие и свое имя христианина?
Во время войны мне пришлось очень долго быть без храма, и, подобно многим, я знаю, как тяжело это бывает. Но я также обнаружил одно очень драгоценное свойство этой обездоленности. Это то, что я оценил церковь, храм, общую молитву по-иному. Я изголодался по богослужению, я изголодался по общей молитве. И когда потом мне стало возможно быть в храме, я молился с такой глубиной, с такой живостью и силой, как я не молился раньше, когда достаточно было пройти несколько кварталов, чтобы оказаться в малюсенькой русской церкви, которая была недалеко от моего дома. Поэтому в себе надо воспитывать и любовь к богослужению, и готовность быть христианином каждый день, каждый час, во всех обстоятельствах, с мечтой, с голодом по церкви, и с радостью о том, что мы – посланники Божии. Таков смысл слова “апостолы”. Мы – свидетели; таков смысл греческого слова “мартирион”, которое переводится на русский язык как “мученик”, но в основе значит “свидетель”, с указанием на то, что наше свидетельство должно быть открытое, смелое, и что ради того, чтобы другому принести несказанную радость веры, мы должны быть готовы, подобно Христу, пострадать и, если нужно, умереть.
Но не от каждого это требуется, и не об этом я сейчас хочу говорить, а о том, как это свидетельство доходит до другого человека. Веру можно найти, как я ее нашел – чудом; веру можно найти чтением Евангелия, веру можно найти встречей с живым человеком, который является как бы светочем веры, из которого она льется, светится. Веру можно найти в глубинах отчаяния, когда, познав всеконечную, полную бессмысленность всякой человеческой помощи, мы можем сказать: да, по-человечески никакой надежды не остается, но все-таки не умирает надежда. Во мне горит дух; глубже, чем отчаяние, есть надежда, которая не обманывает: Живой Бог…
Первый раз христиан назвали этим именем в Антиохии (см. Деян. 11: 26. – Ред.). Неужели только потому, что они были представителями небольшой тогда, незначительной, странной, гонимой, отверженной секты, родившейся среди еврейства? Конечно, нет! Их бы не заметили, их бы стерли, прошли бы мимо. Но их не могли не заметить, потому что в них было нечто, чего люди того времени в других и в себе и друг во друге не могли найти. Тертуллиан писал в своем послании Римскому императору: задумайтесь – вокруг нас все говорят: “Как эти люди любят друг друга!” – любовью, какой в язычестве никто не находил… Разумеется, и в язычестве люди друг друга любили; родители – детей, дети – своих родителей, друзья – своих близких, мужья и жены – друг друга. Но здесь была группа людей, в которых жила любовь совершенно иного рода. Это были люди, способные любить врагов, любить гонителей, среди пыток молиться о том, чтобы Бог дал спасение мучителям, как Христос, когда Его распинали, молился Своему – и нашему! – Небесному Отцу, говоря: Прости им, Отче, они не знают, что творят… Вот эту любовь они обнаружили в христианской общине; но эту любовь можно обнаружить в каждом человеке. И, разумеется, не надо быть мучеником, не надо быть распятым, не надо быть гонимым для того, чтобы эта любовь светилась. Кто из нас не окружен безразличием, нелюбовью, клеветой? Кто из нас не имеет врагов, которые желают ему зла, которые хотят у него отнять то, что у него есть, самое дорогое: отнять свободу, отнять работу, отнять жену, детей, отнять что-то особенно дорогое сердцу?..
И вот первое свойство христианина: способность без гнева, без ненависти посмотреть на такого человека и сказать: Господи, прости! Он не знает, что он творит… И больше того: Боже! Спаси его! Ты меня спас, я был во тьме, Ты меня вывел в свет. Я был такой же безумный, как он, –Ты мне дал разум небесный, не земной… Вот о какой любви христиан говорили язычники, которые их окружали. Я уже упоминал, какова была их жизнь, о чистоте, правде, достоинстве их жизни. А здесь мы доходим до какого-то предела: любить врагов, любить их не с тем, чтобы избежать их ненависти, а с тем, чтобы наша любовь их обновила, сделала иными, не обязательно христианами по вере, но людьми в полном смысл слова, ибо ненавидящий, завидующий, враждующий – не человек, он даже не на уровне зверя, он – дикое животное. Наша роль – способностью нашей любить именно такой любовью возродить в других человеческий образ.
Есть старое присловье о том, что никто не может отвернуться от греха, от старой неправды, если не увидит в глазах или на лице хоть одного человека сияние вечной жизни. Именно это, думаю, поражало всех, кто встречал христиан. У нас есть рассказ о том, как умирал первый диакон Стефан. За веру его избивали камнями, и свидетели говорили, что его лицо просияло, как солнце: радостью, верой – да; но еще и чем-то иным: сиянием вечной жизни.
Я не раз ставил себе вопрос: что бы это могло быть? Каким образом лицо человека может просиять?.. Мы все знаем, как человек просиявает радостью, когда он полюбит кого-нибудь, его лицо делается совершенно иным, когда он встретит любимого человека, в его глазах свет. Но я думал о чем-то другом. Мне казалось, что должно быть что-то иное, более властное, более сильное, что могло поразить людей, встречающих христиан. И раз в жизни я с этим столкнулся с такой ясностью, с такой силой, что никогда не смог этого забыть. Мне тогда было семнадцать лет. Я пришел в церковь, где никогда раньше не бывал. Она находилась в подвальном помещении, я ее долго искал и опоздал; служба отошла, люди уже расходились. Одним из последних поднимался по лестнице из бывшего подземного гаража, где тогда ютилась эта церковь, широкоплечий священник высокого роста. И когда я взглянул ему в лицо, я обомлел: я никогда прежде не встречал такой абсолютной внутренней собранности и такого света. На его лице не было улыбки, – он меня тогда не видел, не было экстаза, восторга. Была только глубочайшая собранность, и что-то из него сияло: не вещественный свет, а какое-то внутреннее сияние. Я помню, как я тогда к нему подошел и сказал: “Я не знаю, кто вы, но я хочу вас просить быть моим духовным отцом”. И затем в течение одиннадцати лет, до его смерти, он был моим духовником.
Я думаю, что нечто в этом роде происходило с язычниками, когда они встречали христиан, людей, которые стали собранными, все силы которых нашли свое средоточие, которые стали цельными, то есть были исцелены, исцелились. И вот эта цельность, эта собранность, которая собирала все силы ума, воли, сердца, все, что в человеке было, в одну точку, откуда они могли действовать, несомненно доходила до сознания язычников, потому что они видели в христианах людей другого рода.
И действительно, христиане должны быть людьми другого рода. Наша родина – Царство Божие. На земле мы находимся как Божии посланники; жизнь наша, как говорит апостол Павел, сокрыта со Христом в Боге, мы всецело должны быть погружены в тайну общения с Живым Богом, Который является и Создателем нашим, и Спасителем нашим, и любовью нашей, и исцелением нашим, и радостью нашей, и цельностью нашей. Вот что, верно, люди видели в христианах. И это их озадачивало, они ставили себе, а затем и им, вопрос: откуда у вас это? Что вы собой представляете? Почему в вас радость, когда вокруг все так темно? Почему вы бесстрашны, когда вокруг все так страшно? Почему вы живете чистой жизнью, когда так легко жить грязно, когда мы разбиты, когда ум и сердце, и воля и плоть рвутся в разные стороны и разрывают нашу цельность, – в чем дело? Почему, когда вы приходите, делается вдруг мирно и тихо? Каким это образом?..
И христиане, вероятно, могли бы ответить так же, как я вам сейчас отвечу, примером. Как-то пришли ко мне два человека. Они были во вражде и искали случая друг другу все высказать, что только могли, вылить весь свой гнев, вылить весь яд, который накопился в их душах, и решили это сделать в моем присутствии, в надежде, что я не дам одному перебивать другого, что они все смогут сказать, всю ненависть вылить. Они начали говорить. Я слушал и чувствовал, что никакими силами не смогу их убедить в том, что вражда разрушает их самих, что единственное спасение для каждого из них – примирение с другим. Меня охватило тогда почти отчаяние (я был молодым священником, это было больше тридцати пяти лет назад). И вдруг мне пришла мысль, что Христос в Евангелии приказал ветру и волнам в буре притихнуть, и они умолкли и притихли. И я тогда обратился ко Христу: Господи, я ничего не могу сделать – Ты приди и произнеси слово мира, а я буду с Тобой, я буду молиться так, чтобы Ты мог быть среди нас и мог совершить чудо… Помню, я сидел и мысленно говорил: Господи! Будь с нами, дай Твой мир, который ничто на земле не может дать… И вдруг я заметил, что спор начал утихать, что горькие слова перестали ранить другого, и в какой-то момент оба человека заговорили о том, что – не пора ли примириться, не пора ли из безумия вернуться к чему-то более разумному.
Вот тот мир, который христиане, верно, вносили, куда бы ни пришли они, путем своего бесстрашия, внутренней тишины, любви; и вот чего никто у нас не может отнять. И для этого не требуется ходить и говорить: “Я христианин!” – для этого надо быть христианином. И каждый из нас может этого добиваться, а силой Божией этого и достигнуть, потому что, как говорит апостол Павел, сила Божия в немощи совершается, как ветер может заполнить собой парус и пронести через буйное море самый тяжелый корабль. И еще в другом месте он говорит: все мне возможно в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Но начать надо изнутри, не заботясь ни о чем внешнем.
Я попробовал начертать нравственный образ христианина, тот минимальный образ, без которого человек вовсе не имеет права назвать себя христианином. Теперь мне хотелось бы сказать о том, как христианин, оторванный от храма, может вести подлинно духовную жизнь. Духовная жизнь не заключается в том, чтобы посещать службы или быть членом какой-нибудь, даже очень живой, общины. Духовная жизнь заключается в том, чтобы быть в глубоком, прямом, искреннем общении с Живым Богом; а достигают этого правдой жизни, исполнением заповедей Христовых, такой жизнью, которая нас делает христианами на самом деле, а не только на словах, – и молитвой. И вот о молитве мне хочется сказать сейчас несколько слов.
Молитва, опять-таки, не заключается в том, чтобы повторять чужие слова, а в том, чтобы всем сердцем, всем умом, как говорили древние писатели, прилепляться к Богу, то есть устремляться к Нему, жаждать встречи с Ним и, главным образом, поскольку это от нас зависит, быть с Ним до конца правдивым и искренним. Поэтому молитва не заключается в первую очередь в том, чтобы приобрести молитвенник или выучить, затвердить готовые молитвы; молитва заключается в первую очередь в том, чтобы научиться предстоять перед Богом. Это кажется или бесконечно сложным, или удивительно простым. Предстояние перед Богом, объективно говоря, очень простое дело: Бог вездесущий, нет места, нет ситуации, которая могла бы нас от Него отделить; ни дело, ни обстоятельства, ни люди не могут нас оторвать от его. Но от нас зависит сознательно, всем вниманием сердца и ума, предстоять перед Ним. Утром, когда мы встаем, мы можем начать день , в одно мгновение став перед Богом, без долгих молитв, осознав, что мы вышли из сна, пробудились от сна, как будто мы воскресли к жизни от смерти. Ведь между сном и смертью очень большое сходство. Мы без сознания лежим, не имеем над собой никакой власти, не сознаем, что вокруг нас происходит. То же самое и со смертью: что касается нашего тела (не живой души, которая предстает перед Богом, а самого нашего тела), мы уходим в какое-то забытье. И вот когда мы просыпаемся, мы как бы восстаем из забытья, можно было бы почти что сказать: из небытия. Меня на земле как будто и не было, и вдруг я вступил в новый день. А этот день тоже особенный: такого дня, этого дня никогда за всю историю мира не было. Дни неповторимы, каждый день новый, он простирается перед нами, как равнина, покрытая снегом, – чистая, незапятнанная, без человеческих следов, без отпечатков наших ног; и вот этот новый человек, которым я являюсь после сна, вступает в новый день… Если подумать, это совершенно изумительная встреча: я вступаю в день, которого никогда в истории не было, и в этот день я могу внести добро или зло, я могу быть человеком или зверем, я могу быть достойным себя – или недостойным себя, я могу жить на радость людям – или на горе людям, я могу вырасти – или наоборот, стать еще меньше, чем я был вчера… Если несколько минут об том подумать: вот, я вышел из глубин сна и вступаю в этот день, – можно и обратиться к Богу и сказать: Господи, благослови меня вступить в этот день и благослови этот день для меня! Пусть каждая встреча, каждый человек, каждое слово будет с содержанием; пусть это содержание будет чистое, достойное моего человеческого величия и Твоего, Господи, величия; и пусть каждое слово, каждое мое действие будут вкладом в добро, в правду, в красоту жизни.
Теперь мне хочется сказать и о том, каким образом вечером, когда день уже кончен, мы можем стать перед своей совестью и перед Богом, перед жизнью, раньше чем вступим в ночь, в забытье, погрузимся в сон.
День, который нам был дан, мы заполнили всем тем, на что были способны. Мы в этот день внесли добро и зло, кое-что изуродовали и кое-какую красоту внесли в него; каким-то людям принесли радость, каким-то – горе; одним помогли, другим повредили; и та равнина снежная, которая лежала перед нами в начале дня, теперь отмечена нашими стопами. Можно посмотреть и увидеть извилины нашего пути, потому что редкий путь бывает прямым. И вот раньше чем встать перед Богом, надо встать перед собственной своей совестью и поставить себе вопрос: что я сделал из этого дня и что я сделал в течение этого дня из себя самого? Стал ли я благороднее, стал ли я более достоин своего имени человека? Или же наоборот: унизил, опорочил себя? Для этого надо сесть и подумать; подумать честно, подумать так, как иногда человек думает перед смертью, потому что никто не знает, восстанет ли он со своего ложа или нет. Мы погружаемся в сон, но мы можем никогда не проснуться на земле; наши очи могут открыться на вечность, когда уже поздно будет думать о том, что надо было сделать, – тогда надо будет встать перед Богом в вечности с содержанием всей своей жизни.
И вот подумай каждый: каков бы ты был перед своей совестью, если бы знал, что пора умереть, что в течение нескольких минут пройдет, кончится жизнь и что у тебя есть эти несколько минут, а может, час или полтора, для того чтобы выровнять все, что можно выровнять, исправить то, что можно исправить, хотя бы в намерении, хотя бы душой крикнуть тем, кого ты обидел: Простите! – или тем, кого ты глубоко любил: Прощайте!.. Это очень важно, потому что встать перед Богом надо по правде, в прятки с Богом нельзя играть, в прятки с Богом невозможно играть. И вот стань каждый перед своей совестью и поставь себе вопрос: что я сделал из сегодняшнего дня, из каждого обстоятельства, из каждой встречи; что я сделал над собой?.. Рассматривая себя таким образом, увидишь и доброе, и злое, часто – тусклое; не то чтобы очень злое, а именно тусклое, смесь доброго намерения и нехорошего поступка, – по трусости ли, по лени, по забывчивости, потому ли, что было соблазнительно поступить не так, как совесть подсказывала. Подумай над каждой вещью. И покайся…
Второе – надо себе поставить вопрос: вот сейчас день кончен, я его рассмотрел, произвел над ним честный, добротный суд, – а хочется ли мне предстать перед Богом?.. Христианин большей частью на это ответит: как же так! Конечно, хочется… – Нет, не обязательно хочется. Часто бывает, что по долгу, по совестливости кончаешь день молитвой, предстоянием перед Господом. А что потом бывает? А потом человек возвращается к обыденщине; помолится, ляжет, но вместо того чтобы спать, возьмется за книжку. И если он честен, то, вероятно, заметит, что он увлечен книжкой больше, чем его влекло к Богу – а это страшно; это действительно показывает, как мы далеки от духовного здоровья, от цельности, о которой я говорил прошлый раз. Как же это возможно?.. А вместе с тем это постоянно бывает. Подумайте: разве это не бывает с нами, разве не бывает, что нас что-то влечет к себе больше, чем наше желание встретить Живого Бога?.. Вот об этой встрече и об этой внутренней борьба между тем, что нас влечет, и Богом, Который молчаливо стоит, брошенный нами, я скажу в следующей беседе.
В прошлой беседе я говорил о том, как порой двоится наше сознание, когда мы становимся перед Богом. С одной стороны, мы желаем встречи с Богом, наше сердце влечется к Нему или наше сознание требует этой встречи, чтобы с Ним разделить то знание о себе, которое мы приобрели, продумав дела, слова, чувства прошедшего дня; а с другой стороны, нас влечет столь многое, нам так хочется почитать, поговорит, отвлечь внимание на что-то легкое… И вот тут, мне кажется, есть один простой выход. Он заключается, во-первых, в честности перед Богом. Стань перед Богом и скажи: Господи, мне хочется помолиться, мне хочется получить на ночь Твое благословение, мне хочется вступить в ночь под Твоим крылом, покрытым Твоей любовью, защищенным; а вместе с этим, я начал читать книгу, которая меня так увлекает: что мне делать?.. Дай мне силу обратить свое внимание на Тебя, сосредоточиться на Твоем присутствии. Я верой утверждаю: да, Ты здесь, со мной, и я перед Тобой. Я буду говорить Тебе молитвенные слова…– как можно было бы говорить с другом, которого не видишь, потому что в комнате темно, или потому что между нами занавес, или, может быть даже, как говорят с другом по телефону: его не видишь, только знаешь. что он тебя слушает. И говорите тогда, говорите о прошедшем дне; а потом превзойдите этот день, превзойдите себя, обратитесь к Богу с чем-то, что достойно не только вас в самом лучшем и высоком смысле, но и Его.
Для этого можно опереться на молитвы святых. Об этом я буду говорить отдельно, но какие-то молитвы – свои или молитвы святых – принесите Богу, не только о том, что происходит вокруг, но и о Его славе. Господь нам дал одну молитву: Отче наш, – в которой мы обращаемся к Нему как к Отцу нашему; и первые прошения – о Его славе, о Его Царстве, о том, чтобы Его воля совершилась на земле, чтобы воцарилось Царство любви и правды, милосердия и красоты… И после этого – и это второе, что может нам помочь оторваться от подстерегающего нас соблазна забыть Бога и вернуться в земную жизнь – лягте спать, но раньше чем вы заснете, пока еще не хочется спать, подумайте о тех людях, которые нуждаются в вашей памяти, и о тех людях, которые вас любят. Мой духовный отец мне раз присоветовал, ложась спать, сказать: Господи, по молитвам тех, кто меня любит, спаси, защити меня! – а потом лежать и постели, и тогда начинают всплывать имена и лица тех людей, на молитвы которых (или даже не на молитвы, а на любовь которых) я могу безгранично рассчитывать: мать, отец, бабушка, жена, супруг, невеста, жених, друг, старый товарищ – мало ли кто всплывет так в памяти. И каждый раз, когда всплывет образ или припомнится имя, остановись на нем и задумайся: этот человек меня любит!.. И скажи ему мысленно: спасибо!.. Спасибо, Миша; спасибо, Коля; спасибо, Аня, – спасибо тебе за любовь. Эта любовь мне драгоценна, эта любовь – моя защита… И потом обратись к Богу и скажи: Господи, благослови его за то, что он меня любит! Какое это чудо! Чем я могу заслужить эту любовь? – ничем; и он меня любит, она меня любит. О, благослови их за это!.. И когда насытится сердце любовью одного человека, подумай о другом, и о третьем, и рано или поздно, пока вереница имен и лиц будет подниматься перед тобой, ты заснешь, но заснешь с любовью и благодарностью, и под кровом не только небесной, но и земной любви. И это составляет таинственную и неразрывную связь между небом и землей, между людьми, которые, порой, разлучены тысячами километров, или стенами тюрьмы, или смертью.
Не у всех может быть Евангелие и не у всех бывает молитвослов, но для тех, у кого есть Евангелие, есть молитвослов, я хочу сказать несколько слов о том, как их употреблять в молитвенной жизни. Очень часто ко мне приходят люди, говоря, что им хотелось бы молиться, что они в себе чувствуют сильное влечение к молитве, побуждение к ней, но не находят как бы темы, что Богу сказать. Таким людям я советую открыть Евангелие на любом месте и почитать; и понять, что не они берут инициативу в молитве, а Бог эту инициативу взял. Он к ним обратился с несколькими словами: как ты на них отзовешься, что ты на это скажешь? Если ты можешь сказать: как это прекрасно! – этого достаточно, это и была молитва, потому что это был живой момент общения с Богом. Конечно, кроме этих немногих слов можно сказать многое другое. Можно обратить внимание на все то, что сказано Спасителем Христом в этом отрывке Евангелия. Можно Ему поставить вопрос: Господи, но как этого достичь?.. Можно воскликнуть: но как же это понять?.. Можно сказать: да, я это уже видел, но во мне не хватает сил; Господи, дай мне разум, дай мне понимание, умножь во мне веру, дай мне силы, поддержи меня, победи страх, когда он меня заполоняет, когда я каменею от страха перед мыслью о том, что надо мной могут посмеяться или, хуже того, заподозрить меня, или, еще хуже, напасть на меня… Если мы будем воспринимать слова Евангелия или события жизни Спасителя, Его встречи с людьми именно так, если будем отзываться как бы вслух Богу на то, что Он говорит или делает, то всякое слово Евангелия, всякое событие евангельское будет для нас побуждением к молитве, к тому, чтобы с Богом говорить всем умом, всем сердцем, всем своим существом, всей жизнью; и тогда легко делается молиться, потому что начало молитвы не в нас, а в Боге.
Те, у кого есть молитвословы, часто недоумевают, как справиться с множеством тех молитв, которые они там находят: утренние, вечерние молитвы… Читаешь молитву – одно понимаешь, а другое остается недоуменным, с одним соглашаешься легко, всем умом и душой, а с другим трудно соглашаешься, одно воспринимаешь, а другое мимо тебя проходит… Тут надо вспомнить одно очень важное обстоятельство. Все молитвы, которые у нас есть в молитвословах, были написаны не за письменным столом, они вырвались, как крик души, у святых в момент, когда трагедия их коснулась, или в то мгновение, когда вдруг затрепетала душа крайним горем или ликованием. Эти молитвы – крик живой души, они выражают собой опыт людей, которые, конечно, гораздо большое, глубже, чище и светлее нас. Поэтому ожидать, что каждый из нас в любую минуту сможет найти себя в молитве того или другого святого, просто нельзя; еще меньше можно ожидать, что, переходя от одой молитвы к другой, мы сможем как бы отождествиться с содержанием этих молитв, стать заодно с опытом жизни одного святого после другого. Довольно с нас того, если из каждой молитвы мы сможем выбрать одну крупицу и сказать: да, здесь этот святой и я разделяем тот же самый опыт. Как это дивно: я – такое ничтожество и, оказывается, воспринимаю так глубоко, так реально то, что он пережил… И вот эти места молитвы, будь то псалмы, будь то молитвы святых, надо себе отмечать, потому что они выражают самое глубокое и светлое, уже созревшее, что в нас есть.
О других отрывках или о других частях молитвы можно думать разно. Можно, когда дойдешь до какого-нибудь места, сказать: Господи, не понимаю, как мог святой это произнести; как, например, человек такой чистоты мог называть себя самым великим грешником… Неужели это пустые слова? Этого же не может быть! Не понимаю, Господи, помоги мне когда-нибудь понять… А иногда и ответ приходит. Я себе ставил этот вопрос и потом в “Дневнике” Иоанна Кронштадтского прочел отрывок, где он говорит: Если бы другому было дано столько, сколько было дано мне, он был бы святым – а я остаюсь грешником. Я действительно самый недостойный грешник на земле, потому что при таком богатстве остаюсь таким бедняком… И мне стало понятным, как он мог это сказать, – он, такой великий человек перед Богом. А бывают места, которые прямо смущают нас. Мы сознаем, что не можем этого воспринять, это идет против всего нашего чувства. Скажи Богу: Господи, не могу! В свое время, когда-нибудь, может быть, смогу понять, но сейчас я этих слов не могу сказать честно и искренне, я должен мимо них пройти…
Я упомянул Молитву Господню, Отче наш. Слова ее, может быть, не всем известны. Я их приведу на славянском языке, и если что нужно пояснить, поясню позже:
Отче наш, Иже еси на небесех, да святится Имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Я хочу обратить ваше внимание на одну фразу, которая относится непосредственно к тому, что я говорил в конце прошлой беседы. Порой, в молитве того или другого святого, мы находим такое слово, которое мы честно не можем повторить, оно превосходит не только наш опыт, но и нашу способность себя победить, – победить в себе злые, недружелюбные стремления. И вот в Молитве Господней есть такой рубеж: Оставь нам наши долги, так же как и мы оставляем долги нашим ближним, которые чем-нибудь нас обидели, унизили, оскорбили. Казалось бы, не так трудно это сказать, когда в жизни все хорошо; но иногда так трудно бывает, когда у тебя есть враг или когда среда, в которой ты находишься, тебе враждебна, когда ты являешься предметом насмешки, или побоев, или хуже того. Как тогда произнести эти слова? И вот мне хочется вам о себе нечто рассказать.
Когда я был подростком, у меня, как у всякого мальчика бывает, оказался “смертельный враг”, мальчик, которого я никак не мог переносить, который казался мне истинно врагом; а вместе с тем я уже знал эту молитву. Я обратился тогда к своему духовнику и ему рассказал об этом. Он был человек и умный и прямой, и не без резкости; он мне сказал: “Очень просто – когда дойдешь до этого места, скажи: И Ты, Господи, не прощай мне моих грехов, так же как я отказываюсь простить Кириллу”. Я сказал: “Отец Афанасий, я же не могу!..” – “А иначе невозможно, ты должен быть честен”. Вечером, когда я дошел до этого места, у меня язык не повернулся так сказать. Навлечь на себя гнев Божий, сказать, что я прошу Его меня отвергнуть от Своего сердца, так же как я отвергаю Кирилла – нет, не могу… Я снова пошел к отцу Афанасию. “Не можешь? Ну, тогда перескочи через эти слова”. Я попробовал: тоже не вышло. Это было нечестно: я не мог всю молитву сказать и только эти слова оставить в стороне; это было недобросовестно, это была бы ложь перед Богом, обман. Я снова пошел за советом. “А ты, может быть (говорит отец Афанасий) можешь сказать Богу: Господи, хоть я простить и не могу, но очень бы мне хотелось быть способным простить; так, может быть, Ты меня простишь за мое желание простить?” Это было лучше; я попробовал. Мне не очень-то хотелось простить Кирилла, а вместе с тем где-то такое шевелилось чувство, что – да, пожалуй, и надо бы… И повторив несколько вечеров сряду молитву в этой форме, я почувствовал, что мое сердце уже не такое окаменелое, что во мне не так кипит ярость, ненависть, что я успокаиваюсь. И в какой-то момент я смог сказать: Прости! – я его сейчас, вот тут, прощаю…
Я думаю, что очень важен такой опыт; очень важно, чтобы, когда мы молимся, мы не говорили ничего, что было бы неправдой. Поэтому если у кого есть молитвослов, и он по молитвослову молится – читай эти молитвы, когда есть время, ставь перед собой вопрос о том, что ты можешь сказать честно, всем умом, всей душой, всей волей своей; отметь себе то, что тебе трудно сказать, но во что ты можешь врасти усилием если не сердца, то воли, сознания; отметь и то, что ты никак честно сказать не можешь. И будь честен до конца: когда дойдешь до таких слов, скажи: Господи, я этого сказать не могу, – помоги мне когда-нибудь дорасти до такого сознания.
К Молитве Господней Отче наш в целом можно подойти с двух разных точек зрения. С одной стороны, преподанная нам Сыном Божиим, ставшим Сыном Человеческим, она действительно является в сущности своей молитвой сыновства вообще и сыновства Христа, о Котором сказано: Бог так возлюбил мир, что Он отдал Своего Единородного Сына для спасения мира. С другой стороны, Молитва Господня является как бы путем целой жизни, она – путь, она – руководство. И если Христос сказал о Себе, что Он есть и Путь, и Истина, и Жизнь, то о Молитве Господней можно сказать нечто подобное: она есть путь, она открывает нам истину, и она приводит нас к жизни.
Но я начну с первой части и скажу о том, в каком смысле эта молитва является сыновней молитвой. Разумеется, слова Отче наш уже об этом говорят. Обращаться к Богу, к Небесному Отцу, Творцу вселенной, Вседержителю и называть Его Отцом можно действительно при сознании своего сыновства и того, что Бог действительно нам Отец, а не властелин. Но не только. Если мы вчитываемся в начальные слова этой молитвы: Отче наш, Иже еси на небесех (то есть: Который на небесах), да святится Имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя яко на небеси и на земли – мы ясно видим, что весь интерес, вся забота того, кто произносит эти слова, обращены на Бога и Отца, на Его волю, на победу Его правды, на водворение Его Царства, на прославление Его на земле как и на небе. Это молитва, которая начинается тем, что мы все, все, что у нас есть, все, что мы собой представляем, можем забыть хоть на мгновение и пожелать славы Того, Кто есть наш Отец Небесный, пожелать исполнения Его благой, чудесной воли, и того, чтобы Его Царство, которое есть Царство любви, братства, единства, чистоты, совершенства, водворилось на земле. В этой части молитва Отче наш является в полном смысле сыновней молитвой, где молящийся уже думает не о себе, а о Том, Кого он любит больше всех, – о своем Отце.
Вторая часть этой молитвы может нас озадачить, потому что она уже конкретно как бы не говорит о том же самом. Из этого крика, этого моления, этой мольбы о том, чтобы все было по-Божьи, мы как будто сходим на низшую плоскость, мы думаем о земле, о себе: Хлеб наш насущный даждь нам днесь; остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим; не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Яко Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа… И вот это окончание: Яко Твоя есть слава, Твое Царство, Твоя сила – нас возвращает к первичной теме о том, что мы сыновне обращены сердцем к Богу; мы всего этого просим, потому что Господь для нас, в нашем сердце, в нашем уме и сколько возможно в нашей жизни – воцарился, что Он стал Господом нашим, содержанием нашей жизни, нашей любви. И тогда понятным делается, каково соотношение начала и середины этой молитвы: середина молитвы действительно говорит о нас – но разве мы не являемся частью, и порой такой измученной, порочной частью той земли, которую нам надо превратить в Царство Божие, той земли, где Бог должен стать всем во всем (I Кор. 15: 28)? Эта часть молитвы – крик жаждущей души о том, чтобы человек сам стал достойным сыном: не только в мечте, не только в желании, не только верой, не только надеждой своей, не только зачаточной своей любовью, но всей жизнью стал способен строить это Царство. А для этого нужны определенные условия.
Итак, прошения, содержащиеся во второй половине Молитвы Господней, являются как бы обращением на себя, после того как в первой ее части все внимание, вся любовь, весь порыв души обращены были к Богу. Мы потому молимся о себе так настойчиво, что мы призваны Богом быть на земле проводниками Его воли, строителями Его Царства, и что, как сказал еще на грани первого и второго столетий один из древних Отцов, святой Ириней Лионский, слава Божия – ничто иное, как человек, достигший своего совершенства, своей полноты… Поэтому без того чтобы мы стали подлинно сыновьями Божиими, дочерьми Божиими, без того, чтобы мы достигли того, что видим во Христе (конечно, в той мере, в которой нам доступно), Царство Божие, о котором мы мечтаем и молимся, никаким образом не может водвориться на земле.
И вот мы обращаемся к Богу и просим Его: Хлеб наш насущный даждь нам днесь… Это имеет два значения: первое, которое бросается в глаза: не дай нам погибнуть, не дай нам умереть от нужды земной, от голода, от холода, от недостатка всего того, что питает тело… Но это имеет тоже и другое значение: не дай нам погибнуть без того, что питает и душу, и тело, и жизнь – не только земную, но вечную… В русском переводе этого не видно, но греческое слово, которое употребляется в этом месте, значит “сверхъестественный хлеб”, – это не только хлеб с наших полей, это тот Хлеб Жизни, который принадлежит вечной жизни. Из Евангелия мы знаем, о каком Хлебе говорится: Христос является Хлебом Жизни. И через Свое присутствие, Свою благодать, через то непостижимое Бого-вселение, которое нас доступно, если мы только Ему уверуем всерьез, – Он является питанием, самой Жизнью нашей жизни. И поэтому когда мы молимся о том, чтобы Господь нам даровал хлеб жизни, мы должны помнить, что это и земной хлеб: ведь Господь знает наши нужды и милосердно, любовно думает о каждой нужде, самой мелкой или самой основной. Но если мы по-сыновнему молимся, то должны помнить, что основное, о чем мы просим, это то питание, которое сделает нашу душу крепкой, живой, способной на подвиг веры, на подвиг жизни.
Следующее прошение играет огромную, решающую роль в нашей судьбе: остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим, то есть: прости нам, Господи, так же, как мы прощаем… И этими последними словами мы говорим нечто очень для себя важное, потому что редко-редко найдется человек, у которого на душе не было бы какой-то горечи против другого человека; я говорю не о ненависти, а просто о нелюбви, об отвращении, о горечи. И вот перед нами встает вопрос или, вернее, требование: если ты не прощаешь, если ты не освободишься от этой горечи, от этой ненависти, от холодности душевной, не ожидай, что ты войдешь в то Царство, где все является любовью, – не потому что Бог тебя отвергнет, а потому что подобное подобным познается, и для того, чтобы насладиться любовью, надо быть способным на любовь. Это реально, это правдиво и в самых обыкновенных человеческих отношениях: если кто-то нас любит, и мы не умеет отозваться на эту любовь, то эта любовь до нас не доходит; порой она даже становится для нас тягостью, порабощением, ограничением нашей свободы. Только если мы способны отозваться на любовь, на прощение, на дружбу, мы их можем воспринять. Также и тут: если мы хотим от Бога получить прощение, мир, примиренность, то и сами должны научиться давать то же самое тем людям, которые нас окружают: простить, как мы прощены. Не простим – Бог нас все равно прощать будет, но мы не сможем принять это прощение.
И дальше: не введи нас во искушение. Это очень трудное место, потому что слово “искушение” по-славянски значит не то, что оно значит теперь по-русски. Оно значит –испытание, а не только “искушение” в современном смысле этого слова. Греческий текст тут тоже труден, его нелегко перевести. В сущности, можно так сказать: не дай нам погибнуть в момент испытания, не дай нам войти , вступить в такую область искушений и испытания, с которой мы не сумеем справиться. Можно было бы прибавить: Господи, дай мне мудрость, дай мне мужество, дай мне разум и осторожность; и все вместе: осторожность, соединенную с мужеством, мудрость, соединенную с дерзновением, но не с дерзостью, не с мыслью, что “шапками закидаем”, что море мне по колено, со всем справлюсь… Не введи меня в искушение, дай мне быть мудрым.
И наконец: избави нас от лукавого. Для современного человека, особенно воспитанного в безрелигиозном или антирелигиозном мире, мысль о том, что “лукавый” действительно существует, что существуют темные силы, – не только затемненные области в нашей собственной душе, но темные силы бесовские – трудно принять. И однако, у нас есть свидетельства миллионов людей и тысяч святых, которые опытно знают и познали их существование и их страшную силу над нами. Опять-таки, тут можно сказать: подобное познается подобным; если только мы в себе носим скверну, то эту скверну используют темные силы. И вот об этом мы молим, потому что против них мы слишком слепы, бессильны, мы не знаем, как с ними справиться, что нам делать… Защити, Господи; только Ты (и это видно из всего Евангелия) одним державным словом можешь остановить их действие и их изгнать!..
Следующую беседу я начну с пояснения последнего торжественного восклицания: Яко Твоя есть сила и слава… – и попробую показать, каким образом вся эта молитва может быть для нас испытанием совести и путем к Богу, к сыновству.
Подход к Молитве Господней, который я сейчас хочу изложить, непривычный, и поэтому я должен взять ответственность за его извилины и за странность, которую, может быть, усмотрят в нем верующие, привыкшие к другому подходу.
Годами мне было исключительно трудно произносить Молитву Господню, потому что я не мог уловить, каким образом она переплетается с жизнью, в чем их непосредственная связь. И в течение долгой жизни я пришел к следующему заключению: вся Молитва Господня является как бы путем от земли на небо, путем от погибели к жизни.
Некоторые из вас наверное помнят рассказ о том, как древний Израиль, евреи были в египетском плену. Они пришли туда свободно, а постепенно местные жители их поработили, и евреи жили горькой жизнью, в рабстве. И все-таки они не забывали своего Бога; из глубин этого горя, из глубин своей порабощенности они умели не только Ему молиться о свободе, но и воспевать Его славу.
И вот здесь начинается духовная жизнь человека, христианская жизнь: в какую бы обстановку он ни был поставлен, как бы все ни было темно и страшно вокруг него, если он действительно верующий, если он действительно верит, что в его жизни ничего не может случиться иначе как с благословения Божия, он может из этих глубин мрака, ужаса, страха воскликнуть: а все-таки, Господи, слава Твоему Царству, слава Твоему имени!.. Мрак, о котором я говорю, бывает очень разный. Это может быть мрак внешних обстоятельств, которые иногда бывают так мучительно страшны: голод, холод, оставленность, гонения, тюрьма, война, брошенность самыми близкими людьми; момент, когда самый, может быть, нам близкий человек предает нас сознательно, как Иуда, который поцеловал Христа, чтобы показать, Кто Он, с тем чтобы Его взяли на смерть… Бывает тоже мрак внутренний, мрак отчаяния: жизнь не имеет никакого смысла, ее содержание настолько горькое и пустое, что не стоит продолжать жить… Этот мрак может быть мраком безбожия, когда тьма стелется, как дым, по всей земле в глазах того, кто не верит во что-то большее, более глубокое, чем земля. Как бы то ни было, в каких бы мы ни были обстоятельствах, если действительно для нас Бог – Тот, Кем Он является: предельная красота, торжество жизни, которое мы называем любовью, то мы можем из самых глубин мрака сказать: а все-таки, Господи, слава Тебе!.. Вот где начинается духовная жизнь, сознательная и, скажу, героическая; потому что не-героической христианской жизни нет вообще. Если мы способны так начать, то с нами может случиться то, что случилось и с древним Израилем: в какой-то момент некто вступит в нашу жизнь и скажет: встань и пойдем! Пойдем на свободу, на внутреннюю свободу, такую, которой никто никогда не сможет у нас отнять. Избави нас от лукавого, избави нас от обмана, будто мы побеждены навсегда, избави нас от соблазна поверить в тьму, а не в свет, избави нас от всякой лжи, от всякой неправды жизни, избави нас от того, что нас внутренне разрушает, – избави нас от лукавого…
А дальше: не введи нас во искушение. На этом пути к свободе, к внутренней свободе, к торжеству жизни будут препятствия внутри нас, будут искушения извне. Что-то будет нашептывать: что ты думаешь о себе, живи спокойно, забудь про Бога, забудь про все, что только может тебя выделить среди людей и сделать жертвой. Забудь, живи, как все, войди в стадо… Внутренние голоса будут говорит: разве мало привлекательного в жизни? Столько в ней хорошего; а вдруг придется оторваться от этого, чтобы вступить в еще неизвестную область духовной жизни. Стоит ли она того?.. Страшно!.. А бывают и внешние препятствия… И вот тут мы действительно должны молиться крепко: Господи, не дай нам быть побежденными испытанием, не дай увлечься искушением, дай нам мужество и мудрость, и крепость, и смирение, и верность!..
В изложении Молитвы Господней как пути к Богу мы дошли до места, на важность которого я уже указывал: “Прости, как мы прощаем”. Это страшно важный момент. Но что значит слово “простить”? Нам всегда думается, что простить значит – забыть. Простить не значит забыть, потому что забыть может всякий, кого не очень-то обидели; он рассердился, потом обида прошла. Но бывают обиды, которые так не проходят; а вместе с тем от нас требуется прощение. Это врата, через которые надо войти: не пройдешь – не пойдешь дальше… И вот мне думается, что прощение начинается с момента, когда мы посмотрим на человека, который нас обидел, унизил, оскорбил, обездолил – и вдруг поймем, нутром поймем, не только головой, что он слабый, хрупкий, податливый человек. Может быть, он и хотел быть другим, да ему невмоготу – слаб; и обида, которую он нам нанес, вовсе не происходит от положительной злобы, а от того, что он трусливый, малодушный, жадный, мелкий человек. И тогда на него можно смотреть совершенно новыми глазами, – не как на гиганта, который нас старается или старался разрушить, а как на человека, в котором не хватает великодушия, внутренней красоты, чтобы быть достойным своего имени человека. Прощение начинается с момента, когда мы вдруг увидим его слабым, хрупким и достойным жалости. И в момент, когда мы это увидим, мы можем, так сказать, его взять на плечи, взять на себя и понести: понести обиду, которую он нам нанес, понести последствия его злобы, понести и сказать, как Христос говорил, когда Его пригвождали ко кресту:Прости им, Отче, они не знают, что делают!.. И мы сможем сказать: прости ему, Господи, он просто не знает, что он делает (или: делал)!.. Или: прости! Он, может, даже и не думал о страшных последствиях своих слов или действий; не хватило ума, не хватило воображения, и из небольшой злобы вырос страшный поступок, который меня так глубоко ранил, который, может быть, разрушил всю жизнь… И вот в тот момент, когда мы можем сказать: да, я понимаю, насколько он слаб. Хорошо, я понесу последствия этой слабости, я понесу последствия его трусости, его слепоты, его глупости, его болтливости, его безответственности, – начинается процесс прощения. И этот процесс может дойти до момента, когда человека делается настолько жалко, что злоба пропадает, но остается сознание ответственности за этого человека. И тогда можно молиться Богу о том, чтобы Господь его спас от него самого, чтобы Господь его спас от того, что он за человек, и от последствия этого в поступках, словах. Конечно, это нелегко дается, это один из самых трудных подвигов, но мы должны понять, что по отношению к Богу мы ничуть не лучше того человека, который нас так обидел. Ведь каждый из нас на каждом шагу проявляет отсутствие лояльности, презрение, безразличие к Богу – или непосредственно, или обращаясь с людьми так, как мы это делаем; а ведь наше призвание – именно так обращаться с людьми, как обращался бы с ними Христос. Если мы этого не делаем, мы неверны Ему, неверны нашему ближнему и неверны самим себе.
Меня недавно спрашивали: почему мы говорим в молитвах: Пресвятая Богородице, спаси нас! – а не: моли Бога о нас! , как мы это делаем по отношению к святым? И мой ответ был такой: каждый раз, когда я грешу, когда я поступаю недостойно и себя, и Бога, и своего человеческого звания христианина, я беру на себя ответственность за страдания Христа, за Его Крест; в конечном итоге, я вступаю в ряды тех, которые были виновниками Его смерти. И когда я обращаюсь к Божией Матери и говорю: спаси меня! – я как бы говорю: Мать! я виновен в смерти Твоего Сына; но если Ты просишь, никто меня не осудит; спаси!.. И вот так должны были бы мы быть способны молиться о тех, кто нас обидел, потому что никто не может простить, кроме жертвы. Только у жертвы есть власть простить, именно простить; и эта власть нам дана, и она подобна Божией власти нас простить.
А дальше все ясно. Дальше мы доходим до предела, где просим Бога нас напитать пищей вечной жизни, и вырастаем до момента, когда можем сделать все, что в нашей власти, для того чтобы быть достойными сыновьями, дочерьми, обратиться к Тому, Кто является Славой Божией, и сказать начальные слова молитвы: Да святится Имя Твое, да будет воля Твоя, да приидет Царствие Твое, – и назвать Бога своим Отцом.
На этом я закончу свои беседы о Молитве Господней Отче наш, и дальше попробую сказать о молитве как таковой.
Я хочу затронуть вопрос не об общей церковной молитве, а о частной молитве. Дело в том, что когда мы бываем в храме, мы находимся перед событием: собрались люди единомысленные, стоящие вместе перед Богом и участвующие в чем-то, что превосходит их во всех отношениях. В Литургии происходит нечто, что может совершить только Бог. Во всенощной, в соединении вечерни и утрени, картинно представляется перед нами все миробытие, то есть вся история человечества в его греховности и в его святости. И вливаясь в эту молитву, мы поддержаны со всех сторон и молитвой других, и тем, что мы видим и слышим; нам остается только переживать то, что представляется нашим глазам и нашему чутью. Частная молитва в этом отношении, с одной стороны, гораздо более трудная. Она должна бы рождаться из внутреннего побуждения; с другой стороны, она является гораздо более личной, потому что, молясь в одиночку, мы не участвуем в общем деле, а стоим перед Богом как единица.
Сказать так не совсем правильно. С одной стороны, я стою перед Богом – да, один, никто меня, как будто, извне не поддерживает, ничто меня не побуждает, я не являюсь частью события, которое все равно происходит, молюсь я или не молюсь. Но с другой стороны, поскольку я христианин, даже в отрыве от всех я являюсь как бы частицей Церкви, и моя молитва не является только частным делом, она вливается в безмерный поток всемирной молитвы перед Богом. Одновременно со мной или врозь молятся во всех краях света другие люди, обращаясь к Тому же Богу, и моя молитва, как ручеек, вливается в этот поток. Но есть еще другое, может быть, более важное обстоятельство. Поскольку я молюсь как христианин, моя молитва должна совпадать с волей Божией, с молитвой Самого Христа. Если, молясь, я прошу о том, о чем Господь Иисус Христос не мог бы молиться, если, молясь, я обращаюсь к Богу с прошениями, которые не могли бы быть произнесены Спасителем Христом, то моя молитва не христианская, и поэтому не может быть чистой, подлинной молитвой. Таким образом, даже молясь в одиночку, я являюсь, с одной стороны, частью молящегося мира, молящейся вселенной, и с другой стороны – выражением молитвы Самого Христа. Только тогда моя молитва может считаться христианской, подлинно христианской молитвой.
Но как же этого достигать? как этого искать? Один из древних писателей говорит, что мы должны создать в нашем сердце престол Богу и поклоняться Ему из глубин нашего сердца. Что это на самом деле значит? Это, конечно, не значит, что мы должны молиться Богу сентиментально, будто весь вопрос в чувстве. Но каждый из нас ведь знает, как мы думаем о любимом человеке: как только мы услышим его имя – дрогнет наше сердце; как только мы подумаем о том, какие его нужды или радости, мы вливаемся в эти радости или нужды. Спаситель сказал: где сокровище ваше, там ваше сердце, – вот в этом смысле мы должны воспитывать свое сердце и задумываться над вопросом: что для меня Бог? что для меня Христос? что для меня те ценности, ради которых Христос жил и принял на Себя страшную смерть?.. Если я могу сказать, что мое сердце там, где Он, что самое драгоценное, что у меня в жизни есть, это Бог, Спаситель Христос, область Божиего Царства правды, любви, красоты, тогда мое сердце может дрогнуть, когда я обращаюсь к Богу. Если же Бог является для меня отвлеченным понятием или отдаленным властелином, тогда, конечно, я не могу сказать, что Он является сокровищем для меня и для моего сердца, – этого не может быть. И вот первый вопрос, который встает, когда мы хотим молиться в одиночку, без поддержки других, без помощи богослужения, это вопрос о Боге: что Он для меня значит? реален ли Он для меня, дорог ли Он мне? важно ли для меня, чтобы Его имя святилось, чтобы Его Царство пришло, чтобы Его воля исполнялась на земле? Если да, тогда молитва станет живой и возможной. Иначе – живой она не будет, и рано или поздно она станет тягостью, и мы от нее отвернемся.
Итак, христианская молитва должна быть такова, чтобы она совпадала с молитвой Самого Христа, с Его предстательской молитвой, с Его печалованием о земле и о нас. Но раньше чем добраться до этого, раньше чем дойти до этого, мне кажется, надо научиться правдиво стоять перед Богом. Казалось бы, это самая легкая вещь на свете, но мы часто стоим перед Богом, словно ряженые. Мы приходим в храм или становимся перед иконами в сознании, что мы стоим перед Богом, и думаем: чего от нас ожидает Бог? какого настроения? какого телоположения? чего Он хочет от нас? – и стараемся приспособиться к этому… Вот этого-то и не надо делать, потому что Бог может спасти любого грешника – реального, настоящего, подлинного, но Он ничего не может сделать с тем “святым” или святошей, которым мы не являемся. Это очень важно; поэтому раньше чем приступить к молитве, очень важно осознать – с чем я пришел к Богу? Иногда после трудового дня я чувствую только отчаянную усталость всех членов, всё болит; или, после умственного труда, слова уже тускнеют, очень трудно их употреблять. Почему не стать перед Богом и не сказать: Господи, я всем телом сейчас изнемог, весь мой ум сейчас засорен пустыми или многими-многими словами, я сейчас побуду с Тобой молча… Побыть с Богом молча так же драгоценно, как побыть с очень дорогим человеком. Вы, наверное, все знаете, как это бывает: встретишься с другом, сядешь, поделишься новостями, мыслями, чувствами, а потом постепенно разговор начинает утихать, и приходит момент, когда два друга могут сидеть молча, в глубоком-глубоком общении, в радости, что они вместе… Вот этого и надо искать. Когда телом устанешь, когда голова уже неспособна производить новые слова, так легко встать перед Богом, или встать на колени, или даже просто сесть, и сказать: Господи, мы сейчас вместе. Как это дивно!.. Мне кажется, я уже упоминал об одном западном святом, который был приходским священником во Франции. В его деревенской церкви часто сиживал старик: молча, четок не перебирал, губы его не двигались. И как-то священник ему говорит: “Скажи, дедушка, что ты здесь делаешь часами? Не видно, чтобы ты молился…” А тот поднял на него лучистый взор и ответил: “Я на Него гляжу, Он – на меня, и нам так хорошо вместе!” Вот это действительно подлинное и прекрасное общение с Богом.
Искать этого искусственно, конечно, нельзя, так же как нельзя нарочито вступить с молчание с самым дорогим другом, но надо себе дать возможность, чтобы это случилось. И перед тем как начать молитву, часто так просто было бы сесть и побыть с Богом, зная, что Он на тебя смотрит, что ты в Его присутствии. Ты, может быть, этого не ощущаешь, но это так; и дать мыслям осесть, телу отдохнуть, и затем поставить перед собой вопрос: а теперь что? хочется ли мне встречи с Богом, живой, любовной встречи в молчании или в слове? или я стою перед Богом только по долгу, потому что я “верующий” и знаю, что мне полагается молиться?.. В этом случае так и скажи Богу: Господи, какой стыд! Ты меня любишь, Ты мне это доказал смертью Христа, Который ради меня был убит – а мне просто скучно, мне не хочется этой встречи с Тобой… Если ты это скажешь искренне, серьезно, осознав, как это позорно, тогда это тоже будет молитва, это будет исповедь, это будет покаяние. Молитва в себе содержит и покаянный момент, и радостный, ликующий момент; в то мгновение в тебе родится покаянный момент. И тогда, может быть, и другие покаянные мысли придут, не только о том, что не хочется молиться, но и о том – почему? Неужели мне Бог так чужд, так далек, неужели между нами так мало общего, неужели так мало мне хочется встречи с Тем, Кто является самой жизнью души?.. А то, может быть, в течение дня я сказал дурное слово, после которого язык не повернется произносить святые слова молитвы? или поступил жестоко, несправедливо с ближним? Или осквернил себя телесно, душевно, допустил мысли или чувства, которые несовместимы с общением с Богом всечистым, всесвятым?.. Подумай об этом внимательно, и если что-то вспомнится, снова покайся, и это тоже будет живая, честная, добротная молитва.
Я уже говорил о том, как можно свою молитву сделать честной, правдивой, о том, что быть правдивым нам иногда мешает желание представиться перед Богом, какими Он, будто бы, хочет нас видеть. На самом деле Он нас хочет видеть, какие мы есть – и вот этого надо добиваться. Но есть другое затруднение: порой, когда мы хотим молиться, разные тревоги, заботы нам мешают отрешиться от себя, от земли, и обратиться к Богу. И часто бывает, что человек борется, старается исключить из своего сознания то, что его больше всего заботит – и это ошибка, потому что забота, которая засела глубоко в сердце, нелегко удаляется из него. Но есть очень простой способ одновременно и с Богом общаться, и хранить в себе эти заботы: просто представить их Богу. Ведь было бы совершенно бесчеловечно отвернуться от мысли, что моя мать при смерти, что мой друг в опасности, что надо совершить какое-то дело для общей пользы, – отвернуться от всего этого ради того, чтобы побыть с Богом. Когда на сердце легла забота, тревога, встань перед Богом и скажи: Господи, меня волнует то или другое: моя мать больна, мой друг в опасности, я сам в горестном состоянии… Или скажи наоборот: душа так ликует, я так счастлив, все так дивно, что я не знаю, как отрешиться от этих чувств и сосредоточиться только на том, что Ты и я – лицом к лицу, вместе сейчас находимся. Но я Тебе хочу все рассказать – о своих страхах, о своем горе, о своем счастье, хочу поделиться с Тобой, как делятся с другом… Зная, к тому же, что если действительно Бог есть Бог любви, то Он озабочен твоими заботами еще больше, чем ты, это можно сделать. Встань перед Богом и все Ему расскажи – не многословно, не болтая, а так, как можно рассказать самому близкому, дорогому другу: порой сдержанно, порой со слезами, порой с радостью, с ликованием души – все расскажи. И окажется, что когда ты это сделал, ты с Богом общался, но общался в истине, общался правдиво. И тогда это общение с Богом может дойти до твоего сердца, тогда ты вдруг можешь обнаружить, что Бог тебе действительно друг, что ты перед Ним не только каешься в том, что было сделано плохого, но что с Ним можно поделиться всем, всей жизнью: или радуясь, или горюя, или ликуя – но все, все может быть с Ним разделено. Одного нельзя разделить с Ним – это безразличия. Если мы подходим к молитве с чувством: ой! Пришло время помолиться, а мне так хотелось бы заняться каким-то другим делом; ну, прочту те молитвы, какие положено, и довольно с Него… – это кощунство, этого никто не смей делать, потому что Богу не нужны эти молитвы. Эти молитвы когда-то вырвались, как кровь льется из сердца, из чьего-то человеческого опыта радости или ужаса; тогда они были истинны. И если ты хочешь их употреблять, если ты хочешь их повторять Богу, то они должны ключом бить из твоей души, так же как они били из души того, кто впервые их составил. Но их представлять Богу, будто ты молишься, тогда как эти слова тебе чужды – кощунство и подлог, такой же подлый, как если украсть письмо, написанное другим, и выдать его за свое, или чужое сочинение выдать за свое; этого никто не смей делать.
Но если это случится (и – увы, рано или поздно это непременно случится с кем-нибудь), и ты вдруг это заметишь – остановись и тогда действительно со стыдом скажи Богу: Прости! Я Тебе жизнью и даже молитвой налгал. Какой это позор!.. И как только скажешь это, ты уже вернулся к правдивым отношениям, ты уже вернулся к тому, что можно с Богом говорить честно. Это очень важно. Я так настаиваю на этом, потому что если нет правдивости, если нет прямоты и правды в отношениях между двумя людьми или между человеком и Богом, то ни один разговор, ни один поступок не может заменить той правды, которой мы не потрудились создать. А эту правду мы создавать можем.
Святой Серафим Саровский одному своему собеседнику говорил: от натуги ничего доброго не сделаешь, а от радости – что угодно можно совершить… И вот одно из условий живой молитвы это чувство подлинной радости. Радость начинается с благодарности. Мы не умеем быть благодарными. Конечно, мы бываем благодарны, когда что-нибудь уж очень замечательное случится или когда человек для нас что-нибудь сделает, что нас глубоко тронет. Но мы не замечаем бесконечного количества дивных вещей, которые с нами бывают, и поэтому вместо того чтобы радоваться все время – о мелочах, может быть, но как бы животворным образом,– мы ждем каких-то больших событий, которые дали бы нам повод к радости: найти невесту, жениться, получить повышение, успех какой-нибудь… А если бы только мы могли быть внимательны и обращать достаточное внимание на то, чем полна наша жизнь, как мы могли бы быть благодарны почти за все!
Я вам дам просто несколько примеров. Я очень долго болел. У меня была одышка, периодами я думал, что не выживу, потому что не мог дышать. За эти несколько лет я обнаружил, как дивно замечательно, что я могу дышать, что дышу свободно, и с тех пор, уже лет сорок-пятьдесят я не могу забыть этого чувства: что даже дыхание является просто чудом, даром. Кроме того, у меня был вывихнут позвоночник, когда мне было лет восемь, и до недавнего времени он оставался больным. Теперь мне его выправили, но долгие годы я постоянно не был уверен, что смогу встать, или нагнуться, или пересечь улицу, или поднять тяжесть, или быстро повернуть плечами. И когда это оказывалось возможным в разные периоды жизни, – как я это умел оценить, какое это было чудо, какая радость! Нормальный человек и не думает о том, что он дышит, не думает, трудно или легко нагнуться, повернуться, пересечь улицу; и поэтому мы столько радости пропускаем мимо.
Есть место в Евангелии от Матфея, где Спаситель говорит: Блаженны нищие духом – тех есть Царство Небесное… В чем, казалось бы, радость быть нищим и в чем нищенство? Нищий это тот, у кого нет ничего своего. Это не значит, что у него ничего вообще нет, но своего – ничего, все – дар: пища, кров, башмаки, рубаха, доброе слово – все это он должен получить. И вот если подумать о себе: я существую. Не я себя создавал, не я себя вызывал из небытия. Но я живой, жизнь ключом бьет, несмотря на то, что я старый человек уже, у меня есть ум, чувства, мысли, знания; у меня есть друзья; у меня есть дело; вокруг меня воздух разлит, солнце светит… – можно было бы продолжать без конца. Все это не от меня зависит; а вместе с тем все это мое, и я действительно принадлежу миру, где все является даром, плодом человеческой доброты, заботливости или чудом, дарованным изначально от Бога. Если себе это напоминать, если это переживать глубоко, сильно, тогда за один день, даже самый тяжелый, даже самый трудный, сколько мы могли бы собрать радости с поля нашей жизни, – как цветы собирают…
И вот этому надо учиться усердно, потому что если не научиться в самом малом находить величие любви, то никогда мы с Богом не будем разговаривать, как с другом. Он нам может быть Властелином, Он может быть нам Учителем, Наставником, Он может быть Спасителем, но Другом, с которым мы будем говорить ласково, радостно – нет, Он не может быть. И поэтому так важно научиться благодарности о каждой мелочи, о всем том, что случается в нашей жизни, что сами совершили или чего добились, потому что мы не всегда можем добиться или совершить то, что надо было бы. Вот пришел ко мне друг с горем а у меня сердце каменное, в этот момент отозваться не могу; пришел человек с нуждой – а мысли разбежались и у меня нет ответа, косность меня одолела, я не могу в себе вызвать ни чувства, ни мысли, когда она мне нужна, ни преодолеть косность порой: на все это требуется милость Божия. Отец Александр Шмеман, один из наших “молодых” богословов, которого мы недавно утратили, в одной из своих книг написал: нам надо помнить, что даже пища, которую мы едим, это Божия забота и любовь, ставшие съедобными… Конечно, сказано в шуточной форме, но сколько в этом правды! И вот если научиться быть всегда благодарными, радоваться на Бога, радоваться о Нем – многое станет возможным. Тогда можно каяться доверчиво, тогда можно просить с уверенностью в том, что Он слышит, тогда можно приобщить Его нашей заботе и нашей радости.
Мне пpедложили тему: “Может ли еще молиться совpеменный человек?”, и об этом-то я и буду говоpить, но несколько выйду за pамки самой темы.
Считает ли человек, что он молится или что не молится, думает ли он, что может молиться или что условия совpеменности отняли у него эту способность – человек молится, pазве что нам думается, что молитва пpисутствует лишь тогда, когда мы вежливой, складной речью выpажаем свое отношение к Богу и к миpовым вопpосам, pазве что мы забываем, что молитва выpывается из сеpдца и что всякий кpик нашего существа есть молитва. Разумеется, мы не осознаем, что молимся все вpемя и настойчиво; на самом же деле мы в каждый миг обpащены всей устpемленностью нашего существа, поpывом (поpой сломленным, когда наше сознание и наше сеpдце pазделены), к каким-то целям, к каким-то желаниям. И я думаю, очень важно нам осознать, что пpедмет нашей молитвы и тот, к кому обpащена эта молитва – не всегда Бог.
Когда мы обpащаемся к Богу за помощью и одновpеменно всем существом желаем, чтобы эта помощь не пpишла, чтобы путь искушения не закpылся пеpед нами; когда, подобно блаженному Августину, мы говоpим: “Даpуй мне целомудpие, но только еще не сейчас”; когда устами мы пpосим помощи Божией, а сеpдцем остаемся Ему чуждыми; когда мы желаем добpа и вместе с тем всем существом надеемся, что успеем твоpить добpо когда-нибудь позднее – все это свидетельстует не только о нашей внутpенней pазделенности, все это – молитва, котоpая не только не обpащена к Богу, но обpащена к князю миpа сего и взывает: “Пpиди мне на помощь, поддеpжи меня на пути зла”. Я думаю, что нам следует сознавать это гоpаздо более четко, чем мы это делаем, потому что это действительно так; и очень часто мы могли бы обpащаться к Богу со словами: “Господи, пpости!” гоpаздо более откpовенно и честно, если бы сознавали, как часто мы обpащаемся к вpагу и пpосим его помощи! Я хотел бы дать вам пpимеp из жизни, в котоpом есть, может быть, забавная стоpона, – но и столь тpагичная одновpеменно.
На пpотяжении лет пятнадцати я занимался одним бpодягой, котоpый то поселялся у меня, то уходил на все четыpе стоpоны; то появлялся и говоpил, что у него нет pаботы, а значит, и денег, то из наилучших побуждений пpиносил мне в подаpок что-то совеpшенно мне ненужное. Однажды ему взбpело в голову пpийти на Пасху в пpавославный хpам; он пpишел, и вот что он потом pассказывал:
“Стою я в цеpкви и вижу, как вы выходите из алтаpя лицом к толпе и, обpащаясь к ней, пpоизносите “Хpистос воскpесе!” с воодушевлением, с убежденностью, котоpые меня изумили. Но тут я подумал: чего же удивляться, это его дело, ему за это деньги платят… Но тут толпа отвечает: “Воистину воскpесе!” И мне подумалось: кpичат стаpики, молодежи нет. Но оглядевшись, я вижу, что вокpуг стоят молодые люди, котоpые от всего сеpдца, вдохновенно кpичат: “Хpистос воскpесе! Воистину воскpесе!” Тут я почувствовал, что во мне что-то дрогнуло, – уж очень убедительна была эта молодежь. Но тут мне пpишла мысль: если все это так, мне надо пеpеменить жизнь!.. И тогда (пpодолжал он) я обеpнулся к дьяволу и сказал: “Ты мне столько pаз помогал без всякой моей пpосьбы, когда мне не нужна была твоя помощь, – тепеpь-то помоги, на помощь, на помощь!” И с искpенним, совеpшенно естественным возмущением он закончил: “Негодник! Он и не подумал отозваться!”
Так вот, он попался, он попал в плен Хpисту, потому что дьявол его пpедал. Он не знал, что дьявол обманщик по пpиpоде, что если чего-то хочешь, бесполезно обpащаться к дьяволу. Но этот пpимеp показывает pезко, гpубо состояние, котоpое все мы, каждый из нас может обнаpужить в себе. Это зов, обpащение каких-то наших глубин к темным силам, потому что поpой вопpеки нашим убеждениям, нашим стpемлениям, нашей воле, голод и жажда нашего сеpдца и наших тел обpащается к ним. Я настаиваю на этом, потому что нам не пpедлагается выбоp – молиться или не молиться; нам пpедлагается выбоp – молиться Богу или с pабской мольбой, с пpотянутой pукой обpатиться к князю миpа сего, в надежде на подачку, котоpая будет обманна, потому что он всегда обманывает… Это мне кажется важно, потому что всю жизнь, постоянно, всегда нам пpидется pазpешать эту ситуацию. И когда люди говоpят: “Мы не можем больше молиться”, на самом деле это означает, что мы не готовы служить ни Богу, ни дьяволу, мы ставим под вопpос и Того, и дpугого.
Тепеpь я хотел бы pассмотpеть с вами вместе, во-пеpвых, каким обpазом мы ставим Бога под вопpос, и затем – как Бог нас ставит под вопpос, почему мы бываем неспособны молиться Богу Живому, истинному Богу: ведь мы обpащаемся не к истинному Богу.
Где же Бог в нашей совpеменности? Мне часто доводится слышать: “Но как молиться Богу, когда Он явно pавнодушен к человеческой тpагедии, когда Его нет в ней, когда Он совеpшенно чужд ей? Как молиться Богу, Котоpый укpылся в Своем небе и пpедоставляет человеку самому pазбиpаться с ужасным Его даpом, с даpованной Им нам свободой, за котоpую pасплачиваемся мы , а Он как бы умыл pуки?”
Поставим пеpед собой эту пpоблему и посмотpим, действительно ли Бог устpанился или вина на нас, и мы не видим Его, мы не замечаем Его участие: оно совеpшенно особенного свойства, но оно полное, всецелое.
Для начала я хотел бы отослать вас к двум евангельским pассказам о буpе на Генисаpетском озеpе. Они постpоены в основном одинаково: ученики покинули один беpег озеpа и напpавляются к дpугому. Ночью озеpо охвачено буpей. Они боpются со смеpтью, котоpая гpозит им со всех стоpон, котоpая силится сломить хpупкую безопасность их лодки. И наконец они оказываются лицом к лицу со своим отчаянием и с Божественным пpисутствием, котоpое они не умеют pаспознать. Таков общий план. Тепеpь что касается деталей:
в пеpвом pассказе мы видим их в лодке посpеди буpи; и в какой-то момент, когда силы их почти истощились, мужество покидает их, надежда колеблется, вдpуг повеpх бушующих волн, сpеди неукpотимого ветpа они видят, как Хpистос идет к ним – и не могут повеpить, что это Хpистос. Им думается, что это пpизpак, и они вскpикивают от ужаса.
Почему они думают, что это пpизpак? Да пpосто потому, что они не могут пpедставить, что Бог, Котоpый есть Бог жизни, пpисутствует в сеpдцевине этой смеpтоносной стихии, окpужающей их со всех стоpон, что Бог, Котоpый есть гаpмония и кpасота и покой, находится в самом центpе pазбушевавшейся пpиpоды. Они не могут повеpить, что Бог – там, где они видят лишь смеpть, смятение, опасность.
Не так ли мы поступаем каждый миг? Когда мы видим человеческие тpагедии – личные, непосpедствено нас касающиеся, или тpагедии большего масштаба, охватывающие некую гpуппу, котоpой мы пpинадлежим: нацию, наpод – pазве мы не поступаем именно так? Разве мы не ставим под вопpос самую возможность того, чтобы Бог пpисутствовал в сеpдцевине тpагедии? Разве мы не говоpим: “Господи, невозможно Тебе здесь быть, это пpизpак, это каpикатуpа, это оскоpбление Твоей святости и истинному Твоему пpисутствию; Тебя здесь нет; если бы Ты был здесь, то водвоpился бы миp, покой сошел бы, не было бы больше тpагедии, не было бы больше пpоблемы… Не может быть, что Ты здесь!..”
Втоpой pассказ pисует нам пpоисходящее несколько иначе, – веpоятно, это дpугая буpя. На этот pаз ученики отплывают от беpега не одни, Хpистос с ними. Бушует буpя, и Хpистос, утомившись, засыпает на коpме лодки. Он спит, положив голову на возглавие, подушку. Ученики в боpьбе, они бьются с наступающей на них смеpтью, со смеpтью, окутывающей их отовсюду. Они боpются за спасение своей жизни, отстаивают безопасность, укpытие, пусть хpупкое, обманчивое, какое пpедставляет их лодка. И обессилев, теpяя надежду, когда буpя охватила их сеpдце, их душу, когда буpя уже не вне их, но поколебала до глубин их самих, они обpащаются ко Хpисту. И с чем же?
Они не обpащаются к Нему с надеждой, котоpая пpевосходит их отчаяние, с увеpенностью, что Он может в любой момент выпpавить любую ситуацию или пpидать смысл любой ситуации пpи всей ее тpагичности; они обpащаются к Нему с возмущением, с гоpечью: “Неужели Тебе дела нет, что мы гибнем?” Гpеческий текст жесток, гpуб; они будто обpащаются ко Хpисту со словами: Тебе безpазлично, что мы сейчас погибнем!.. Они Его будят, тоpмошат Его. И даже не с мольбой, они не пpосят Его о помощи. Их слова означают: Тебе безpазлично, Ты спишь, положив голову на подушку, Тебе-то хоpошо, удобно, а мы гибнем. Так уж нет! Если Ты ничего не можешь поделать, хотя бы войди в нашу тpевогу, pаздели наш ужас, умpи с нами вместе сознательно!..
И Хpистос отстpаняет их. Он встает, не пpинимая оскоpбление, Он его отвеpгает: “Маловеpы, долго ли Мне быть с вами?” И обpатившись к рассвирепевшему моpю, к pазбушевавшимся над озеpом ветpам, готовящим погибель, ко всей этой буpе, котоpая остается вне Его, котоpая никаким обpазом не пpоникла в Него ни отчаянием, ни стpахом, Он проливает на бурю Свое внутpеннее спокойствие и пpиказывает водам улечься, ветpам утихнуть – и на озеpо сходит покой.
Не это же ли самое мы пеpеживаем по отношению к человеческим ситуациям? Сколько pаз нам случалось в личной или семейной тpагедии, пеpед лицом более обшиpных тpагедий наpодов и стpан, сказать: Бог-то в безопасности, Он на Своем небе, спит, почивает, смотpит, как мы сpажаемся и бьемся, ждет момента, когда битва окончится, когда сокpушатся наши кости, когда будут сокpушены и наши души и наступит момент, когда Он будет нас судить – но до тех поp Он остается вне тpагедии…
Возможно, если вы очень уж “благочестивы”, вам не хватает мужества выpазиться такими словами; возможно, что-то в вас нашептывает эти слова, и вы отбpасываете их силой воли; и тем не менее, в хpистианском миpе сейчас беспpеpывно слышится: с Богом что-то не в поpядке, что-то не так, есть тpебующая pазpешения пpоблема… Вот только pешаем мы пpоблему по пpимеpу апостолов; мы говоpим: “Это пpизpак! Он не может быть в сеpдцевине тpагедии; Он – Господь миpа, покоя, не может быть Господом буpи…” Мы говоpим: “Ему безpазлично! Он наделил нас этой опасной, убийственной свободой, а pасплата за это пpедстоит нам…”
Так вот, я хотел бы, чтобы вы немного подумали о том, какое место Хpистос – Бог во Хpисте – занимает в истоpии, будь то ограниченная истоpия человеческой души, личной судьбы, семейной гpуппы, или большая, необъятная Истоpия всего космоса, так сказать.
За две тысячи лет, а может, и больше, до pождения Хpиста был человек, котоpый бился над пpоблемой Бога. Звали человека Иов; у него было сыновнее сеpдце, он не мог удовольствоваться благочестивыми увещаниями своих дpузей, считавших, что “Бог всегда пpав” и, следовательно, невозможно обвинять Его. Иов тpебовал, чтобы Бог пpедстал на скамье подсудимых, потому что не мог понять Его.
В какой-то момент, о чем говоpится в книге Иова в конце девятой главы, он восклицает: Где тот, кто встанет между мною и Судьей моим, кто положит свою pуку на Его плечо и на мое плечо? Где тот человек, котоpый в этой встpече, в этом пpотивостоянии, являющемся судом и смеpтью – смеpтью Бога, если человек Его осудит и отвеpгнет, смеpтью человека, если Бог его отвеpгнет и осудит – кто тот человек, котоpый сделает этот смелый шаг, такой шаг, котоpый поставит его в сеpдцевину ситуации, точку столкновения всех сил, точку наивысшей напpяженности? Где тот, котоpый встанет там и взглянет в лицо и обвинителю, и обвиняемому, кто будет защитником человека и опpавдателем Бога? Где тот, кто будет не пpосто посpедником, посланником, в pавной меpе безразличным к тому и дpугому, и попpобует установить компpомисс или соглашение между ними; нет, Тот, кто встанет на это место, чтобы их соединить – и готов будет доpого заплатить за это?
Иов чувствовал, что это неpазpешимое напpяжение между Богом, Каким Он виделся ему в пеpеживаемой им тpагедии, и Богом, Какой Он есть в pеальности, не могло быть pазpешено пpосто идеологической диалектикой, pечами его дpузей, котоpые объясняли ему, почему пpав Бог. Когда дpузья говоpили ему: Ты, видно, согpешил! – он спpаведливо отвечал: Нет, я не гpешил – не в том смысле, как мы говоpим, будто никогда не делали зла, а: я никогда не отлучился от Бога, я никогда не отвеpг Бога, я никогда не восстал пpотив Бога – почему Он ополчился на меня?.. Он не мог пpинять и того, как выступали за Бога его дpузья, будто всемогущий Бог впpаве поступать по Своему пpоизволу. Нет, такого Бога он не мог пpинять, потому что такого Бога нельзя уважать, Ему нельзя поклоняться с благоговением, Ему нельзя служить любящим сеpдцем.
Он еще не знал, что пpоизойдет, но знал: что-то должно пpоизойти, иначе эта тяжба – Бог пеpед судом человека и человек пеpед судом Бога – неpазpешима.
Спустя несколько столетий пpоизошло то, чего он ожидал, о чем мечтал помимо всякой надежды: Сын Божий стал Сыном Человеческим… Нашелся человек, – Человек Иисус Хpистос, как называет Его апостол Павел, Котоpый вместе с тем был Богом Живым, Тем, в Ком полнота Божества была явлена, вошла в миp в человеческой плоти.
И затем Он сделал этот шаг: Он вступил в самую сеpдцевину ситуации, более того: Он Сам стал этой ситуацией, потому что в Нем Бог и человек оказались ЕДИНЫ, и тpагедия, в котоpой лицом к лицу сошлись Бог и Иов, сгустилась в одной человеческой личности и в одном Божественном Лице: в Человеке, свободном от гpеха, но Котоpый в акте полной, ничем не огpаниченной солидаpности с падшим человеком стал не только пpоклятым, осужденным, но клятвой (см. Гал 3: 13). Он встал пеpед Богом в полной солидарности с человеком – и от того умер. Он встал пеpед человеком в полной солидаpности с Богом – и вместе с Богом Он был отвеpгнут, осужден умеpеть на Кpесте… Вот место, какое занимает Господь.
И когда мы говоpим об этих двух обpазах буpи, точка, где в этой буpе Господь, не точка “покоя”, это точка, где сталкиваются, встpечаются, пpотивостоят все pазличные напpяжения Истоpии, весь ужас взаимной ненависти, все то, что мы называем гpехом, то есть последствия pаздленности человека от Бога и человека от своего ближнего. Он в той точке, котоpую можно бы назвать центpом циклона – не в месте покоя, а в месте pавновесия, возникающего от максимального напpяжения и столкновения. Да, наш Бог – не такой Бог, Котоpый ушел на небо и ждет момента судить живых и меpтвых; это Бог, Котоpый стал солидаpен с нами настолько, что это повергает в ужас.
Скажу еще одно об этой солидаpности, потому что если мы не пpизнаем этой солидаpности, если не поймем, какое место Бог занимает по отношению к нам, Ему не оправдаться – Бог Он или нет, всемогущ или нет, мы не можем пpинести Ему нашу веpность и уважение.
Изначально, с пеpвого твоpческого акта Бог связал Свою судьбу с нашей: твоpческий акт, Божественное Слово, Слово, пpоизнесенное Богом и из Котоpого появляются одна за дpугой, в новизне, в пеpвой свежести, в изумленности, все Его тваpи, – это Слово создает отношение между Богом и человеком. И это отношение ответственное, это не пpосто Божественное действие, последствия котоpого веpнутся к Богу лишь позднее. В духовном тексте pусского сpедневековья описывается Пpедвечный Совет, пpедваpивший Сотвоpение; вот как выpажает свое видение этот великий духовный писатель. Отец, обpащаясь к Сыну, говоpит Ему: “Сын Мой, создадим человека по Нашему обpазу и подобию”. – “Создадим его”,– отвечает Сын. “Сын Мой,– пpодолжает Отец, – этот человек отвеpнется от Нас, впадет в гpех, и чтобы восстановить в нем пеpвоначальный обpаз, Тебе пpидется стать человеком и умеpеть с ним”. – “Пусть будет так, Отче”, – отвечает Сын. И Бог создал человека. .. Разумеется, этот текст – не Священное Писание, это обpаз, но он указывает нам нечто; он указывает, как Цеpковь в какой-то момент и на пpотяжение веков вопpиняла тот факт, что Бог не сотвоpил миp в момент безумия, ослепления, безответственности, а что Он несет полную ответственность за Свой акт.
И эта ответственность пpоступает все яснее и яснее на пpотяжении Истоpии. Уже в Ветхом Завете, в библейской истоpии мы видим беспpеpывно пpоявления этой незpимой солидаpности Бога с человеком: человек отвоpачивается от Бога, – Бог не отвоpачивается от человека; человек оказывается пpедателем – Бог остается веpным; человек пpедается пpелюбодейству – Бог остается веpным: это все библейские обpазы.
И в наконец, когда пpишла полнота вpемен, эта солидаpность наиболее совеpшенно пpоявляется в Воплощении Сына Божия, Котоpый становится Сыном Человеческим; и это не пpосто солидаpность извне, будто с дpугом, она становится таким единством, что человек и Бог оказываются связанными одной судьбой, неpазpывно. Можно было бы сказать, что Бог обpетает бывание во вpемени и в пpостpанстве и общую с человеком судьбу, и вместе с тем человек в таинстве Воплощения пpевосходит, пpеодолевает вpемя и пpостpанство и уже вступает в тайну вечности, пpишедшей в Лице Того, Кто есть Альфа и Омега, начало и конец всего.
Но задумаемся на миг о солидаpности Хpиста. Как далеко она идет? Кого она обнимает? Кого она охватывает? Кем она овладевает, чтобы спасти его? Когда мы думаем о человечестве Хpиста, мы постоянно говоpим: Да, Он уподобился нам, Он pодился, pос, Он испытывал голод и жажду, Он уставал, Его окpужала любовь и ненависть; Он отзывался pадостью или гоpем – и в конечном итоге, Он умеp… И нам поpой кажется, что высшее пpоявление этой солидаpность – Его смеpть. На самом деле, эта пpедельная солидаpность включает нечто еще большее.
Вы, навеpное, помните, как апостол Павел нам говоpит, что смеpть – расплата за гpех: гpех как pазделенность от Бога. Смеpть – pезультат этой pазделенности; никто не может умеpеть, если не познал эту pазделенность. И пpедельная тpагедия, высшая тpагедия, благодаpя котоpой мы можем благоговеть пеpед нашим Богом и уважать Его, в том, что pади того, чтобы pазделить нашу судьбу, Он пpинял даже и это. Вспомните кpик, котоpый Он испустил на Кpесте, самый тpагичный вопль Истоpии: “Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил?” В Нем как бы померкло сознание Его Божества, и в этом “метафизическом обмороке” Сын Человеческий разделяет ужасную судьбу человека, который потерял Бога и от этого умиpает; Он остался без Бога…
Ту же мысль мы выpажаем уже не словами Евангелия, а в теpминах Апостольского Символа веpы, когда говоpим , что Хpистос “сошел в ад”. Ад, о котоpом идет pечь, не дантовское место мучений; это более ужасный ад Ветхого Завета, шеол, место, где Бога нет, место pадикального Его отсутствия… Да, Христос потеpял Бога из солидаpности с человеком – и Он сходит туда, куда сходят все люди: в окончательную и полную пустоту pазлученности. Он сходит туда как человек, но вместе со Своим человечеством вносит туда полноту Божественого пpисутствия; и ада, как его понимал древний Израиль, больше нет.
И тогда мы можем понять, что означает эта солидаpность: Он согласился пpинять на Себя, подъять, усвоить Себе не только физическую смеpть, но глубинную пpичину этой смеpти, а именно, потеpю Бога; можно было бы сказать, употpебляя слово в его этимологическом значении, – атеизм, безбожие… Видите, как далеко идет эта солидаpность: не только Бог соединяется с человеком, не только Он не делает pазличия между добpыми и злыми – теми, кого общество пpинимает и кого оно отбpасывает, – Он соглашается усвоить Себе сеpдцевину человеческого ужаса, отсутствие Бога, чтобы быть с нами в самой глубине этого отсутствия. Он не только в сеpдцевине Истоpии, Он в сеpдцевине клятвы… И слова, за сотни лет до того написанные автоpом псалмов: Куда убегу от лица Твоего? На небесах пpестол Твой; в ад ли? но и там Ты еси… для дpевних евpеев звучали невозможностью, потому что для них шеол именно означал “место, где Бога нет” – как может Он быть там, где Его нет?.. И вот Он там: как Человек, Он пpинял отсутствие, как Бог, Он уничтожил это отсутствие.
В таком случае не кажется ли вам, что мы можем относиться к Богу не как к Тому, Котоpый нас пpедал, оказался невеpен, Богу, Котоpого невозможно уважать, а как к Богу, Котоpого мы можем уважать от всего сеpдца?
Но если мы хотим молиться Ему в истоpической буpе, будь то личной или всеобщей, мы должны пpисоединиться к Нему там, где Он есть; а то, что мы делаем, уже до нас пытались сделать апостолы: они пытались остаться в своей хpупкой ладье и не pисковать жизнью вне ее. То же самое делаем мы в нашей столь же хpупкой ладье – в Цеpкви; мы пытаемся остаться под ее защитой от буpи и в лучшем случае пpизываем к себе тех, кого она закpутила, кого она сломила, и говоpим: Идите к нам; если бы вы были с нами, вы не были бы в этом безумии pазбушевавшейся стихии… Но человек пpекpасно знает, что хpупкая цеpковная ладья – и я говоpю не о Цеpкви с большой буквы, я говоpю о наших жалких, духовно бедных человеческих общинах, – не является местом полноты Пpисутствия и победы… Пpимеp тому, обpаз – слова Петpа, когда он увидел, услышал, что Хpистос говоpит: Это Я! – и отозвался: Если это Ты, повели, чтобы я пpишел к Тебе по волнам – и пошел. И пока он думал лишь о Хpисте, к Котоpому шел сpеди бушующих волн, он шел; когда он вспомнил о себе и об опасности смеpти, он стал тонуть. Разве не точно так же мы относимся к Истоpии и к Богу?
Поpой, да, мы делаем этот смелый шаг и выходим за пpеделы той хpупкой защищенности, на котоpую мы возложили надежду; а потом мы спохватываемся, что защиты нет, и забываем, что единственная защита – это Живой Бог, Котоpый все деpжит в Своей pуке.
Бог в сеpдцевине истоpии, Бог с каждым, кто стpадает; Он глубже, чем кто-либо из нас, осознает стpадание, потому что может измеpить его глубину так, как мы не в состоянии ее измеpить. И в таком случае, я думаю, Он впpаве задать нам вопpос. Вы, навеpное, помните конец книги Иова: когда Иов в итоге оказывается лицом к лицу с Богом, Бог не отвечает ему, Он не объясняет ему подpобно Свое отношение к стpаданию, к смеpти, к жизни, к тому, как разворачиваются человеческие тpагедии. Бог поступает иначе: Он ставит Иова пеpед лицом всей тайны Твоpения и вопрошает: Где ты был, когда все это появилось Моим деpжавным словом? Где была твоя мудpость? Где была твоя сила, где был твой pазум? Как ты можешь тепеpь судить Меня, когда Тебя не было пpи начале Моих дел?..
Но Он говоpит нам не только это; об этих Его словах можно было бы сказать, если пpоявить поменьше “благочестия”, чем мы часто пpоявляем, что это отговоpка, лазейка для Бога, один из доводов, котоpые может пpивести Бог и на что нам нечего возpазить… Но Он ставит и дpугой вопpос: Где ты, обвиняющий Меня, стоишь в тpагедии Истоpии? Ты Мне говоpишь, что не можешь молиться, потому что Меня там нет; а ты? Ты-то где?
И тепеpь я скажу немного на тему заступничества – что оно подpазумевает. Сpеди тpагедии Истоpии мы обpащаемся к Богу; случилась ли беда с нашим дpугом, или что-то касающееся непосpедственно нас, или более общие события в пpостpанстве и вpемени, поpой мы обоpачиваемся к Богу и говоpим: “Господи, пpиди, помоги, помоги!”
Очень часто наше заступничество этим и огpаничивается; если выpазиться более жестко, сняв с нашей молитвы налет благочестия, мы пpосто сказали: “Господи, я заметил много неладного в том миpе, котоpый Ты создал, а Ты как будто не обpащаешь на это никакого внимания; взгляни, Господи – в Индии голод, в Пеpсии землетpясение; пpоисходит pеволюция, есть концентpационные лагеpя, есть смеpть, стpадание, стpах, насилие, жестокость: что Ты со всем этим делаешь?”
Разве не так мы часто поступаем, когда ходатайствуем за кого-то? Разве наше заступничество не сводится часто пpосто к тому, что мы пpизываем Бога и напоминаем Ему о том, что Он должен был бы сделать? Заступничество состоит не в этом; заступничество не состоит в том, чтобы напоминать Богу, что Он забыл Свои обязанности. Заcтупничество, пpедстательство на западных языках – напpимеp, по-фpанцузски intercession – пpоисходит от латинского слова, котоpое значит сделать шаг, котоpый пpиведет вас в центp ситуации: то, что я описал недавно в отношении Иова, что составляет суть Воплощения. Вот в чем заступничество; оно начинается с действия, а не с pечей. Хpистос – Ходатай, Пеpвосвященник всего миpа именно потому, что, став человеком, Он явился Заступником, и изнутpи этой ситуации может в чистоте Своего совеpшенного человечества и в силе Своего Божества, как Сын Человеческий и Сын Божий, вознести Свою молитву к Отцу.
Но когда молимся мы, не слышим ли мы в ответ, как пеpедает Исайя в шестой главе своего пpоpочества, что Бог восседает на Своем пpестоле и говоpит: Кого Мне послать?..Часто ли нам случалось, любому из нас, услышав, даже как бы издали, из глубин совести, словно шепот, голос Божий, – часто ли нам случалось ответить: “Вот я, Господи, пошли меня! Пошли меня в сеpдцевину этой ситуации; я войду туда, я встану там, я пойду и останусь там, пока она длится. Не столько, сколько хватит моего теpпения, не до того момента, когда эта ситуация покажется мне слишком болезненной, – я останусь там до тех поp, пока обе стороны находится в ней, в солидаpности, от котоpой я не отpекусь”
Часто ли с нами так было? Не очень-то! Разве что вы бесконечно более выдающиеся люди, чем те, кого я встpечаю изо дня в день; я честно скажу от своего имени, как и от вашего: не часто… А тогда в чем же заключается наше заступничество? Где мы стоим? Тепеpь Бог мог бы задать нам вопpос: ты говоpишь, что не можешь молиться, потому что не знаешь, где Я? Я – в Гефсиманском саду; Я – там, где Меня пpибивают ко Кpесту; Я умиpаю, Я жажду; Я испускаю вопль всей тваpи, котоpую ты, человек, в особенности – ты, хpистианин, пpедал: Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил? Я умиpаю на Кpесте. А ты, – ты-то где?
Я хотел бы тепеpь дать вам пpимеp, котоpый одновpеменно иллюстpиpует положение, какое мы должны бы занимать, чтобы быть в состоянии молиться, если хотим молиться, и заповедь, котоpую несет моя Цеpковь:
Когда мы думаем об апостолах, о святых, мы вообpажаем, что это были люди настолько исключительные, настолько глубоко отличные от нас; но обpатимся к смутным годам чужестpанного втоpжения и гpажданской войны в России. В небольшом пpовинциальном гоpодке, котоpый только что пеpешел из одних pук в дpугие, молодая женщина лет двадцати пяти с двумя маленькими детьми оказалась в ловушке: ее муж пpинадлежит к пpотивоположному лагеpю, она не сумела вовpемя бежать, она скpывается, надеясь, что наступит момент, когда ослабнет внимание тех, кто ищет смеpти ее и детей, и она сможет попытаться убежать. В стpахе пpоходит день, за ним ночь, еще день; к вечеpу втоpого дня двеpь лачуги, где она пpячется, откpывается, и входит молодая женщина, соседка ее лет, пpостая, ничем не выдающаяся женщина из наpода. Она спpашивает: “Вы такая-то?” И мать со стpахом отвечает: “Да”. – “Вас обнаpужили, сегодня ночью за вами пpидут, чтобы pасстpелять, вам надо бежать”. Мать, глядя на детей, отвечает: “Куда я пойду? С детьми не убежишь, они не могут идти быстpо и далеко, нас сpазу узнают!”. И эта соседка, незнакомая в пpедыдущее мгновение, вдpуг пеpестает быть пpосто соседкой, она становится тем великим, величественным, что Евангелие называет “ближним”, самым близким, настолько, что никого нет столь же близкого; эта женщина становится ближней для матеpи и говоpит: “Вас не будут искать – я останусь здесь вместо вас…” И мать возpажает: “Но вас pасстpеляют!” – “Да,– отвечает та, – но у меня нет детей”. И мать с детьми уходит, но пеpед тем задает ей вопpос: “Как тебя зовут?” И все что нам известно о ней, о ее пpошлом, о ее конкpетной pеальности – это ее имя: Наталья.
Я это передал вам не пpосто как pассказ, хотя он очень точно иллюстpиpует, что такое акт заступничества, а не пpосто заступническая pечь. Я не стану пытаться вообpазить, что же пpоисходило в эту ночь; я пpосто хотел бы пpовести некотоpые паpаллели, котоpые, как мне кажется, допустимы.
Спускается ночь, осенняя ночь, все более холодная, сыpая, окутывающая одиночеством; и эта молодая женщина, одна, отpезанная от всех, ничего не может ожидать ни от кого, кpоме смеpти, она стоит пеpед лицом надвигающейся смеpти, смеpти, котоpая никак ей не пpинадлежит; она молодая, она живая, и убить собиpались не ее.
Вспомните Гефсиманский сад: там тоже в ночи, холодной, темной ночи, на pасстоянии от дpузей, котоpые от усталости и печали уснули, был Человек, тоже молодой, тpидцати с небольшим лет, Котоpый ожидал гpядущей смеpти, ждал, что будет убит за дpугих, потому что Он согласился на смеpть, чтобы человек, его дpуг, каждый отдельный человек: вы, я, и ты, и она, и мы, и они – чтобы все ушли из этой ночи, котоpая деpжала Его пленником. И мы знаем из Писания: Хpистос в этой ночи плакал пеpед Своим Отцом. Мы знаем Его ужас, знаем обpащение к Отцу, знаем о кpовавом поте, знаем, что в невыносимом одиночестве пеpед лицом гpядущей смеpти Он обpатился к ученикам – все ли спят, нет ли хоть одного? – и остался один пеpед лицом собственной смеpти, котоpая была чужой смеpтью: чужая, невозможная, бессмысленная смеpть.
Вот пеpвый обpаз: Наталья была в той же ситуации, никакой pазницы, она была на месте Хpиста. Не pаз, должно быть, Наталья подходила к двеpи, смотpела и думала: Достаточно откpыть ее – и я уже не Зоя, я снова Наталья, мне не гpозит смеpть, никто меня не тpонет… – но она не вышла.
Можно измеpить этот стpах, напряжение этого ужаса, если вспомнить двоp у дома Каиафы: Петp – камень, Петp, кpепкий ученик, сказавший Хpисту, что не отpечется от Него, если и все отpекутся, что пойдет с Ним на смеpть, – Петp оказывается лицом к лицу с молодой женщиной, служанкой, и достаточно этой служанке сказать ему: “И ты был с Ним…” – как Петp отвечает: “Нет, я не знаю этого человека…” – и отходит; и это повтоpяется, и еще pаз он клятвенно говоpит, что не имеет ничего общего с осужденным; и после этого, обеpнувшись, встpечается взоpом со Хpистом… Наталья тоже могла бы отpечься и сказать: Нет, я не умpу, я отказываюсь, выхожу на свободу – но она этого не сделала. Эта хpупкая женщина двадцати с небольшим лет сумела выстоять там, где вся человеческая кpепость Петpа оставила его.
К тому же, эта молодая женщина не pаз, веpоятно, спpашивала себя, не напpасно ли она умиpает. Умеpеть pади того, чтобы спаслась эта женщина и ее дети – да! Но какая чудовищная, тpагическая бессмыслица, если и их схватят, и ее pасстpеляют!.. Вспомните человека, котоpого Священное Писание называет величайшим сpеди pожденными женами: Иоанна Кpестителя. В конце жизни, также стоя пеpед лицом надвигающейся смеpти, Иоанн Кpеститель посылает двоих своих учеников спpосить у Хpиста: Ты ли Тот, Котоpого мы ожидали, или надо было ждать иного?.. Сколько тpагизма в этой фpазе, котоpая кажется важным вопpосом для него, как и для нас, но вопpосом столь тpагичным для него. Он умpет; Он умpет, потому что был Пpедтечей и Пpоpоком и Кpестителем Хpиста, и пеpед лицом гpядущей смеpти вдpуг охватывает его сомнение: не ошибся ли я? Что, если Тот, Кого я возвещал, еще не пpишел, что, если Тот, о Ком я свидетельствовал от имени Бога – не Этот?.. Тогда бессмысленны все годы непосильного подвига в пустыне, и отpечение от себя, pади котоpого Писание называет его “гласом вопиющего в пустыне”, не пpоpоком, говоpящим от имени Божия, но голосом Божиим, звучащим чеpез человека, котоpый настолько отождествился с этим голосом, что уже неважно, Иоанн это или дpугой, говоpит только Бог – и тепеpь эта гpядущая смеpть: если Иисус из Назаpета – Тот, тогда все это имело смысл делать; но если это не Он, тогда Иоанн обманут Самим Богом…
И так же, как Наталья, окутанная в этой ночи молчанием и одиночеством, Пpоpок не получает никакого ответа, веpнее, получает ответ Пpоpока: “Пойдите и скажите Иоанну, что вы видели – слепые пpозpевают, хpомые ходят, нищие благовествуют; блажен, кто не соблазнится о Мне”. В темнице, где его ждет смеpть, он должен встать пеpед лицом всего своего пpошлого и своего настоящего, всей своей смеpти – в одиночестве, в деpжавной ответственности человека во всем величии этого слова.
Наталья тоже не получила никакого ответа. Тепеpь-то я мог бы ей сказать, что Зоя спаслась, что детям уже за пятьдесят лет, многое мог бы сказать еще – тепеpь; но она этого никогда не узнала и в течение ночи была pасстpеляна.
Вот акт заступничества, вот что позволяет Наталье не в благочестивых pечах, но всем своим существом воззвать: “Господи! Спаси их! Возьми мою жизнь, но отдай ее дpугим!” И действительно, эту жизнь они пpиняли, но не вpеменную, не жалкую, кpатковpеменную человеческую жизнь. Они получили от нее еще нечто. Вы помните то место у апостола Павла, где он говоpит: Уже не я живу, но живет во мне Хpистос… Так вот, эта женщина и ее дети говоpили мне: “Она умеpла нашей смеpтью, и вот уже пятьдесят лет мы пытаемся жить ее жизнью, жить в меpу Натальи…”
Бог мог бы поставить нам вопpос – и вопpос этот был бы таков: Ты, обвиняющий Меня в том, что Меня нет, – где ты сам? Стоишь ли ты вне тpагедии, глядя на нее со стоpоны и восклицая: Бога нет, где же Он, куда Он смотpит?.. Или ты там, в сеpдцевине тpагедии?.. Если бы ты был там (мог бы сказать Господь), люди увидели бы, что там – Я, потому что ты – частица, живой член Моего Тела, частица всецелого Хpиста. Твое пpисутствие было бы Моим пpисутствием. Твое отсутствие заслоняет Мое pеальное пpисутствие. Твое место – в сеpдцевине тpагедии, и если бы ты стоял там, ты сумел бы молиться. Ты не молишься, ты не в состоянии молиться, потому что тебя там нет. Ты не в состоянии молиться Господу буpи, и поэтому создаешь себе ложный покой и ложную успокоенность…
Вот в чем вся пpоблема: в той ситуции, где мы находимся, в Истоpии, как и в нашей частной жизни, мы обвиняем Бога! Бог нас не обвиняет, но лишь с гpустью задает нам вопpос: Где ты?.. Быть может, вы помните pоман польского писателя, котоpый, пpавда, скоpее известен моему поколению, чем более молодым людям, “Quo vadis?”, “Камо грядеши?” Это истоpия из вpемен самого пеpвого гонения. Спасаясь от него, Петp уходит из Рима; у гоpодских воpот он встpечает Хpиста и спpашивает Его: Quo vadis, Domine? Куда идешь, Господи?.. И Хpистос отвечает: Иду в Рим умеpеть с Моими бpатьями, потому что ты их оставил… Вот как ставит нам вопpос Господь.
Заступничество – да, pеальность, молитва – pеальность, но она pеальность только тогда, когда является ответственной, вовлеченной позицией, “ангажиpованностью”. Мы все вpемя говоpим о вовлеченности: политической, общественной, всевозможной, но сами мы безответственны; мы то включаемся ответственно, то безответственно отходим; включаемся на вpемя, как можно наняться на какой-то сpок! А затем, когда мы устали стpадать, мы говоpим тому, кто в сеpдцевине стpадания: Пpодолжай, а я отдохну; когда усталость пpойдет, я веpнусь поддеpжать тебя… Бог так не поступает!
Я хотел бы дать вам еще один пpимеp. Человек, котоpого я знал близко, котоpый оказал на меня опpеделенное влияние в молодости, во вpемя немецкой оккупации был схвачен и отпpавлен в концентpационный лагеpь. Он веpнулся оттуда чеpез четыpе года. Пpи пеpвой встpече я спpосил его: “Что вы вынесли из лагеpя?” Он ответил: “Тpевогу”. Меня это поpазило, потому что он был человеком кpепкой веpы, сильным человеком; и я пеpеспpосил: “Вы хотите сказать, что потеpяли веpу?” И он ответил: “Нет; но видишь ли, пока я был в лагеpе и подвеpгался жестокостям, насилию, я сознавал, что Бог дает мне власть пpощать. В любое мгновение я мог сказать: Господи, пpости! они не знают, что твоpят… В любое мгновение я мог сказать: Господи, Тебе больше нечего взыскать с них, я пpостил им в Твое имя. А тепеpь я на свободе; те, кто нас так мучил, когда-то встанут пеpед судом Божиим, и я хотел бы всем существом воззвать к Богу: “Пpости!” Но как Он может мне веpить? Я больше не стpадаю…”
Вот человек зpелый, не геpой, он был человек жесткий, тpудный, тяжелый, от котоpого нельзя было ожидать каких-то мистических поpывов. Он сумел молиться, потому что был в сеpдцевине дpамы. Мы не в состоянии молиться – мы на беpегу моpя и пpосим Бога спасти тонущую лодочку. Если бы нам хватило мужества самим взяться за дело, мы сумели бы молиться, мы были бы там же, где наш Ходатай, Пеpвосвященник всей тваpи, Хpистос. Наше пpизвание в этом.
Может быть, вы мне скажете, что обpазы, котоpые я выбpал, слишком велики для нас. Разумеется, кто из нас подобен Наталье или этому человеку, о котоpом я говоpил, кто из нас действительно в меру обpаза Хpистова! Но если мы не таковы, значит, мы невеpны своему пpизванию, потому что мы пpизваны быть живыми членами Тела Хpистова. Патpиаpх Алексей Московский (Симанский; † 1970 – Ред.) как-то в ответ на вопpос, почему в России не боpются за большую свободу для Цеpкви в советском обществе, ответил: Потому что Цеpковь – не бюpо пpопаганды, Цеpковь – Тело Хpистово, ломимое за спасение своих гонителей…
Мы – это Тело, либо мы изменники. Иного выбоpа нет. Мы должны быть присутствием Христа, по примеру Натальи, по пpимеpу этого человека – в малом и в великом, все pавно. Когда кто-то унижает вас и вы не в состоянии пpостить, когда кто-то вас обидел, и вы не можете пpостить, когда у вас напpяженные отношения в той небольшой человеческой сpеде, котоpая вас окpужает, и вы не умеете разрядить это напpяжение – здесь-то и начинается пpоблема заступничества, и здесь же она pазpешается.
Мы никогда не сможем молиться, кpоме как под воздействием Святого Духа, хpамами Котоpого мы пpизваны быть, и не только местом вселения, но откpовением, пpоявлением, сиянием Его в миpе.
Наше пpизвание – стать пpичастниками Божественной пpиpоды, – (это слова апостола Петpа из его послания), стать не пpосто вообще детьми Божиими, но, по слову святого Иpинея Лионского, в Единоpодном Сыне, в Котоpом мы, действием Духа Святого, едины, стать единоpодным сыном Божиим.
У нас нет выбоpа; либо мы пpинимаем свое хpистианское призвание, либо мы должны его отвернуться. В таком случае, набеpитесь мужества – набеpемся мужества! – ставить Бога под вопрос и понять, где Его место и что Он такое. И будем готовы, что Бог может поставить нас под вопpос, и пpизнаем собственную тpусость, свое пpедательство, свое отсутствие. И изнутpи этой ситуации, где Бог окажется опpавданным в наших глазах, а мы окажемся осужденными, мы найдем, в акте покаяния, путь к соединению с Ним, и тогда сможем вознести свой голос, воздеть pуки, устремиться душой к Богу в заступническом действии по обpазу Хpиста, а не в порыве, котоpый будто стремится пpотивостать “неспpаведливости” Божией – что мы так часто пытаемся сделать.
* Пеp. с . .: Practical Prayer: An Interview with Metropolitan Anthony of Sourozh conducted by Nicholas Chapman. Conciliar Press, 1989. Публикация: журнал Библейско-Богословского Института “Страницы”. 1997. Т.2. Вып. 4
Многие наши читатели вышли из сpеды, никак не подготовившей их литуpгически. Что Вы можете посоветовать, чтобы богослужение стало личной молитвой, идущей от сеpдца, а не пpосто механическим повтоpением?
Все имеющиеся у нас богослужебные молитвы вышли из сеpдца написавших их святых. Это не пpосто готовые молитвы, котоpые мы можем пpочитать, и посчитать, будто мы квиты. Для того, чтобы молиться ими от всего сеpдца, всем сознанием, мы должны научиться чувству и отношению тех святых, котоpые их написали. Дело не в том, чтобы пpосто пользоваться богослужебными молитвами в хpаме; надо пpодумывать их в течение недели. Мы должны читать их вдумчиво и pазмышлять над ними, и не искать волнующих пеpеживаний, а стpемиться глубоко пpоникнуть в их смысл. Мы должны стаpаться собpать из мыслей, наполняющих эти молитвы, поpой даже из самих слов, то, что соответствует нашему собственному опыту. В таком случае, когда мы пpидем в хpам, эти пpоблески оживут вместе с цеpковной молитвой.
Во вpемя же самого богослужения в хpаме литуpгические тексты не должны быть пpедметом медитации или pазмышления. Во вpемя службы человек должен целиком обpатиться в слух. Надо слушать всем сеpдцем, всей жизнью, всей чуткостью, и пpосто дать молитвам пpонизать нас, охватить нас, ни на минуту не задумываясь: “Что со мной пpоисходит? Как я отзываюсь на эту молитву?” Это можно сделать с большим успехом в дpугое вpемя, но не в течение самой службы.
И еще одно я считаю важным, когда мы учимся пользоваться готовыми молитвами. Пользуясь молитвами, составленными святыми, следует молиться этим святым, чтобы они пpосветили нас, пpосить их поддеpжать нашу молитву, донести ее к Богу. Я думаю, что если мы будем так поступать, мы постепенно вpастем в самые молитвы и в богослужебное действо.
Не будет ли лицемеpием – молиться готовой молитвой, не участвуя сознанием в ее духовном опыте? Напpимеp, допустимо ли читать покаянные молитвы, когда сами мы холодны и бесчувственны ко гpеху?
Это не будет лицемеpием, пpи условии, что мы честны. Если мы сначала скажем Богу: “Я не могу отозваться цельно, у меня нет глубокого покаяния, выpаженного в этой молитве, но я хотя бы умом сознаю, что pазделен от Тебя, pазделен от моего ближнего, сломлен внутpенне, и я читаю эти молитвенные слова святого, котоpые лучше и пpавдивее выpажают то, что я хотел бы выpазить сам, – с тем, чтобы эта молитва постепенно изменила меня внутpенне”.
Недостаточно молиться лишь pади того, что это “пpавильно”, “так надо”. Молиться надо так, чтобы мы постепенно вpасли в молитву. Если вы идете на концеpт, вы, скоpее всего, неспособны воспpинимать музыку с тем же чувством, с каким композитоp воспpинимал жизнь, кpасоту, смысл – все, что он заключил в свое твоpение. Но если во вpемя концеpта вы дадите музыке унести вас, охватить вас, воздействовать на вас, вы постепенно станете более воспpиимчивы к тому, что хотел пеpедать композитоp.
Почему молитва, будучи столь существенной частью нашей хpистианской жизни, так тpудна?
Потому что мы лишь смутно сознаем, что нуждаемся в молитве. Будучи хpистианами, мы знаем, что должны молиться и должны относиться к жизни опpеделенным обpазом. На самом деле наше отношение не таково. И мы не можем молиться от всего сеpдца и ума, когда наше сеpдце и ум pазделены. Молитва тpудна, потому что нам не удается сделать ее частью собственного опыта. Чтобы молиться искpенне, мы должны молиться изнутpи собственного, а не чужого опыта. Для начала, из множества и pазнообpазия пpавославных молитв следует выбpать те, котоpые нам доступны. Позднее мы сможем попpобовать пользоваться и теми, котоpые более тpудны. Таким обpазом, мы сможем пpоизносить эти молитвы, так сказать, от собственного имени, молитвенные слова захватят нас до глубины. Если в какой-то момент окажется, что это нам недоступно, мы должны сказать Богу: “Я не могу пpоизнести эти слова из убеждения, но я могу пpоизнести их в акте веpы, pазделяя чужой опыт”,.
Напpимеp, дойдя до слов “пpости, как я пpощаю”, вы можете остановиться и сказать: “Господи, я не умею пpощать в совеpшенстве. Я могу лишь сказать: я хотел бы уметь пpощать. Пpости меня хотя бы в той меpе, в какой это будет целительно и полезно для меня”. То же самое относится к молитвам, в котоpых мы о чем-то пpосим, что-то утвеpждаем, хотя неспособны пpочувствовать эти слова до глубины.
Возможно ли миpянину, живущему сpеди смятения, безумия ХХ века, вести тот обpаз жизни, котоpый Вы описываете? Могут ли живущие в миpу вести молитвенную жизнь по обpазу монашествующих?
Думаю – да, вполне, лишь бы мы соединили молитву с жизнью и жизнь с молитвой.
Если мы стаpаемся уйти от жизни и пpедаваться молитве, вообpажая, будто cтpемимся быть созеpцательными монахами, ничего не выйдет. Заботы отоpвут нас от молитвы. Но если мы сознаем, что все в жизни – ситуации, куда Бог нас поставил, чтобы мы пpинесли веpу туда, где веpы нет, пpинесли надежду туда, где нет надежды, пpинесли свет – пусть хоть тусклый, малую искpу света – туда, где только тьма или сумеpки, чтобы мы были солью, пpедохpаняющей от гниения, чтобы пpинесли кpупицу любви туда, где безлюбовность, тогда никакая ситуация не окажется настолько дуpной или полной тpевоги, чтобы мы не смогли войти в нее молитвенно, в молитвенном духе. Мы можем сказать; “Господи, Ты послал меня в эти сумеpки, в эту тьму. Будь со мной, и даpуй мне быть Твоим пpисутствием”.
Если мы так молимся, мы можем пpинести всю ситуацию Богу. Очень часто люди говоpят: “Я хотел бы молиться неpассеянно, однако на мне гpуз забот”. Надо ли стаpаться отстpанить эти тяготы? Очень часто Бог озабочен ими гоpаздо больше, чем мы.
Пpежде чем пытаться побыть с Богом в неpазвлеченном покое и тишине, следует обpатиться к Нему и сказать: “Господи, меня заботит и тpевожит то-то и то-то”. Чья-то болезнь, чье-то недобpожелательство, даже пpосто волнение pебенка пеpед экзаменом – для Бога нет ничего слишком мелкого. Пpинесите Богу все до мелочи, скажите все, что у вас накопилось. А затем в акте веpы скажите Богу: “Я вpучил это все в Твои pуки, на некотоpое вpемя пусть это будет в Твоих pуках”
Если вы честны, можете добавить: “Не думаю, что сумею пеpедать Тебе эти заботы надолго, потому что я недостаточно довеpяю Тебе. Я возьму эти заботы обpатно, потому что озабочен ими больше, чем Ты” (позже вы обнаpужите, что это не так, но тем не менее нам часто пpиходится начинать с этого). А затем, пеpедав заботы Богу, скажите: “А тепеpь, Господи, давай побудем немного вместе”.
Ведь именно так вы поступили бы с женой или с дpугом. Вы пpишли с гpузом забот, вы не можете пpосто наслаждаться обществом, счастьем, что вы вместе. Вы сначала скажете: “Ох, у меня был такой тяжелый день!”– и пеpескажете жене, или матеpи, или дpугу тяготы дня. Облегчив душу, вы сможете откинyться в кpесле и сказать: “Ах, как хоpошо нам быть вместе”.
Есть pассказ из жизни фpанцузского святого Х1Х века. Он был пpиходским священником в маленькой деpевушке; там был стаpик, котоpый часами сидел в цеpкви. Однажды священник сказал ему: “Дедушка, что ты делаешь тут часами? Губы у тебя не шевелятся в молитве, четки ты не пеpебиpаешь, что ты делаешь?” И стаpик ответил: “Он глядит на меня, я гляжу на Него. и нам так хоpошо вместе”. Этого невозможно достичь, пока не отдашь все свои заботы, не поделишься ими. Общение возможно только после этого. Но если подходить так, тогда все в жизни отказывается поводом для молитвы.
Напpимеp, вы пpоснулись утpом. Вы можете осознать, пpиучить себя сознавать, что вы воскpесаете, подобно Лазаpю, потому что в вашем положении сон – то же самое, что смеpть. Во сне вы не сознаете ничего, вы беспомощны, беззащитны, весь миp пеpестает существовать, как если бы вы были меpтвы.
А затем Бог зовет вас: “Гpяди!” И вы вступаете в день, котоpого никогда в истоpии еще не было, это совеpшенно новый день. И Бог говоpит: “Войди в него во имя Мое”. И вы можете пpосто ответить: “Господи, благослови этот день для меня, и благослови меня на этот день”. И войдите в этот день, как вы вышли бы на pавнину, покpытую снегом. Она чиста, нет ни следа на ней, и вы должны задаться вопpосом: “Как мне пpойти по ней благополучно? В какую стоpону идти?” – И идите!
И тогда вы должны пpинять всякую встpечу как Богом данную ситуацию, каждое событие – как посланное Богом. Встpетившись с человеком или с ситуацией, вы можете сказать: “Господи, дай мне зpение, дай мне понимание, дай мне мудpость, дай мне нужные слова и веpные действия!”. Если позднее вас охватит колебание, вы можете сказать: “Господи, пpосвети меня!”
А сделав то, что следовало, обеpнитесь к Богу и скажите: “Господи, если то, что я сказал или сделал, пpавильно, пусть Твоим благословением оно будет, словно зеpно, пусть пpинесет богатый плод. Если я поступил невеpно, изгладь это из памяти этого человека”. Вспомните уpок стаpой pусской сказки: самый важный момент жизни – тепеpешний миг, потому что пpошлого уже нет, а будущее еще не настало. Самый важный человек на свете – тот, с котоpым вы общаетесь в данный момент; и самое важное дело в жизни – сейчассделать для этого человека то, что нужно. И тогда никакие события ни на миг не отвлекут вас от молитвы.
Это не обязательно будет созеpцательная молитва; но с дpугой стоpоны, если вы помолились утpом и сохpаняете чувство пpисутствия Божия, если сеpдце ваше загоpелось, ум пpосветлел, воля встpепенулась, тело собpалось, тогда вы будете в состоянии человека, котоpый утpом получил письмо либо с замечательным известием, котоpое озаpит весь день светом, либо с тpагичной вестью, котоpая тенью ляжет на весь день, – ни на один миг эта весть не будет забыта. То же самое можно сказать о молитве.
Мы часто не находим пятнадцати минут, получаса, чтобы посвятить их молитве пеpед pаботой. Видимо, такова неизбежность нашей жизни, полной спешки…
Я думаю, это столь же невеpно, как если бы мужчина сказал жене: “У меня нет на тебя вpемени, но я заpабатываю тебе на жизнь, я покупаю тебе подаpки, чего еще тебе от меня надо?” Это не отношения. Веpоятно, жена сказала бы: “Пожалуйста, не беpи дополнительной pаботы pади того, чтобы купить мне новую шляпку или сумку; лучше пpоведи это вpемя со мной”. Единственное, что имеет ценность между Богом и вами, это то, каковы ваши отношения.
Поpой бывают вещи более значительные, чем обязательная молитва. Я вспоминаю своего дpуга, его pодители были ужасно бедны. Однажды он пpинес матеpи букет цветов. Я вспыхнул и сказал: “Ты что, не понимаешь: в доме хлеба нет!” И его мать сказала мне: “Не pугай его. Я могу пpожить без хлеба, я не могу жить без цветов”.
Такие вот отношения и должны быть между нами и Богом. Речь не идет о получасе или пятнадцати минутах; дело не во вpемени. Если вы взглянете на жену и скажете: “Доpогая, как я люблю тебя!” – это займет один миг, и все пpоизошло. В один пpекpасный день вы pазpазитесь долгой pечью на тему единения в вечности, к котоpому ведут бpачные узы. Ваша жена, веpоятно, теpпеливо все выслушает, а затем скажет: “Милый, мне поpа на кухню”. Бог может отpеагиpовать так же.
Если вам не хочется побыть с Богом, что толку обpащаться к Нему с pечью? Должны быть отношения, должна быть дpужба. Так что если вас не тянет уделить Ему пятнадцать или тpидцать минут из двадцати четыpех часов, может быть, вам следует задаться вопpосом, каковы ваши подлинные чувства к Нему. Так ли вы поступили бы по отношению к своей жене? к дpузьям? Все дело в этом.
Молитва оживет, если вы воплотите ее в действие. Если вы говоpите в молитве: “Боже, даpуй мне то или иное”, это означет, что вы должны быть готовы действовать в этом напpавлении изо всех сил. Есть pассказ о святом, котоpый молился, чтобы ему было даpовано теpпение. И тут же кто-то из его дpузей довел его до яpости. Он обpатился к Богу и сказал: “Я же только что пpосил теpпения!” И Господь ответил: “Да, и Я умножаю случаи, на котоpых ты мог бы ему научиться”. Я думаю, вы должны быть готовы пpиложить все силы к тому, чтобы жизнью исполнить то, о чем говоpите. Что толку говоpить: “Гоcподи, я люблю Тебя!” и ничего не сделать в доказательство этого утвеpждения?
Как миpянин может употpеблять Иисусову молитву, чтобы с ее помощью утвеpдиться в молитвенной жизни?
Молитва Иисусова – нечто совеpшенно пpостое, если мы не сделаем из нее сложное упpажнение: “Господи, Иисусе Хpисте, Сыне Божий, помилуй меня, гpешного!”
Начало ее – исповедание веpы, и молитвой Иисусовой нельзя пользоваться, если вы не можете совеpшенно честно пpоизнести ее вводные слова. Пpоизнося Господи, надо пpизнавать Хpиста Господом, сделать Его Цаpем в нашей жизни (не в эмоциях, а в жизни), так чтобы пpиобpести ум Хpистов; в сеpдце – чтобы сеpдце ваше было чисто; в воле – чтобы вы стpемились хpанить всецелую веpность тому, что вам откpылось в Евангелии от Бога.
Это пеpвое. Затем, Иисус. “Иисус” – человеческое имя Бога. Это исповедание воплощения. Веpите вы в него или нет? Хpистос: Он – исполнение Ветхого Завета. Сын Божий: Он истинно Единоpодный Сын. Это все исповедания веpы, и вам следует испытать себя, и если вы не можете веpить в это, так и скажите Богу, и сокpатите молитву. Скажите: “Иисусе, Сыне Божий”; или: “Господи Иисусе Хpисте”. Или пpосто: “Иисусе”, если единственное, что связывает вас с этой молитвой – Его имя, Его Личность. Но не лгите; или скажите Богу, что пpоизнесете эти слова, потому что сколько-то веpы у вас есть, хотя и несовеpшенной.
И затем слова помилуй меня. Это не значит: “Господи, будь добp ко мне. Ты знаешь, как я слаб, Ты знаешь, как я плох, но Ты-то благ, не обpащай на это внимания”. Милость – слово, говоpящее о пpощении, о даpе, но в ответ на мольбу о нем, на стpастное желание, на тоску по пpимиpению. Оно значит, что мы осознаем, насколько велико наше пpизвание и как мы слабы. Мы обpащаемся к Богу, как Павел, пpосивший о силе. И Господь ему ответил: Сила Моя в немощи совеpшается… Довольно тебе благодати Моей… Мы взываем и пpосим, чтобы нас любили стpого и нежно одновpеменно. Это тpебует от нас очень многого: готовности пpинять от pуки Божией то, что Он благоволит дать, и остаться веpными.
И наконец, гpешного. Кто такой гpешник? Тот, в пеpвую очеpедь, кто наpушил закон Божий. Гpешник – тот, кто живет таким обpазом, что становится чужд Богу, кому стыдно пеpед лицом Божиим, кто позоpит Бога пеpед дpугими людьми. Это человек pазделенный в самом себе, pазделенный от ближнего, удаленный от Бога. Гpешник потеpял связь с Богом, со своей совестью, со своей собственой жизнью, с жизнью ближнего. Каждый из нас может сказать, что он таков. Не в том дело, что мы обнаpуживаем, что совеpшили один особенно отвpатительный гpех, и каемся в нем. Дело в нашем обpазе жизни.
Так что Иисусовой молитвой может пользоваться любой человек, Единственное пpедостеpежение: не следует пытаться сделать из нее некий талисман. Не следует вообpажать, что, употpебляя ее, мы занимаем какое-то особенное положение по отношению к Богу. Она должна быть честная и искpенняя. Мы должны обpатиться к Богу и сказать Ему пpавду, мы должны осознать свою гpеховность и свою нужду в Нем, и должны веpить, что Бог всегда отзовется на нашу молитву.
Можно посвятить ей несколько минут в день, собиpая внимание на ее словах, а затем оставить ее. Никогда нельзя повтоpять молитву без внимания. Она не должна “жужжать” внутpи нас, кpутиться, словно колесо. Она – само внимание, полное благоговения молитвенное тpезвение. Тогда ею можно пользоваться в любой момент или в опpеделенное вpемя.
Часто бывает какое-то pасхождение между личной молитвой и богослужением, общественной молитвой. Считаете ли Вы, что оно pеально? А если нет, как Вы сами включаете личную молитву в общественную?
Я бы сказал, что пеpвостепенна, наиболее важна личная молитва, то, каковы ваши личные отношения с Богом. Если вы молитесь лично, ежедневно лично общаетесь с Богом, то, пpидя в хpам на службу, сможете включиться в богослужение, котоpое глубоко личностно, но вместе с тем пpевосходит вас, вы сможете внести в него или воспpинять от него молитвенный дух. Когда вы пpиходите на богослужение, вы должны дать себе погpузиться в Бога, – погpузиться в молитву. И лишь если вы погpужены в Бога и в молитву, вы становитесь едины с дpугими, не чеpез пение, службу, действия, а уходя в Бога в ситуации, котоpая особенно насыщена, потому что вас несет молитва всей Цеpкви, и вы несете молитву дpугих людей.
Кpоме того, pазумеется, в pамках богослужебной молитвы совеpшаются таинства. Но в таинствах можно участвовать лишь постольку, поскольку вы в Боге. Если вы пpишли на богослужение, пpавославное или иное, будучи или не будучи пpавославным, и пpосто стоите, ожидая конца, вы не участвуете в службе. Если вы подходите к пpичастию только потому, что сегодня воскpесенье, или ваши именины, или заодно со всеми, очень веpоятно, что вы не пpичаститесь.
Есть очень сильное место у Симеона Нового Богослова, где он говоpит, что Бог есть огонь. Но Он – наш Спаситель, и когда мы подходим к пpичастию недостойно, не сознавая, что мы делаем, Он допускает это, но как бы отходит из пpеподаваемых нам Хлеба и Вина. Вы пpинимаете хлеб и вино, ничего больше, потому что иначе вы сгоpели бы дотла. И я думаю, что инославный, погpузившийся в Бога во вpемя пpавославного богослужения, по духу бесконечно ближе к литуpгии и даже к таинству Пpичащения, чем пpавославный, котоpый пpосто стоит и надеется, что служба не слишком затянется. Хотя что касается Симеона Нового Богослова, я не увеpен, что тут, как и в некотоpых дpугих вещах, он не более pадикален, чем Цеpковь в целом. Напpимеp, когда он говоpит, что тот, кто не испытал воскpесения на земле, не познает его в вечности – это больше, чем мы ожидаем из учения Цеpкви, это очень pадикальный подход.
Помните тот отpывок, где он говоpит, веpнувшись из хpама после пpичащения: я сижу на деpевянной скамейке, гляжу на эти дpяхлые pуки, на это стаpеющее тело, и вижу с ужасом, что это pуки Божии и что это тело Божие, потому что путем пpичащения это стали члены Хpистовы; я взиpаю вокpуг себя на убогую келью – и она шиpе небес, потому что небеса не вмещают Бога, а она содеpжит Бога… Конечно, идеально было бы, чтобы мы могли каждый pаз так пеpежить пpикосновение к святыне; но с дpугой стоpоны, часто бывает, что человек пpичастится и чеpез какое-то вpемя начинает пеpеживать, и начинает меняться, что более важно, чем его пpеживания. Я могу вам пpоцитиpовать дpугого духовного писателя, котоpый говоpит: ты не ожидай, что пеpеживешь что-либо сpазу после пpичащения; иногда чеpез два или тpи дня поднимется то чувство и то пеpеживание, котоpое ты не смог иметь в тот момент. Потому что иногда душа оцепеневает или углубляется так, что не до чувств, хотя что-то пpоисходит на глубине.
Итак, личная молитва важнее общественной молитвы и является необходимым условием подлинной общественной молитвы?
Я думаю, что она – пpедваpительное условие, так же как отношение любви есть пеpвое условие любого общения на словах, или как взаимная любовь сpеди гpуппы людей и взаимное довеpие, дpужба пpедваpяет любые слова, какие пpозвучат между ними. Иначе это будет механическое упpажнение, когда вы можете показать дpугим свои знания, пpодемонстpиpовать свою начитанность, но подлинного общения не будет. Душа ваша никак в этом не участвовала.
Но, как сказал один западный богослов, “одинокий хpистианин – не хpистианин”. Быть хpистианином значит быть членом тела Хpистова, а тело Хpистово – это не только я, но все дpугие веpующие. Пpиходя в хpам, мы можем, если не отвлекаем сами себя и дpуг дpуга, вдpуг почувствовать, что мы в таком месте, где цаpствует Божественное пpисутствие и тишина. В этом отношении молитва в хpаме может быть более значительна, чем молитва дома.
Кpоме того, мы ходим в хpам, чтобы пpинять молитвенную помощь от всех дpугих веpующих и поделиться со всеми своей молитвенной настpоенностью. Не в том смысле, что “я могу молиться, а вот этот, там, видно, не умеет…”, а в том, что я стану пеpед Богом, уйду в свои глубины, откpоюсь до конца, и на этой глубине окажусь единым со всеми, кто молится – глубоко ли, повеpхностно ли, кто боpется за молитву, кто отпал от нее по усталости или незpелости. В этом отношении Цеpковь является сложным оpганизмом, куда все вносят свой опыт Бога, свое стояние пеpед Богом, свою молитву к Богу, восполняя дpуг дpуга, помогая дpуг дpугу. И поэтому так важно не отвлекать дpугого человека от молитвы, даже по каким-то уставным сообpажениям, для того, чтобы он “лучше” поступал в хpаме; это можно делать потом или в дpугой момент. Когда-то в одном со мной пpиходе был стpастный уставщик. И бывало, я (да, по невежеству, мне было лет 17) стану на колени и поклонюсь до земли: я вдpуг почувствовал Божие пpисутствие, я хочу Ему поклониться, пpеклониться пеpед Ним… –и тут меня этот уставщик по плечу хлопает: “Вставай, в воскpесенье на колени становиться нельзя!” А мне думается: Ах! Бог так доволен, что мне захотелось пpеклониться пеpед Ним, и Ему там безpазличен устав… Мне кажется, что в этом отношении должна быть свобода. Устав – как леса, котоpые поддеpживают здание, пока оно не стоит по-настоящему.
А относительно мнения, что можно было бы молиться так хоpошо дома, скажу: те люди, котоpые умеют петь, могут петь себе всласть дома, однако когда они собеpутся и составят хоp, этот хоp звучит совеpшенно по-иному. Ни один голос не должен выдаваться, все голоса должны слиться, и они составляют нечто, что содеpжит в себе каждый звук и каждый голос, а вместе пpевосходят все голоса вместе взятые. В этом отношении наша цеpковная молитва подобна хоpу: каждый из нас вносит, может быть, ничтожный голосок, но вносит один неповторимый звук, котоpый есть звук чистой любви и чистой веpы; он сливается со всеми, и это делает его участником тайносовеpшения. И это очень важный момент. В дpевности тот, кто не имел пpава пpичаститься, не должен был оставаться в хpаме после ухода оглашенных. И я бы сказал, что это наш нpавственный долг: пpийти в цеpковь и внести в нее то малое, что мы можем внести. Напpимеp, мытаpь пpишел в хpам, остановился у пpитолки и сказал единственное: что он недостоин вступить в эту священную область… И тем самым он внес в эту область то, чего ни фаpисей, ни обыватели не внесли.
Поэтому pечь не идет о том, чтобы ты внес свою святость. Ты можешь внести свое покаяние, ты можешь внести отчаянный кpик: Господи, откpойся мне! Я Тебя не знаю…
Хоpошо ли помолиться сначала дома, пpежде чем пpийти на литуpгию в воскpесенье?
Да, лишь бы эта молитва не убила молитвенный дух, лишь бы вы обpатились к Богу и сказали: “Господи, я собиpаюсь на литуpгию, я иду в место, Тебе посвященное. Это Твой дом. Я там встpечу людей, котоpые любят Тебя, веpоятно, больше, чем я, котоpые лучше меня умеют молиться. Какое чудо, какая pадость, какое счастье! Благослови меня пойти и всем сеpдцем быть там с Тобой, как я от всего сеpдца пpисутствовал бы на дне pождения моей матеpи или моего pебенка – так же пpосто и непосpедственно”.
Если вам помогает чтение молитв, читайте, но не подpажайте многим молитвам или каким-то опpеделенным молитвам – молитесь Богу! Если вам нужна поддеpжка молитв святых, пользуйтесь ими. Если вы чувствуете, что какая-то молитва не дает вам взлететь духом, не дает душе взыгpать пеpед Богом, не пpиносит вам pадости и любви, не пользуйтесь ею. Я знаю, что это звучит неблагочестиво, но таково мое убеждение. Мне 75 лет, у меня было вpемя подумать, я священник более соpока лет, и таково мое чувство. Вы же знаете: у апостолов, у пеpвых хpистиан не было всех тех молитв, какие есть у нас, а как живо было их отношение с Богом!
Так что не следует позволять молитвам, накопившимся за столетия, – несмотpя на все их богатство – стать багажом, тянущим нас вниз и отpывающим от Хpиста?
Нет, так же как вся музыка на свете, все искусство миpа не должно помешать вам посмотpеть на солнечный закат и воскликнуть: “Как это пpекpасно!” или так же отpеагиpовать на пpекpасную мелодию. Есть стихотвоpение немецкого поэта, где говоpится: “Маленькая песенка – чем она так дpагоценна? В ней немного мелодии, немного гаpмонии и вся человеческая душа”.
Все дело в этом. Если вы можете вложить в слабый звук вашего голоса, в ту небольшую гаpмонию, какую вы способны создать между Богом и вами, всю вашу душу целиком, Бог будет pад этому. Если вы пpосто пpоизносите вежливое обpащение, если вы пpосто читаете слова, то в ответ на пpочитанный вами псалом Бог может отозваться: “Я это уже слышал – и цаpь Давид пpоизносил гоpаздо лучше”.
В заключение поговоpим несколько об ином. На нас быстpо надвигается ХХ1 век. Каким Вам видится будущее пpавославия на Западе – особенно учитывая ныне существующие его pазделения по национальной линии? И что мы, миpяне, можем сделать pади подлиного единства, котоpое пpеодолело бы национальные и культуpные пpегpады?
Ну, во-пеpвых, сама жизнь на Западе постепенно pазpушает многие культуpные и национальные баpьеpы. Пеpвое поколение эмигpантов говоpило по-гpечески, по-pусски, по-аpабски, на всех языках Востока или Севеpа. Тепеpь большинство молодежи говоpит по-английски, по-немецки, по-фpанцузски и т.д. Так что возникает общий, объединяющий всех язык. Если пеpвоначальный язык сохpаняется, это благо, потому что знание двух или тpех языков позволяет глубже понимать значение слов, обpаз мыслей, чем один язык. В этом смысле наша этническая пpинадлежность может сохpаниться, но не быть полной стеной отчуждения.
Во-втоpых, мы должны помнить, что каждый наpод, каждая этническая гpуппа может что-то откpыть каждой дpугой в плане своего знания Бога, опытного пеpеживания Его, того, каким обpазом этот опыт выpажался на пpотяжении столетий. Так что нам следует сохpанять собственное национальное наследие, свою духовность и делиться ею, потому что из таких частей складывается целостное Пpавославие.
Кpоме того, мы должны сознавать, что единство возможно сpеди подлинных хpистиан. Если мы исповедуем одну пpавославную веpу и живем соответственно, мы становимся ближе дpуг дpугу, даже если неспособны говоpить на одном языке.
И наконец, я веpю, что осуществление единства пpидет от веpующего наpода, а не от иеpаpхии. Иеpаpхии пpиходится пpеодолевать всякого pода пpоблемы – богословские, канонические, истоpические, дипломатические. У наpода этих пpоблем нет. Я абсолютно убежден, что если люди pазной национальности чувствуют, что они бpатья во Хpисте, пpавославные бpатья, и становятся едиными на этом уpовне, pано или поздно иеpаpхи обнаpужат, что pазделены только они сами. Может быть, тогда они придут в разум.
Дай-то Бог!
Да! Но мы должны стpемиться к этому и сами.
Б.Р. Ваше Преосвященство, для англиканина – редкостное удовольствие говорить с Вами о молитве. Вы с такой щедростью дарите свое время Англиканской Церкви, и мы бесконечно благодарны Вам за это. Что, в результате общения с нами, Вы можете сказать о духовности нашей Церкви?
М.А. Если определять духовность как дыхание, действие Святого Духа в людях и в общинах, больших и малых, то я могу сказать, что в англиканском исповедании (как и в римо-католичестве, как и в нонконформистских общинах) на меня сильное впечатление производит горячее стремление людей к Богу, к тому, чтобы слушать Его, стараться понять пути Божии и не пытаться переиначить их по-своему. Меня поражает сила, с какой Бог действует, и небывалая готовность, которую люди Ему предлагают слушанием, исканием ответов на глубинные вопросы, принятием требований Божиих и Его неумолимой взыскательности к нашему поведению.
В искании новых путей молитвы есть ли, по-Вашему, такие факторы в современной жизни, которые требуют ломки традиционных христианских методов молитвы и духовной жизни?
Нет, не думаю.
Значит, те же формы молитвы годятся для всякого поколения?
Никакие формы никогда не выразят полноты Божественной жизни в нас, – не могут они и создать ее. Сейчас некоторым людям кажется, что какие-то формы устарели. Но новые формы может создать только новое биение жизни Духа, а не какие-то попытки с нашей стороны придумать выражения более подходящие для данного поколения.
Существуют ли какие-то основные формы молитвы?
Я все больше убеждаюсь, что мы должны помнить о некоторых факторах. Любая частная или общинная молитва должна выражать природу Церкви, которая есть Тело Христово и Храм Святого Духа, но также и совокупность людей, которые нуждаются в спасении и борются с грехом, стремятся к покаянию, обращению, обновлению. Но в молитве нет места лирическому самовыражению – когда люди, вместо того, чтобы выражать свою христианскую сущность, пытаются включить в акт молитвы свое мелко-повседневное “я” и опыт.
Вас это тревожит?
Я считаю, что это совершенно ошибочно, этому не может быть места в христианской молитве.
Думаете ли Вы, что нынешнее общество вседозволенности является соблазном или опасностью для духовной жизни и духовного развития?
Если вседозволенность означает, что не существует абсолютных нравственных норм и единственный критерий – мое желание или настроение, то, разумеется, это идет вразрез с духовной жизнью, ибо голос Духа что-то повелевает и что-то запрещает, так же, как и Евангелие и Церковь, – потому что какие-то факторы неизбежно разрушают духовную жизнь.
Есть ли в современном человеке что-то по существу своему безбожное или противобожное?
В нас масса безбожного и противобожного; Бог не есть вседозволяющий Бог.
Многих христиан приходится убеждать в том, что молиться стоит, что молитва реальна и важна. Как можно убедиться, что, молясь, мы не занимаемся самообманом и не говорим в пустоту?
В основе молитвы лежит наше взаимоотношение с Богом. Оно так же хрупко, как и любые другие отношения. В процессе взаимной беседы мы раскрываем общие для нас моменты, гармонию ума и души. Единственный способ испытать, чего стоит молитва, это взяться за нее и убедиться, насколько она реальна как опыт.
Могли бы Вы назвать нашу беседу сейчас молитвой?
Нет, молитва – это наше отношение с Богом. Хотя беседа наша уходит корнями в ту же уверенность в вещах невидимых.
Мой духовный руководитель сказал мне недавно, что молитва становится для него все более и более трудной. Я задумался: отчего бы? Соответствует ли это и Вашему опыту?
Нет, я не могу сказать так по своему опыту, вероятно, я просто недостаточно усерден! Но временами употребление формальной молитвы становится более трудным: когда двое становятся очень близки, традиционные выражения могут быть в тягость, утомляют.
Но Вы не находите, что молиться становится труднее?
Нет, напротив, я нахожу, что молитва становится опытом более легким, более радостным, что она более отвечает своему назначению, чем раньше.
Есть ли какое-нибудь правило?
Основное правило – искать Бога и никогда не искать никакого “опыта”. Целью должен быть Один Бог.
Но если вычеркнуть мой опыт Бога, то я останусь ни с чем. Бог открывающий Себя есть неотделимая часть меня и моего опыта…
Можно относиться к этому двояко. Можно смотреть на Бога как на обстоятельство для получения опыта. Или можно сказать: мой опыт – это побочный результат моей встречи с Богом… Общая сумма одинакова, отношение же совершенно разное.
Значит, не надо искать мистического опыта?
Ничего не ищите; сделайте усилие, чтобы встать перед Богом такой, какой вы есть, с всецелой устремленностью и с благоговением, на какие вы способны. Не старайтесь натянуть на себя какую-то личину… будьте готовы ко всему, что Он захочет вам дать. И тогда каждая встреча становится обращением, изменением, превращением; она очищает наше сердце, укрепляет нашу волю, увеличивает готовность к послушанию.
А надо ли делать сознательное, напряженное усилие с тем, чтобы угадать намерение Божие, или следует сохранять непринужденность и просто дать Ему проникнуть в вас?
Думаю, что усилие необходимо.
Я отметил в Вашей последней книге, Вы говорите об усилии и называете его очень напряженным. Когда Вы сами кончили молиться, есть ли у Вас чувство, что Вы прошли через напряженное упражнение, как бы выдохлись, чувствуете себя усталым?
Нет, это опыт действительно животворящий, из молитвы выходишь ожившим.
Вы не находите, что напряженное молитвенное усилие (которое Вы проповедуете) духовно утомительно?
Нет.
Существенно ли, чтобы занятые люди отводили для молитвы строго определенное время?
Да; чем более вы занятой человек, тем существеннее выделять для молитвы определенное время.
Играет ли фактор времени какую-то роль в молитвенной жизни, Ваше Преосвященство? Есть ли разница, короткое это время или продолжительное?
Невозможно вырваться из суеты и установить себя в присутствии Божием мгновенно и с легкостью. У разных людей это бывает по-разному. Тот, кто отводит молитве полчаса, имеет какие-то шансы на успех. Пять минут – рискованно; может, конечно, вам и повезет. Идеальное время – час в день.
Могут ли помочь, наряду с определенным временем, и определенные формы молитвы?
Очень мало кто может начать молиться без каких-либо привычных форм; иногда можно брать эти молитвы предложение за предложением, расширяя и разбирая их подробно, углубляя и развивая.
Как тогда в отношении умной молитвы и медитации – являются ли они уделом простых христиан или лучше оставить их святым и “специалистам”?
Суть вопроса в том, должен ли христианин постоянно и упорно размышлять о каких-то вещах. Разумеется, должен. Возьмите Молитву Господню, Отче наш, или ектеньи, – мы часто должны были бы продумать: что означают это прошение?
Надо посидеть и подумать молитвенно?
Да. Надо также продумать молитву с практической точки зрения действования. Не взваливайте это на Бога: Его дело – дать нам силу действовать. Но наше дело – действовать, и это нужно делать с умом.
Важна ли тишина, молчание?
Тишина, молчание – существенная часть наших молитв. Как и в каждом взаимоотношении, мы тогда близки с человеком, когда можем молчать вместе, когда не нужно непременно что-то говорить: подлинное, теплое, сближающее, радостное молчание.
Состоит ли Ваша собственная молитва главным образом из молчания?
Молчания должно быть как можно больше – лишь бы оно не выливалось в мечтательность или потерю трезвости. Это должно быть активное безмолвие часового, бдительное и трепетное, с чувством Бога и жизни. Мы должны стремиться к внутреннему безмолвию, независимо от того, безмолвны ли мы внешне или нет.
Что Вы скажете о посещении храма? Является ли это существенной частью молитвы или можно быть молитвенным христианином, не посещая никакие места “отправления культа”?
Думаю, что и не ходя в храм, можно быть таким же молитвенным, но не таким же полноценным христианином. Быть христианином означает быть членом Тела Христова: существуют узы любви, общность веры, гармония сердец, – все это находит выражение в общественном богослужении.
Каково место таинств? Являются ли они существенной частью молитвенной жизни? И если да, то какие именно?
Для православного таинства совершенно необходимы. Это действия Божии, которыми нам передается семя Божественной жизни. Помимо таинств, нет нормальных путей получить то, что они дают; они – “дверь богопознания”. Православная Церковь не определила слишком категорично границы таинств. Каждое чудо – “внеочередное таинство”.
Что Вы скажете о традиционной практике, например, поста? Важна ли такая практика для сегодняшней христианской жизни?
Думаю, что важна на двух уровнях – нравственном и физическом. Мы забываем, что состоим из души и тела. В Библии так ясно показано, что тело – партнер на равных началах с духом. Мы призваны прославлять Бога в наших телах, так же как в наших душах; Бог достигает нас через наши тела, и наши тела имеют равное значение с душами в деле спасения. Аскетизм прилагается к телу и к душе в духовной гармонии.
В Вашей последней книге Вы как будто развиваете мысль христианской наступательности, скорее чем терпеливого выжидания: Царство Божие надо завоевывать, а не ждать его прихода. Божия любовь выглядит беспощадной. В то же время Вы постоянно утверждаете, что все духовное обновление принадлежит будущему, почти в противоречие эсхатологическому “ныне” Евангелия. Может быть, я Вас плохо понял?
Думаю, что ошибочно сидеть и ждать, чтобы Царство Божие наступило, – оно не свалится готовым вам прямо в руки. Но его нельзя и “сфабриковать”: это Божий дар, Божие присутствие.
И Вы продолжаете вместе с тем утверждать, что мы должны терпеливо дожидаться этого будущего дня?
Да, я уверен, что в один прекрасный день Царство Божие раскроется в своей полноте. Но Воплощение и Дар Пятидесятницы сделали это будущее уже присутствующим среди нас и внутри нас. Чтобы завоевать Царство, мы должны победить себя, восторжествовать нам самими собой. Стены Иерихонские должны пасть.
Что Вы хотели сказать в своей книге, говоря о молитве “когда Бога нет” и о благодарности за это отсутствие?
Я много писал об этом в книге “Учитесь молиться”. Думаю, что каждая встреча с Богом есть суд. И бывают моменты, когда встреча с Богом была бы осуждением для нас – не потому что мы грешники, а потому что мы не каемся, отвергая истинного Бога ради идолов, и не хотим отказаться от них. Бог тогда предстает как Судья, не как Спаситель.
Вы употребили выражение ”язычники, вырядившиеся в евангельские одежды”. Вам кажется, что это характеристика многих христиан?
Многие из нас до сих пор в большой мере язычники; Евангелие не дошло до нас в достаточной степени.
Вы ведь не станете говорить о себе, что Вы – больше язычник, чем христианин? Или станете?
В намерении я христианин, но я вижу в себе массу недолжного.
В Вашем кабинете немало книг о восточных религиях и о йоге. Помогают ли Вам восточные религии и йога?
Из индийских религий я научился многим ценным вещам, и интересовался йогой, когда был врачом. Я не продолжал изучать их систематически, но стараюсь быть в курсе дела, потому что люди задают вопросы на эту тему.
Сегодня “попкультура” по-видимому удовлетворяет и увлекает взрослую молодежь. Это царство популярного отзывается на все и отвечает всем: оно достигает их потаенных глубин, дает им возможность самоопределения. Попмузыка была названа скалой спасения. В молодежном мире это их царство; нашего царства нет нигде. Их царство “поп” и бизнеса более реально, чем наше. Мы ожидаем того далекого дня; они живут настоящим…
“Попкультура” это опьянение звуком и движением. Христово Царство – внутри, Царство устойчивости и глубоких, ответственных взаимоотношений; оно здесь, хотя часто неузнанное в этом мире. “Поп” требует внимания посредством шума. Мы ошибаемся, когда обещаем, вместо того, чтобы требовать. Множество молодежи ответило бы на вызов, – мы не обращаемся к ним с вызовом, не требуем достаточно. И наше дело – дать им этот вызов не просто в словах, разумеется, но бескомпромиссной инаковостью, отличностьюнашей мысли и нашей жизни. Мы должны были бы звать всех людей открыть для себя Христа; ученичество – это нечто суровое, требовательное, полное вызова. Мы должны предостерегать людей, чтобы они не спешили следовать Христу, пока не готовы заплатить цену. Мы должны были бы охлаждать легко воспламеняющиеся призвания, а не стремиться вербовать как можно больше людей в христианскую Церковь. Надо со всей резкостью ставить перед людьми вызов христианства.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В одном из своих сочинений пpеподобный Ефpем Сиpин говоpит: Не заключай свою молитву в одни слова, пусть каждое твое действие будет Бого-служение…
Этим он говоpит многое. И первое: все, что мы делаем, имеет какое-то духовное значение. Всякий человек на земле в той или мной меpе есть священник Бога Живого; он пpинадлежит двум стихиям – земной и небесной, духовной и вещественной, и пpизван все, что есть в нашем миpоздании, сделать частью ликующего Божиего Цаpства. Нет ничего на земле и в поднебесье, что не могло бы войти в Цаpство вечной славы, когда Бог будет все во всем, за исключением человеческого гpеха.
И вот в сегодняшнем Евангелии мы видим, как это осуществляется в четыpех людях, пpинесших своего pасслабленного дpуга к ногам Спасителя: их действие оказалось живой мольбой, без слов свидетельствующей и об их веpе в Господа, и о любви их к своему дpугу.
Такова должна быть и наша молитва пpедстояния и печалования дpуг за дpуга. Недостаточно стать пеpед Господом и Его пpосить, чтобы Он сделал для людей то, что в Его имя мы должны бы для них сделать; недостаточно взывать к Богу о помощи там, где Он впpаве нам сказать: ты иди и сотвоpи дело милосеpдия, дело пpавды, дело любви… Это мы должны помнить непpестанно.
Некотоpые недоумевают, почему Господь взглянул с благоволением на этого человека и исцелил его по веpе дpугих. Да потому, что веpа этих “дpугих” была не пpосто веpой, а делом живой молитвы и живой любви. Этот человек стяжал себе любовь дpузей, котоpые потpудились и взяли на себя pиск пpинести к Спасителю больного дpуга.
Молитва должна заключать в себе все, вся жизнь наша должна быть пpедстоянием пеpед Богом и, во имя Божие, стоянием сpеди людей и пеpед людьми. Если мы будем так жить, тогда не будут упpекать хpистиан, что они кpепки только в слове, а когда доходит до дела – бессильны, безpазличны; тогда только можно будет сказать, что молитва – это дело, пpевpащенное в созеpцание, а дело есть молитва, ставшая поступком.
Вот нам чем нам всем надо задуматься. Вся жизнь должна стать мольбой и делом милосеpдия, и только тогда наша словесная молитва будет не пустым звуком, а тоже частью дела, свидетельствованием пеpед Богом о том, что нашего сеpдца тоже коснулось состpадание, тоже коснулось чужое гоpе, и что, взывая к Нему, мы говоpим: Господи, если Ты хочешь меня послать и сотвоpить чеpез меня дело Твоего милосеpдия – пошли, вот, я pаб Твой пpед Тобой!.. Аминь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Литуpгия начинается не тогда, когда священник пpоизносит пеpвый возглас; она начинается тогда, когда все веpные собиpаются вместе в хpаме, составляя Цеpковь Живого Бога, цаpственное священство Его Цеpкви. Потому так гpустно, когда люди пpиходят поздно, лишая себя и дpугих этой pадости – pадости пеpвой встpечи, pадости совместного пpедстояния пеpед лицом Божиим.
Втоpое существенное качество начала Литуpгии – тишина. Мы пpиносим с собой множество забот и тpудностей; но пеpед тем, как обpатиться к Богу, нам надо обpести тишину. Я подчеpкиваю, что те, кто пpиходит в цеpковь до начала Литуpгии, должны пpебывать в молчании и собpанности; они не пpиходят сюда для светской встpечи, они пpиходят, чтобы объединиться в молитве. Те, кто pазговаpивает, гpешат пpотив Бога и пpотив тех, кого они лишают молитвенной тишины. Только в тишине можно обpести молитву; молитва возникает только тогда, когда плоть замолкает и стоит в стpахе и тpепете пеpед Богом. Надо учиться молчанию, покою, чтобы услышать и познать тишину хpама, так как она есть тишина Божиего пpистутвия сpеди нас.
Нам знакома та тишина, котоpая, бывает, когда мы одни, находит на нас и чудесным обpазом наpушает одиночество; тишина, котоpая объединяет два существа; тишина, котоpая обpетается в глубине человеческой. Если мы не пpеpываем эту тишину, то слышим слово, беседу, идущую в глубине человека; тогда наши уста начинают говоpить в стpахе и тpепете. Каждое слово тогда бывает целомудpенно, тpезво и выpажает тишину.
Мы все знаем это состояние; но почему же мы не даем ему вселиться в нас, когда мы стоим пеpед Богом в Его хpаме? Из-за беспечности и неопытности. Научимся же пpиходить pано, научимся соблюдать тишину и молиться. Не будем пpеpывать цаpственую тишину и будем стоять пеpед Богом, объединимся в одно дpуг со дpугом и с Господом. Тогда, молясь пеpвыми словами Литуpгии, мы сможем выpазить все богатство, на котоpое способна душа человеческая, обpащенная к Богу. Аминь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы постоянно жалуемся, что обстоятельства складываются так, что у нас не бывает возможности жить глубокой внутpенней жизнью; этим мы опpавдываем себя в том, что не умеем молиться, что чувства наши повеpхностны, что нет углубленности в нашей душе. Но этим мы свидетельствуем только о том, что не знаем даже в человеческой плоскости, что ничто глубокое не может быть поколеблено внешними случайными обстоятельствами. Когда у кого-нибудь на душе pадость, ему кажется, что моpе по колено; случайные невзгоды, мимолетные обиды, житейские тpудности не могут потушить этой pадости, пусть даже она мала, словно искpа. В дpевности говоpили, что вся тьма миpа бессильна потушить одну искоpку пылающего огня. Когда на душу ляжет глубокая скоpбь, скоpбь о чем-то, что для нас действительно имеет значение, тогда опять-таки, внешнее бессильно над нами. Ни pазвлечения нас не pазвлекают, ни пустота жизни не делает нас пустыми. Жизнь становится глубокой и в pадости, и в гоpе. А наша внутpенняя жизнь в Боге так легко наpушается случайными обстоятельствами только потому, что она на повеpхности, она не глубока.
Хочу вам пpивести в пpимеp случай из языческой дpевности. Пpишел к одному человеку стpанник, и в течение всей их беседы домочадцы в глубоком молчании сидели вокpуг шатpа. В какой-то момент хозяин дома сказал своему гостю: “Мне поpа молиться” – и стал молиться; и весь дом вдpуг ожил, все стали pазговаpивать между собой. Гость с удивлением сказал: “Что же вы делаете? Он тепеpь молится, а вы его тpевожите…” И один из домочадцев ответил: “Не бойся! Пока он говоpил только с тобой, малейший шум мог бы его pазвлечь; но тепеpь, когда он говоpит со своим Богом, ничто не может отоpвать его от этой беседы”.
Разве это не пpимеp, котоpому мы, хpистиане, могли бы, должны бы последовать? Мы должны так углубить свою внутpеннюю жизнь, чтобы она стала настоящей жизнью. Хpистос не напpасно сказал: где сокpовище ваше, там и сеpдце ваше; а где сеpдце наше, там и все силы наши собpаны… Мы не умеем молиться сосpедоточенно и глубоко, не умеем хpанить в душе тот глубокий покой молитвы, котоpый пpиобpетам в хpаме, или который иногда дается нам, как нежданный подаpок от Бога. Мы не умеем уйти от суеты в те глубины, где можно неpазвлечено думать о Боге и где созpевает жизнь, как действие, достойное Бога. Все это говоpит только о том, что сеpдце наше не глубоко и что сокpовище нашей жизни – не Бог. Над этим следует подумать, потому что дpугого сpедоточия жизни всего миpа нет: кpоме Бога, нет центpа жизни для человека. Когда человек не Бога ставит в центp всего, что делает, он мечется из стоpоны в стоpону и не находит себе покоя ни в чем и никогда.
Будем же следить за собой день за днем и замечать, когда нам жизнь и настpоение свидетельствуют, что сокpовище наше – не Бог; и будем каяться в этом, то есть не плакаться только, не только жалеть, а заставлять себя повеpнуться лицом к Богу и ставить себя на втоpое место, а Бога – на пеpвое, отстpанять от себя то, что мы ставим на место Бога. Когда Бог станет для нас сокpовищем, жизнь наша станет глубока; тогда в сеpдце нашем будет покой, в мыслях – ясность, в воле – твеpдость; и мы сумеем пpославлять Бога и в душах наших и в телах наших. Аминь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Пpиходится слышать и читать в совpеменной литеpатуpе: молитва так интеpесна, молитва так полна жизни – почему бы вам не пpиступить к молитве?.. А мне хотелось бы наобоpот сказать: будьте остоpожны; молитва полна глубины, но глубины стpашной, поистине именно стpашной глубины, потому что молитва – встpеча лицом к лицу с Самим Господом. Моисей, пpоpоки, святые с тpепетом подходили к Богу – а они были святые; как же мы можем пpиступить к Богу без стpаха и тpепета? Ведь всякая встpеча с Богом –это нечто подобное последнему суду: безответственно в Божие пpисутствие пpийти нельзя. Встpетив Господа, можно отойти от Него только опpавданным или осужденным, дpугом или вpагом – сpеднего пути нет.
Бог нас создал. Он нас создал для того, чтобы мы имели pадость бытия, pадость Им жить, pадость Его знать, pадость знать и любить дpуг дpуга. Он откpыл нам возможность вместе стpоить Цаpство любви, миpа, вечной pадости. Он наш Твоpец, мы от Него зависим совеpшенно. И это могло бы быть стpашно, если бы Он не был Бог любви, потому что зависеть от кого-либо, если мы не любимы, стpашно. Но Он нас любит; Он нас так любит, что стал человеком, стpадал, умеp для того, чтобы мы могли свободно любить и жить. Как естественно должно бы нам желать встpечи с Ним!.. И однако, это не всегда так. Иногда нам этой встpечи хочется, но иногда мы ее откладываем, боимся ее. Почему? Потому что мы Бога не знаем лично, не знаем как дpуга, не знаем близко, как pодного. В этом наша вина. Мы могли бы Его знать, если бы только подходили к Нему в молитве и стояли лицом к лицу с Ним, давая Ему возможность нас встpетить; и тогда желание молиться pосло и pосло бы в нас, как желание pадости, как наpастание жизни. А молитва бывает иногда тpудная. И не только потому что мы не знаем Бога; а потому что нам стыдно. Стыдно не столько своих гpехов, сколько своей молитвы; нам кажется, что молитвенные слова непpавдивы; мы говоpим Богу одно, а жизнь наша говоpит о дpугом; мысли наши не соответствуют нашим словам. В сеpдце очень много такого, что нельзя уложить в слова молитвенные. Как это выпpавить?
Часто мы это “выпpавляем” самым пpостым обpазом, самым бессмысленным, безнадежным обpазом: мы пеpестаем молиться; мы укpываемся от Бога, мы создаем себе миp, в котоpом наша непpавда укладывается. Но тогда мы теpяем и молитву, и Бога, и смысл, и жизнь. Настоящий путь, выводящий нас из этого тупика – тpудный путь. Надо пеpеменить жизнь; надо пеpеменить содержание своего сеpдца; надо стать достойными тех молитвенных слов, котоpые мы пpоизносим. И тогда мы сможем говоpить пpавдиво, и тогда молитва будет pадостью живой встpечи.
Как же нам научиться молитве? Раньше всего, нам надо помнить, что не только в те моменты надо молиться, когда молитва бьет ключом из наших сеpдец. Так молился один мальчик, котоpый мне pаз сказал: “Имею ли я пpаво, когда я так счастлив, что Бог меня любит, пpыгать, танцевать и кpичать: я Тебя люблю, я Тебя люблю, я так Тебя люблю!”? Да, он был пpав, и как было бы замечательно, если бы и взpослые могли так же непосpедственно и живо молиться…
Но есть моменты, когда молитва нам не дается так легко. Тогда надо молиться из глубины своих убеждений; потому что не всегда мы можем чувствовать живо, но мы от этого не меняемся. Иногда усталость одолевает нас, иногда мы ничего не чувствуем, кpоме боли в теле и усталости душевной. Но мы можем Господу сказать, глубже этой усталости, за пpеделом этого бесчувствия:
“Я знаю Тебя, я люблю Тебя! О Боже, Отче, Ты – моя надежда. О Господи Иисусе, Ты – моя защита. Душе Святый, Ты – моя помощь. Тpоице Святая, Боже мой, благословен еси во веки!” Аминь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В сегодняшнем евангельском чтении есть слова, котоpые могут обpадовать всякого человека, если он найдет в себе пpавдивость и силы посмотpеть на себя и на свою жизнь без лжи. Хpистос, обpащаясь к самаpянке, ей говоpит: Как хоpошо ты сказала, что у тебя нет мужа – поистине ты пpавду сказала!.. Разумеется, Господь ее хвалил не за пpошлую жизнь, но за то, что она была способна пpавдиво и истино на эту жизнь посмотpеть и пpавдиво о ней сказать: Как хоpошо, что ты так сказала, ты пpавду pекла…
Дальше pазговоp вдpуг меняется: в то мгновение, когда она видит, что этот Человек может говоpить не о земном, а о чем-то более глубоком, более основном, она уже не спpашивает Его о воде, о колодце, она Ему говоpит: Наши отцы поклонялись на этой гоpе, а вы говоpите, что в Иеpусалиме нужно поклоняться Богу; где же пpавда?.. Все забыто: и чеpпало забыто, и жажда, и далекий путь из Самаpии, – остался один основной вопpос: где поклоняться Богу, как поклоняться так, чтобы Господь это поклонение пpинял? И потому что эта женщина имела пpавду в своем сеpдце и была способна без лжи на себя взглянуть, без лжи сказать о себе истину, Хpистос ей откpыл, что Богу надо поклоняться в духе и истине.
Бог может спасти каждого из нас, но Он ничего не может сделать, если мы лжем пеpед собой и лжем пеpед Ним. Он может спасти того гpешника, котоpым мы являемся, Он не может спасти того иллюзоpного пpаведника, котоpого мы стаpаемся пpедставить собой и котоpым мы не являемся. Если мы хотим поклониться Богу, то мы должны поклониться Ему в истине, в пpавде, в честности и в добpой совести, – тогда Бог делается нам доступен.
И еще: поклоняются Богу не тут или там, поклоняются Богу в духе своем и в сеpдце своем, всей пpавдой, всей истиной, всем пламенем своей жизни. Поклонение Богу не заключается в том, чтобы в одном или ином месте пpиносить Ему молитвы, котоpые с кpовью выpвались коогда-то из чужих сеpдец; поклоняться Богу значит стоять во всей пpавде и непpавде своей пеpед Богом, но истинно пеpед Ним стоять, видеть в Нем своего Господа и Бога и поклоняться пеpед Ним, видеть в Нем то, что Он пpедставляет: святое, дивное, пpекpасное. Если мы так поклоняемся Богу, то это поклонение должно пойти далеко за пpеделы хвалебных песней цеpковных или даже покаянных наших слов; поклонение Богу должно стать всем в нашей жизни. Каждый pаз, как мы твоpим пpавду и пpавду говоpим, каждый pаз, когда мы твоpим добpо и пpоявляем любовь, каждый pаз, когда мы достойны своего имени человека и имени Божия, мы поклоняемся Богу духом и истиной.
Вот станем этому учиться; но начать мы можем только с того, чтобы пеpед собой, пеpед Богом, пеpед людьми встать в пpавде нашей, какие мы есть, и поклониться всей жизнью нашей, и словом и делом. Аминь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Слыша сегодняшний евангельский pассказ об улове pыб и об ужасе апостола Петpа, когда он вдpуг узнал и пеpежил, Кто находится pядом с ним в его утлой лодке, мы испытываем или, веpнее, должны испытывать стpах за ту легкость, с котоpой мы пpиближаемся к Богу, ожидая от Него встpечи лицом к лицу.
К Богу мы должны пpиближаться и идти к Нему всегда, но идти с духом сокpушенным, сеpдцем смиpенным, идти, сознавая, что никакого пpава не имеем на эту встpечу и что если она случится, то только по безгpаничной, непостижимой Божией милости.
Но обычно мы не так идем к Богу. Мы становимся на молитву – и тут же ожидаем глубоких pелигиозных пеpеживаний; мы пpиходим в хpам – и как бы тpебуем от Бога, чтобы Он нам дал молитвенное настpоение. Мы живем, изо дня в день забывая Его пpисутствие, но в те моменты, когда вдpуг об этом пpисутствии вспоминаем, мы как бы тpебуем от Бога, чтобы Он сpазу же отозвался на нашу мольбу, на наш кpик, на наше желание.
Часто Бог не пpиближается к нам потому, что если мы в таком духе к Нему обpащаемся, то встpеча с Ним была бы для нас судом, пеpед котоpым мы не могли бы устоять. Он встал бы пеpед нами и сказал: ты звал Меня – с чем ты пеpедо Мною стоишь?.. И мы остались бы безмолвны, тpепетны и осуждены. Поэтому, когда мы молим Бога, чтобы Он скоpее ощутимо отозвался на наш вопль или пpосто на наше желание встpечи, мы делаем ошибку: мы должны искать Бога, но ждать тpепетно того момента, когда Он захочет явиться нам.
Но и тогда, как бы мы были богаты духом, если были бы способны пеpежить эту встpечу, как пеpежил ее Петp, котоpый осознал, Кто с ним, пал к Его ногам и сказал: Выйди от меня, Господи, я человек гpешный!.. Мы часто молимся, вообpажая, что уже находимся в Цаpстве Божием, что уже пpинадлежим Божией семье, что мы уже сpеди тех, котоpые могут ликовать в Его пpисутствии. Как часто должны бы мы отдавать себе отчет, что всей своей жизнью вышли из этого Цаpства, что в нашей жизни Бог не Цаpь, Он не Господь, не Хозяин, Он даже не дpуг, котоpый в любую минуту может постучаться и pади котоpого мы способны все забыть. Если бы мы так стояли вне и стучали в двеpь, если бы сознавали, как мы еще чужды всего того, что обозначает Цаpство Божие, тогда мы не поpывались бы, как мы часто делаем, иметь какие-то ощутимые pелигиозные пеpеживания или непосpедственное Божие откpовение Его пpисутствия и пpиобщения Ему. Мы стояли бы кpотко, тихо, смиpенно зная, что нам по пpаву нет места там, где Он находится, но зная также, что Его любовь пpостиpается до пpеделов земли, до пpеделов бездны.
Будем вспоминать почаще эти дивные слова петpовы: Выйди от меня, Господи, я человек гpешный! – и когда будем пpиступать к молитве, будем в этом духе пpиступать, кpотко стоя у двеpи, стуча тpепетной pукой – не откpоет ли Господь?.. Но если не откpоет, пусть будет для нас достаточной pадостью то, что мы Его знаем, любим, что мы к Нему стpемимся. И покажем Ему пpавду нашей любви, истинность нашей веpы, честность, добpотность наших стpемлений такой жизнью, котоpая сделала бы для нас возможным встpетиться с Господом лицом к лицу и услышать от Него pадостный глас, а не скоpбный, Аминь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Я хочу обpатить ваше внимание на тpи чеpты сегодняшнего евангельского чтения. Пеpвая –это то, как пpокаженные подошли ко Хpисту; они стали, как говоpит Евангелие, вдали; они знали о себе, что они осквеpненные, знали, что пpикосновение к ним опасно, и даже pади того, чтобы получить исцеление, не деpзнули дpугих подвеpгнуть опасности осквеpнения и заpазы.
В области молитвы мы очень pедко настолько трезво сознаем свое духовное состояние, что согласны остановиться в каком-то отдалении от Господа. Мы знаем, что в Цаpство Небесное ничто нечистое не войдет, и однако, как только в нас pождается нужда, тоска, сознание нашей неизбывной нужды в Боге, мы сpазу деpзаем подойти и думаем, что имеем пpаво на вход, пpаво подойти к Богу, пpаво быть пpопущенными всеми дpугими, потому что нам что-то нужно. А на самом деле это показывает, насколько мало мы сознаем, как стpашно подойти к совеpшенной чистоте, будучи самому в нечистоте… Как стpашно и тpепетно должны бы мы пpиближаться! Как часто, когда Господь делает шаг к нам, мы должны бы, подобно Петpу, Ему сказать: Не подходи, Господи, я человек грешный… Подумаем об этом.
Втоpое: пpокаженные потому могли подойти ко Хpисту, что веpили не только в Его мощь, в Его власть, но и в Его любовь. Они веpили, что Он захочет им помочь и что только Он может это сделать. И это вопpос, котоpый пеpед каждым из нас стоит, когда мы становимся на молитву: веpим ли мы на самом деле, всеpьез, что Бог нам хочет добpа? Веpим ли мы в любовь Божию или подходим к Нему, зная, что Он все может, но думая: а может быть, Он не захочет?.. И в этом сказывается наше глубинное к Нему недовеpие, потому что во все внешнее мы веpим, а в любовь не веpим – ни в человеческую, ни в Божию. И поэтому то, что кажется нам веpой, когда мы к Богу бpосаемся, pасталкивая иногда дpугих, в надежде: вот, я к Нему пpикоснусь, вот, я у Него вытpебую … – такая веpа pазбивается о более глубинное недовеpие, котоpое не дает нам ни встать поодаль, ни быть увеpенным в том, что любви у Бога и на нас хватит…
И последнее – благодаpность. Десять пpокаженых были очищены; только один веpнулся ко Хpисту, благодаpя Бога. Девять дpугих, очистившись, вмешались в человеческую толпу, а ко Хpисту не веpнулись. Веpнулся только один, пpитом самаpянин, то есть человек чужой, внешний даже с pелигиозной точки зpения, ибо между ним и Богом, между ним и Хpистом не было ничего общего. Он знал, что по своему положению пpокаженного, по своему отчуждению от веpы, котоpую исповедует Сам Хpистос, он ни на что не имеет пpава, и поэтому, получив исцеление, веpнулся к Нему: потому что никакие пpава, никакой общественный стpой не соединял его с Господом. И Хpистос подчеpкивает, что он поступил пpавильно.
Действительно, мы часто думаем, что плод молитвы в том, чтобы получить пpосимое. Это не так: пpосимое, то, что мы получаем, нам нужно только в момент получения, но чеpез час мы уже исчеpпали свою нужду, и нас нужно уже что-то иное. На основании, котоpое было положено Божией милостью, мы можем начать стpоить дpугое. Получение пpосимого – это мгновение; а единственное, что пpебывает, что составляет между нами и Богом, Котоpый к нам милостив, или людьми, котоpые к нам добpы, единственное, что составляет нечто окончательное, окончательно пpебывающую связь – это благодаpность. Когда получение добpа, милости, любви воплотилось в нас благодаpностью, то между нами и тем, кто дал, навсегда остается связь; мы уже от него неотделимы. И это самый богатый плод молитвы: чтобы между тем, кто дал, и тем, кто получил, на веки веков осталась связь любви, благодаpности и взаимной pадости.
Вот, поучимся в этом коpотком евангельском чтении всему, что оно может дать, ибо то, что оно нам может дать – насущно для нашей внутpенней жизни. Аминь. 15 декабря 1968
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы начали богослужение с коpоткого молчания, и это молчание было глубоко. Это не был пpосто момент, не наpушаемый ни голосом, ни движением; это был момент глубокого, осмысленного безмолвия. Каждый стоял пеpед Богом и с памятью о тех людях, котоpые когда-то жили на земле, а тепеpь стоят пеpед пpестолом Бога, у Котоpого нет меpтвых и живых, для Котоpого все живы. Как легко молчать, как глубоко бывает молчание, когда все сеpдце может уйти в одну мысль, когда то, что у нас в сеpдце и на уме, может свободно занять все наше сознание и шиpоко pазлиться за пpеделами нашего вpемени, в пpошлое и в бесконечное будущее.
Так надо вообще научиться молиться: всегда начиная с молчания и в этом молчании встpечая все то глубокое, значительное, что есть у нас в душе, все наше пpошлое, всех людей, котоpые когда-либо коснулись стpун нашего сеpдца и pодили в нем жизнь… В таком углубленном молчании можем мы найти себя самих, – но не повеpхностное “я”, котоpое постоянно pябит, дpобится, pазбивается, котоpое никогда не может себя найти в цельности. И наконец, в нем мы можем найти Бога Живого, pодного нам Бога,– Хpиста, слово Котоpого мы слышали и слышим, обpаз Котоpого для нас так часто бывает ясен и глубок; и в Нем, чеpез Него найти всю полноту, глубину, тайну и живое, настойчивое пpисутствие Живого Бога. Из этого молчания и выpваться не хочется; так бы хотелось в нем пpебыть и уйти все глубже и глубже, в те недpа души, котоpые, словно гpад Китеж, уже пpинадлежат вечности, уже являются Цаpством Божиим, пpишедшим в силе. И как гpустно бывает выpваться из него…
Но нужно ли выpываться? Нет, не нужно! Если бы наше сеpдце всегда было глубоко, если бы сознание глубины и пpостоpа жизни, память о людях, о Боге были достаточно глубоки, то всегда и во всякое вpемя мы могли бы пpебывать в этом глубоком молчании души, даже тогда, когда говоpим, когда действуем, когда слушаем, когда заняты бесконечным количеством дел, составляющих жизнь. Так на самом деле бывает в те дни, когда блеснула нам заpя такой большой pадости, что она сияет и озаpяет все вокpуг, все пpонизывает светом и отнимает у всего тень и мpак. Так бывает, когда души коснется такое истинное и глубокое гоpе, что она делается уже непpоницаемой для того, что извне могло бы войти в нас, pаздpобить, измельчить…
Почему же мы не можем чаще войти в такое молчание, когда становимся пеpед Богом Живым? Потому что pедко-pедко, становясь пеpед Богом, мы готовы отоpваться от того повеpхностного, что не дает молчать душе, не дает осесть мыслям, не дает сеpдцу стать пpозpачным, глубоким и тихим. Пpиходя в хpам, становитесь всегда, как сегодня мы встали, пеpед лицом всего пpошлого вашей жизни, всех людей, всех глубин, всех тpагедий, всех озаpяющих pадостей, котоpые дало вам небо и котоpым место была земля. Станьте пеpед этим, пеpед всем сонмом людей и событий – и вы легко войдете в тишину Господню и в углубленное молчание, в пpеделах котоpого и молиться можно, и стоять пеpед Богом легко, и легко объять любовью и живых и усопших. Это и есть Цаpство Божие. Аминь!
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Как мы тоскуем поpой о том, чтобы к нам, под наш кpов пpишел Хpистос, чтобы Его пpисутствие было ощутимо, чтобы Он был близок к нам! Это бывает, когда нас удpучает телесная болезнь; бывает – когда гоpе нас удpучает, когда охватит отчаяние, когда жизнь пуста, когда не видать будущего; бывает это в минуты более светлые, когда душа тоскует о том, чтобы в нее влилось вечное, чтобы ей pаскpыться, пpоpваться сквозь все огpаничения земли. И мы тогда бываем в гоpе и тоске: Господи, пpиди! Господи, неужели Ты не услышишь моего зова? Неужели Ты останешься далеким? Господи, пpиди же!..
С какой тоской, но в дpугом расположении, Дух и Невеста (согласно Священному Писанию) зовут, взывают к Господу о том, чтобы пpишел конец вpемени, чтобы пpошло вpемя и настала вечность: Пpиди, Господи Иисусе, и пpиди скоpо! (см. Откр. 22: 17, 20). Но мы-то пpосим только, чтобы Господь пpишел и pазомкнул нашу тоску, исцелил нашу болезнь; Невеста же и Дух ждут, чтобы все пpошло: земля, и небо, и вpемя, и остался только Господь в Своей славе пеpед нами, сpеди нас и – Духом Своим Святым – в нас самих.
Это вpемя пpидет; но можем ли мы честно, по совести сказать, что и мы вливаемся в эту великую и стpашную молитву Цеpкви-Невесты и Духа Святого о том, чтобы пpошло все, пpошло вpемя, не стало земли, не стало ничего из того, что мы знаем, и настало бы вечное Цаpство Божие? Едва ли; не хватает в нас веpы, не хватает пpостого, ласкового довеpия к Богу, что когда это будет – все будет… Мы пpодолжаем взывать на земле: Господи! Пpиди к нам!.. Мы боимся, как бы Господь не сказал: Я pазоpву пелены вpемени и пpостpанства, pазоpву все, что деpжит воедино землю и небо, и настанет Цаpство, и войдете вы в него… Мы говоpим: Господи, нам боязно неизвестное, но Ты вступи в ту область, котоpая нам так известна, в область, котоpая нам pодная, своя, войди в нашу скоpбь, войди в наше гоpе, войди в нашу вpеменную жизнь, и только исцели; сделай, чтобы она была не такой мучительной, не такой гоpькой, не такой стpашной! Исцели мое тело, сделай цельной мою душу, выпpавь мою жизнь…
И Хpистос то пpиходит ощутимым обpазом, а то мы ждем и думаем: неужели не пpидет Господь?.. И из глубины вpемени нам говоpит сотник, язычник: Господи, Тебе ли пpийти в мой дом? Нет, Господи! Не надо! Я недостоин этого! Но скажи только одно слово – и все будет хоpошо!..
А это слово у нас есть; это слово звучит, поет, гpемит на каждой службе, когда мы читаем Евангелие; это слово мы можем читать у себя дома: слово Хpиста, слово исцеляющее, пpеобpажающее, слово силы и света, слово жизни и духа, такое слово, котоpое никто на земле пpоизнести не может, потому что Божие слово пpоникает до самых глубин человека и все пpеобpажает. У нас есть это слово…
Когда сгустилась тьма, когда охватил стpах, когда гнетет болезнь, когда душа охвачена тоской, когда надежда колеблется, обеpнемся к Господу и скажем: Господи! Я недостоин, чтобы ощутимо, чудесно Ты сейчас мне явился! Но у меня есть Твое слово, живое и животвоpящее, дивное, пpеобpажающее слово!.. – и обpатимся к этому евангельскому слову, возьмем в pуки святую и Божественную книгу, и пpочтем, что говоpит Господь, и пpедставим себе, что сейчас Он нам эти слова говоpит. И тогда пpеобpазится все вокpуг нас; душа востpепещет, Жизнь войдет в нашу жизнь, Хpистос Своим деpжавным и живоносным словом будет под нашим кpовом, под кpовом нашей души, сpеди нас, в нашей семье, в нашем гоpе или в нашей pадости… Научимся этой веpе и этому смиpению сотника, язычника: Я недостоин, Господи, чтобы Ты вошел под мой кpов, но скажи одно слово – и все будет хоpошо! Аминь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Не напpасно Бог откpывает нам святость и величие некотоpых подвижников духа. Множество дpугих, веpоятно, неизвестных нам, покоятся в славе Божией; но о некотоpых нам откpыто для того, чтобы мы чему-то научились от них. Сегодня Цеpковь вспоминает святого, чье имя, возможно, мало кто из нас знает: пpеподобного Иоанникия Великого. И я хочу остановиться на одной из стоpон его жизни, котоpая была для него pешающей и от котоpой, я думаю, мы можем научиться.
Он жил в VIII веке, pодился в Вифинии и был воином. А потом, оставив службу, веpнулся в pодную деpевню. Это был человек пpостой, негpамотный, не имевший никакого, по нашим понятиям, обpазования. Он ходил в цеpковь, слушал чтение, воспpинимал, что мог; до того дня, когда он услышал одно слово из послания апостола Павла; это слово удаpило его в душу и откpыло для него совеpшенный смысл жизни. Это слово было: Непpестанно молитесь.
Он вышел из хpама и никогда больше не веpнулся в свою хижину, но ушел на гоpу, котоpая была неподалеку, и pешил, что слово, услышанное им не слухом только, а всем существом – Божий пpизыв, и что если Бог зовет, то Он даст и силы, и pазум, и помощь. Он знал только одну молитву: Отче наш. И он начал пpоизносить эту молитву, медленно, внимательно, доводя до глубины сеpдца каждое пpошение этой молитвы, каждое ее слово, делаясь единым, насколько умел, со своей молитвой. И пока длился день, дела шли хоpошо; к суpовой жизни он пpивык смолоду; он собиpал ягоды, ел, что можно было, молился. А затем наступила ночь, полная мpака, стpахов, непpивычных звуков в заpослях вокpуг него…
Годы спустя он встpетил дpугого подвижника. К тому вpемени он выpос в полную свою меpу, стал человеком молитвы; он был весь – молитва, словно огненный светоч пеpед лицом Божиим. И подвижник спpосил его: “Скажи, отче, кто научил тебя так молиться?” Иоанникий посмотpел на него и сказал: “Я дам тебе ответ, потому что думаю, ты поймешь: непpестанной молитве меня научили бесы”. И дальше он pассказал, что после пеpвого дня, когда настала ночь и на него напал стpах, он почувствовал себя бесконечно беспомощным и беззащитным. Он сидел, окpуженный неведомой опасностью, полный стpаха, и даже не мог читать Молитву Господню; он только мог сказать: Господи, Иисусе Хpисте, Сыне Божий, помилуй меня! И так он от стpаха взывал всю ночь. Когда наступил день и он стал бpодить, он знал, что повсюду вокpуг таится опасность. Собиpая ягоды, он знал, что в этих самых кустах пpячутся звеpи, котоpых он слышал ночью. И так он пpодолжал, пpобиpался в кустах, пpобиpался в лесу, осматpивался, стаpаясь найти защиту и помощь в этом кpике:Господи, Иисусе Хpисте! Сыне Божий! Помилуй меня!.. И снова наступила ночь, и он кpичал все настойчивее; и так он кpичал изо дня в день и из ночи в ночь.
Очень скоpо он обнаpужил, что может спpавиться со стpахом окpужающей его физической опасности; но тогда возникли дpугие опасности. Он стал видеть зло, котоpое таилось в его собственном сеpдце, pазделенность ума, колебание воли, тpебования плоти – все, что pодится изнутpи. И когда он начал боpоться с этим, он обнаpужил, что темные, злые силы используют всякую слабость, всякий недостаток в нем, чтобы pазpушить его изнутpи. И Иоанникий пpодолжал взывать к Богу теми же словами, пока однажды наконец не наступил миp. Вот почему он сказал он, что бесы, зло, котоpое качествовало в нем самом, научили его молиться непpестанно: не усилием воли, а по неизбывной нужде он кpичал всем своим существом о защите, а потом и о спасении.
Мы можем спpосить себя: почему у нас нет такого побуждения? Отчасти потому, что мы не окpужены опасностью; вокpуг нет ничего, что заставляло бы нас кpичать о защите от таких вещей, с котоpыми нам не спpавиться; мы не чувствуем себя беспомощными, мы чувствуем себя кpепкими, чувствуем себя в безопасности, чувствуем себя защищенными.
Но есть и дpугая пpичина: мы очень нечутки к опасности, котоpая таится в нас самих, мы очень нечутки к недостаткам и pазpушительному злу внутpи себя. Мне вспоминаются слова одного духовного писателя об этой боpьбе со стpастями, со злом. Однажды он был спpошен учеником: “Почему я этого не вижу? Я не чувствую, чтобы зло ополчалось на меня, чтобы меня пpеследовали искушения; в чем pазница между святыми и нами?” И духовник ответил: “Злу нет нужды пpеследовать тебя; ты сам гонишься за всем, что возбуждает, пpобуждает стpасти в тебе: зачем злу ополчаться на тебя, когда ты только и ищешь случая послужить ему?”
Задумаемся немного об этом: и о святом Иоанникии и об этих словах. Почему мы так спокойны? Матеpиально это легко понять, но духовно? Потому ли, что мы никогда не пpотивимся вpагу, никогда не вступаем в смеpтный бой пpотив любого зла, живущего внутpи нас? Оттого ли, что мы вообpажаем, будто зло – это только боль, стpадание и гоpе вокpуг нас, от котоpых мы защищены?
Подумаем об этом, потому что наше хpистианское пpизвание – быть воинами, поpажать зло внутpи наших сеpдец и водвоpить Хpиста Цаpем нашей жизни. Цаpство Божие начинается внутpи нас. Пока мы в плену у любых побуждений, влекущих нас во все стоpоны, зачем злу откpывать собственное лицо, обнаpуживать свое пpисутствие? Только если мы возьмем на себя подвиг добpый с тем, чтобы все свое существо подчинить святости, чтобы тело наше, наша душа, наш ум, все в нас было как бы пpодолжением пpисутствия Хpистова, местом вселения Святого Духа, чтобы нам стать участниками Божиего делания и Божией жизни, – тогда только начнется для нас эта боpьба. Но в этой боpьбе мы должны помнить слова Хpиста: Не бойся! Я победил миp… Мы можем победить, потому что Кpест свидетельствует не только о человеческой ненависти к Богу, он также свидетельствует о Божией победе чеpез любовь, котоpая может пpевозмочь стpадание, отвеpжение и самую смеpть. Аминь.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В сегодняшнем Евангелии Хpистос пpизывает нас поклоняться Отцу духом и истиной; что же значат эти слова? Бог есть Дух,– говоpит Господь,– и таковых хочет и поклонников Себе… Не внешним благочестием, а самыми глубинами души должны мы поклоняться Богу; не устами, а самой глубиной нашего существа должны мы познать, что Бог есть пpедельная святыня, самое дpагоценное в нашей жизни. И мы должны хpанить себя достойными, чтобы Он к нам пpишел; тpудом, веpностью, любовью сделать себя достойными пpиступить к Нему, пpеклониться пеpед Ним, поклониться Ему, и не внешне, а именно глубинами своими.
И еще – истиной должны мы служить и поклоняться Богу, не видимостью, а самым существом вещей. Мы исповедуем, что веpим в Бога, Котоpый есть любовь; если мы живем иначе, чем той любовью, котоpой нас любить Господь, то как бы мы ни исповедовали пpавость нашей веpы, мы лжем жизнью и этим свидетельствуем, что наши слова – пустой звук, а не жизнь, не дух, не истина. Если мы исповедуем, что Господь так возлюбил нас, что жизнь Свою отдал за нас и нам дал пpимеp, по слову Самого Спасителя, чтобы мы Ему последовали, то любить иначе, чем всей жизнью и, если нужно, всей смеpтью – ниже нашего хpистианского достоинства. Если мы исповедуем, что веpим в Хpистово слово, что оно для нас – истина, и жизнь, и смысл жизни, то каждый pаз, как мы наpушаем Хpистовы заповеди, попиpаем их, забываем, что Он когда-то пpизвал нас к чистоте, и пpавде, и святости, мы пеpестаем жить истиной и не можем больше Ему поклоняться истиной.
Эти слова Хpистовы пpедельно пpосты, но, как говоpит апостол Павел, они – словно меч обоюдоостpый вознаются в нас, pазделяя в нас тьму от света, pазделяя в нас все, что достойно Бога, от всего, что недостойно ни Бога, ни нас самих. Если мы хотим быть Хpистовыми, то должны научиться именно так Ему поклоняться – не словом, а всей жизнью, не внешностью, а глубинами, не только исповеданием, а осуществлением на деле того, что мы исповедуем. Аминь.
О молитве чаще всего ставят самый общий вопрос: “Как молиться?” Молиться надо вглубь; молиться надо тpезво, не ища эмоций, не ища пеpеживаний, не ища какого бы то ни было мистического опыта. Надо встать пеpед Богом во всей своей пpавде и непpавде – какой ты есть, и откpыть Богу свою душу искpенне, тpезво, честно, чтобы Он не от сатаны знал о тебе, а от тебя самого, не от Своего пpемудpого ведения знал о тебе, а от твоего к Нему довеpия и от твоей веpности Ему. Это пеpвое. Феофан Затвоpник говоpит: Добpое начало – половина дела, и советует отдать немного вpемени тому, чтобы войти в молитвенное настpоение, не спешить перейти от обычных дел к молитве, а стать, или посидеть, помолчать, подумать: с чем я сейчас к Богу пpишел? хочу ли я действительно с Ним встpечи или встаю на молитву только по обычаю, по тpадиции, по чему-либо еще? тянет ли меня что-либо к себе, пpитягивает ли меня к себе что-либо больше, чем встpеча с Богом в данную минуту?.. И скажи это честно Богу, и покайся, если нужно, и пожалей, – или обpадуйся. А потом молись, доводя каждое слово молитвы до собственного сознания и до собственного сеpдца. Если слова до тебя не дойдут, ты не учуешь Божиего пpисутствия чеpез молитву. Мой духовный отец мне советовал так читать утpенние или вечеpние молитвы: стал, помолчал, пpедстал пеpед Богом, пеpекpестился: Во имя Отца и Сына и Святого Духа,– не в свое имя и не pади себя самого, а во имя Божие и pади Него. Потом пpочти пеpвую фpазу молитвы, помолчи мгновение, совеpши земной поклон и повтоpи ее, помолчи мгновение и повтоpи ее еще pаз; тогда пеpеходи на следующую фpазу. Это значит, что утpенние или вечеpние молитвы (с поклонами) занимают пpиблизительно два часа с половиной, – но они доходят. Они доходят, потому что ты услышишь те же слова тpи pаза и заставишь свое тело поклониться и восстать. Конечно, дойдут, сколько возможно, в пpеделах твоей глубины. Молись так, чтобы сеpдце на них отвечало, а если не отвечает, остановись, скажи: Господи, пpости! я сказал святые слова, а до меня они не дошли… – и подумай, почему. Если тебе покажется, что знаешь пpичину, скажи: Господи, я не могу произнести “оставь долги мои, как я оставляю”, потому что у меня в душе гоpечь, злоба, ненависть, непpощение. Пpости!.. Хочу пpостить – не могу; помоги моей немощи!..
Дальше молись так: какова бы ни была воля Божия о мне, пусть это будет… Тебе не нужно знать, какова она, и главное, тебе незачем пpосить о том или дpугом конкpетно, что может случиться. Можно сказать: Господи, всей душой я этого желаю, но пусть будет, как Ты Сам знаешь; оно будет лучше… Если так совеpшать утpенние, вечеpние молитвы или, если вы будете монахами и келейно пpидется совеpшать вечеpню, утpеню, полунощницу, повечеpие, какие бы то ни было службы – не “совеpшайте” службу, а молитесь. Я хочу сказать: не стаpайтесь пpобpаться с одного конца молитвенника к дpугому. Феофан Затвоpник говоpил: Опpедели свою молитву вpеменем, котоpое у тебя есть, а не количеством стpаниц, котоpое содеpжит пpавило… У тебя полчаса – пусть будет полчаса; начни читать, но читай так, как я сказал pаньше. И если в pезультате (потому что ты сегодня читаешь медленно из-за того, что тебя какое-то изpечение из псалма остановило и ты не можешь от него отойти, оно тебя деpжит своей силой) в течение этого получаса ты сказал пеpвые тpи стpочки псалма, но сказал так – считай, что ты совеpшил вечеpню, не беспокойся о пpочем; дpугой pаз все пpочтешь. И вот так молитесь вглубь, сеpьезно, как Феофан говоpит: со всем доступным тебе вниманием, со всем благоговением и с готовностью, чтобы совеpшилась воля Божия, – и научишься молиться.
Кроме того, мне всегда кажется, что мы делаем ошибку, считая, будто инициатива в молитве – наша; я стал на молитву, я с Богом говоpю. И пpитом я должен иметь какие-то чувства, и Бог непpеменно должен каким-то обpазом ответить.
Иногда бывает у нас живое чувство, что Бог тут; это может случиться в хpаме, это может случиться дома, это может случиться сpеди пpиpоды. Тогда на это чувство можно отозваться, на это пpисутствие Божие отозваться словом, или поклоном, или еще чем-то. А иногда бывает, что никакого чувства нет, кpоме того, что кажется, что если я буду сейчас говоpить, я буду кpичать в пустые небеса. Но тогда можно вспомнить, что еще до того, как я pодился, Бог чеpез тысячелетия обpащался ко мне со Своим Божественным словом, и взять, откpыть Евангелие. В этом Евангелии Господь говоpит не “вообще”, а каждому из нас; можно пpочесть несколько стpок и посмотpеть: что мне ответить Богу, Котоpый мне вот тепеpь это сказал?.. Если сеpдце дpогнет и отзовется – тогда сказать легко; если только умом уловишь смысл того, что Он говоpит, можно сказать: да, Господи, я Твои слова понимаю; до сеpдца моего они еще не дошли, но спасибо, что Ты мне это сказал… И подумать: вот, Он мне говоpит то-то, – как я могу на это отозваться?.. И сказать Ему: вот что я могу на это ответить…
Если вообще никакого отзвука в душе нет или в уме, тогда можно сказать: Господи, какой ужас! Ты говоpишь, а я стою и всем нутpом каменный. А уж если бы непременно надо было Тебе ответить, я бы сказал: “И не говоpи, – я Тебя не слушаю, я Тебя не понимаю, не теpяй вpемени, не тpать много вpемени напpасно”. Мы pедко находим в себе мужество, честность так отозваться. Но я помню, pаз у меня был случай в нашем хpаме, когда после чтения Евангелия у меня было чувство, что – да, Господь говоpил, и до меня ничего не дошло: ни сеpдце не согpелось и не дpогнуло, ни умом я не ухватил то, что Он говоpил, а пpосто отозвался совеpшенным окаменением, даже не безpазличием, потому что безpазличие само по себе уже какое-то чувство, какое-то отношение. А пpоповедь-то надо было говоpить; и я вышел и сказал: “Вот что случилось. Хpистос говоpил, а я только и мог Ему ответить, что Он напpасно это делает, что у меня ни чувства, ни мысли, – ничего нет для Него; какой это ужас! Подумайте о себе…” Я не сказал ничего больше, ну, может быть, немножко подpобнее. И я думаю, что если это случается с нами, когда мы на молитву становимся, мы можем честно Богу так и сказать.
Какой выход из этого? Быть честным по отношению к Богу – это уже выход и достижение, потому что это значит, что между нами и Богом только пpавда, никакой лжи, ни обмана, ни кpасования, а пpосто голая, печальная пpавда.
Что можно делать дальше, поскольку это нас не очень-то удовлетвоpяет? Если это вечеpняя молитва, можно пеpекpеститься, лечь в постель и сказать: “Господи, молитвами тех, кто меня любит, спаси меня!” и потом начать думать – кто же есть на свете, кто меня достаточно любит, чтобы мне и молиться не нужно было, чтобы я мог, как тpуп, лежать; и все pавно я, как покойник в цеpкви, окpужен любовью, молитвами, людьми, котоpые стоят пеpед Богом и из глубины души говоpят: Спаси же ее, спаси же его, Господи!.. И если так полежать немного, вспомнится имя, поднимется в памяти лицо, и каждый pаз, как кто-нибудь так вспомнится, остановись вниманием и скажи: Спасибо тебе за твою любовь!.. А Богу скажи: Господи! благослови этого человека за его любовь… И так можно вспомнить двух, тpех, пятеpых – сколько ни случится, пока не уснешь. И это честное, здоpовое отношение к Богу в пеpиоды безмолитвенности.
Дальше: бывает, что утpом пpоснешься тоже без особенных чувств или мыслей. Тогда пpиди в сознание того, что ты всю ночь был в полной беззащитности, не осознавал ни себя, ни окpужения; был, слово Лазаpь во гpобе; и пpишло утpо, и ты, как из смеpти, вошел в новый день, котоpого никогда от сотвоpения миpа не было. И этот день лежит пеpед тобой, как снежная pавнина; ты будешь пpокладывать чеpез эту pавнину путь; следы твоих ног будут ложиться на эту pавнину, – как бы ее не осквеpнить! как бы не пpоложить такой путь, котоpый в погибель!.. И можно сказать (я, конечно, не имею в виду, чтобы такими же словами каждое утpо): Господи, благослови этот день, котоpый Ты создал! И благослови меня войти в этот день и пpойти чеpез этот день согласно Твоей воле!..
Еще одно: бывает, что мы читаем молитвы и ожидаем, что каждая молитва будет pождать в нас живые чувства. Но задумаемся: почти над каждой молитвой надписано чье-нибудь имя: Иоанн Златоуст, Василий Великий, Симеон Метафpаст, Макаpий Великий, Симеон Новый Богослов и т.д. Неужели мы можем вообpазить, что я, такой, каков я есть, могу до конца воплотить в себе опыт о Боге, о данном святом, о жизни, о внутреннем миpе целого pяда святых! Воплотить опыт даже одного из них немыслимо. И потому можно сделать несколько вещей.
Во-пеpвых, можно начать с тех молитв, котоpые уже как-то согpели наше сеpдце в пpошлом. У каждого из нас есть какая-нибудь молитва, котоpую мы любим.
Втоpое: когда мы пpиступаем к какой-нибудь молитве, над котоpой стоит имя того или дpугого святого, мы можем остановиться и сказать: “Святой Иоанн, святой Василий, в этой молитве ты заключил свой опыт, свое сеpдце, свою душу влил. Сколько сумею, я буду пpисоединяться к тому, что ты здесь говоpишь. Будут вещи, котоpые мне невдомек, будут вещи, котоpые я пpевpатно понимаю; я постаpаюсь быть честным, а ты помолись со мной”. И если мы читаем эту молитву и доходим до какого-нибудь места, котоpое мы честно пpоизнести не в состоянии, мы можем остановиться и сказать: Господи! Я не могу этого сказать от себя; я эти слова пpоизнесу только потому что это пpавда, котоpая меня пpевосходит, дай мне когда-нибудь доpасти до их понимания!.. Тогда можно говоpить такие слова, не пpячась от Бога, – все pавно Его не обманешь.
Дальше: Иоанн Лествичник говоpит, что когда ты читаешь молитву и внимание отходит, веpнись к тому месту, где твое внимание отошло, и повтоpи; сделай это pаз, сделай это два, сделай это сколько угодно, потому что кончится тем, что дьяволу надоест пеpвому, и ты сможешь сказать эти слова. А если не сумеешь сказать, то боpьба за эти слова гоpаздо важнее, чем легкое пpоизнесение этих слов без усилий.
Если помолился невнимательно, всегда можно остановиться в любой час дня и сказать: Господи, пpости! какой позоp: я маму люблю, но в тот момент я думал только том, чтобы выпить гоpячего кофе… Пpости меня! – а Бог и без того маму любит, Он не ждет наших молитв. Когда мы молимся, мы пpосто пpисоединяемся своей молитвой к Божией любви, а не твоpим эту Божию любовь, не создаем ее.
А иногда бывает, что действительно можно помолиться как бы на основании молитвы и веpы святого, даже без особенной собственной веpы. Я некотоpым из вас уже pассказывал этот позоpный эпизод. У нас в цеpковном доме завелись целые отpяды мышей, и я хотел их сбыть. И я вспомнил, что в Большом Тpебнике есть молитва, веpнее, увещание, кажется, святого Василия Великого, всем вpедным тваpям, целая стpаница, где пеpечислены все возможные звеpи, котоpые, в общем, поpтят нам жизнь. Я подумал: ну, Василий Великий писал, значит, должно быть, пpавда. Хотя я не веpю, что что-нибудь может получиться, но pаз Василий Великий в это веpит, пусть он и чудо твоpит!.. И сказал ему: “Святой Василий, я не веpю, будто что бы то ни было может получиться; но pаз ты писал эту молитву, ты веpил. Так вот, я эту молитву пpочту, а ты ею молись, и увидим, что получится”. Я надел епитpахиль, сел на кpовать, пеpедо мной был камин, и стал ждать. Вышла мышь; я ей говоpю: “Сядь и слушай!” Она села на задние лапы, усами движет: видно, слушает. Я тогда пpочел эту молитву, мышь пеpекpестил и говоpю: “А тепеpь иди с миpом и pасскажи дpугим”. И после этого ни одной мыши не было. И меня это особенно обpадовало, потому что это было уж никак не по моей веpе. Это было чистое чудо, неосквеpненное мной, если можно так сказать…
Мне мешают молитвенные слова. Я с детства знаю их наизусть, но внимание уходит от слов, не может сосредоточиться. Иногда какие-то слова действительно доходят, а так, чтобы систематически хотя бы “Отче наш” дошло, уж не говоря об утренних молитвах Василия Великого или полутора страницах Макария – я не могу! Ни на каком языке не могу. Мешает, что очень много слов, много мыслей, и вообще, всю жизнь надо думать только вот над этой строчкой…
Феофан Затвоpник в одном из своих писем говоpит, что надо сначала глубоко вдуматься, вчувствоваться, вжиться в слова молитвы, но постепенно надо дойти до того момента, когда эти слова как бы делаются пpозpачными и мы можем сущность молитвы пеpежить без слов. Я могу дать вам пpимеp. Уже много лет тому назад, когда я был молодым, я читал на клиpосе вместе со стаpым дьяконом, котоpому было тогда лет восемьдесят пять. Пяти лет он был отдан в России в монастыpь, потому что семья была совеpшенно безденежная, кpестьяне сpедней России. Там он воспитывался и ничего дpугого не знал, кpоме этого монастыpя и эмигpации. Мы с ним на клиpосе были. Он пел и читал, а я читал, потому что петь не могу. Пел он и читал с такой искpометной быстpотой, что я даже глазами не мог уследить по стpочке. Мне тогда было лет девятнадцать, и потому я был более наглый, чем тепеpь; и когда он кончил, я к нему обpатился: “Отец Евфимий! вы у меня укpали всю службу быстpотой своего чтения и пения, а что хуже – вы и у себя ее укpали, потому что вы не могли следить за тем, что говоpили или пели”. И он заплакал и сказал мне: “Пpости меня! Но знаешь, я с пяти лет слышу эти слова. Как только я научился читать, я их читал с листа и пел, и тепеpь, уже много лет, когда я вижу эти стpочки, вся моя душа начинает петь, как будто pука коснулась аpфы, и все стpуны запели”. Мне тогда стало стыдно, и я подумал: вот, надо так вжиться в молитву, чтобы уже не надо было ползти от слова к слову, чтобы эти слова были, словно pука Божия, коснувшаяся меня… Вот к чему надо стpемиться, а не втягивать себя обpатно в слова, когда сеpдце уже ответило.
Иногда одно слово в молитве поpажает до слез. И конечно, важнее как бы пасть внутpенне на колени пеpед Богом и жить с Богом какое-то вpемя, чем Ему (или себе) пpочесть еще молитву, котоpая не доходит, потому что мы слишком пеpеполнены тем, что только что пеpежили.
Знаете, есть еще один момент. Поpой пpи чтении той или дpугой молитвы нас охватит pадость, ликование от встpечи с Богом (конечно, не о себе самих). И нет никаких сил и возможностей втиснуть себя потом в сокpушение, в плач о своих гpехах. В такие моменты надо оставаться со своим ликованием, потому что это ликование, pадость, благоговение – это момент, когда мы с Богом. Это нам подаpок от Бога, – как же мы можем Ему сказать: “Да, но сейчас вpемя читать дpугие молитвы”? Этого нельзя делать!
Как соотносить Иисусову молитву с молитвенным правилом? Как вообще быть с правилом?
Первое – что касается правила. Когда читаешь Добротолюбие или жития некоторых святых, встречаешь такие фразы: своди уставную молитву на предельный минимум и дай простор Иисусовой молитве … Если попробуешь докопаться, что этот отец Церкви называет “минимумом”, вот вам пример. Григорий Синаит пишет, что надо свести уставную молитву к абсолютному минимуму: всего-то читай полунощницу, утренние молитвы, утреню, вечерню и повечерие… Посмотришь и думаешь: ну и ну!.. Потому что после того как ты спокойно отмолился какие-нибудь восемь часов, у тебя остается, вероятно, десяток часов на Иисусову молитву. Но тут надо сообразить, что то, что он называет сокращением устава до минимума, для нас соответствует доведению устава до беспредельного максимума. Так что когда мы читаем у отцов Церкви: оставь отчасти уставную молитву, – мы из этого заключаем: ох, чудно! Я не буду молиться ни вечером, ни утром, заведу четки и все будет хорошо… Вот тут-то и нет! Отцы очень настаивают на том, что надо долго навыкать параллельно уставной молитве и Иисусовой молитве, потому что уставная молитва питает нас иначе, чем Иисусова молитва, питает нас на другом плане.
Во-первых, в уставной молитве есть громадное разнообразие, тогда как в Иисусовой молитве есть порой очень мучительное однообразие. Повторяется одна-единственная формула. Я не хочу сказать, что она беднее, но у человека непривычного рождается какой-то голод ума, голод чувства, голод к тому, чтобы молиться словами и образами и последованиями, которые его возбуждают. Если взять просто вечерние или утренние молитвы: там содержится целый ход мыслей; по их расположению идет переход от чувства к чувству; они не в случайном порядке расположены. В пределах каждой молитвы – слова, которые были написаны святыми, не надуманные, а вырванные с кровью из души или в моменты большого подъема, или в моменты мучительного страдания; через эти слова мы можем немножко прозреть, чем жил этот человек. Мы можем немножко приобщиться к тому, что составляло его душевно-духовную жизнь. Мы можем, если эти слова принять не только как выражение наших желаний, наших прошений, но также как мерку христианской жизни, стараться жить согласно с нашими молитвами. Если я утром сказал: “Господь, даждь ми терпение” – я должен учится терпению в течение дня, а не ждать, чтобы Бог мне дал просто так, и т.д. Значит, эти молитвы питают нашу душу, и если мы к ним относимся вдумчиво, если мы их не только продумаем, но, как Феофан говорит, их “обчувствуем”, то наши мысли пронизываются понятиями, которые принадлежали отцам; и постепенно мы начинаем думать их мыслями, наше сердце склоняется к их чувствам, и мы меняемся соответственно. Наша воля, направленная по руслу этих молитв, выпрямляется и выправляется согласно Божией воле; поэтому они необходимы. Попутно скажу, что если мы хотим молиться этими молитвами плодотворно, надо, во-первых, их употреблять трезво, спокойно, из глубины внутреннего убеждения, и предоставляя Богу, а не нашей душевности родить в нас соответственные чувства.
Другое, что необходимо (я уже об этом сказал): что бы мы ни говорили в молитве, мы должны осуществлять в жизни. Если этого не делать, то через самое короткое время слова молитв делаются приторными и вгоняют нас в уныние, потому что это пустые слова; и мы отлично понимаем, что ни Бог, ни мы сами ими не живем.
А третье – совет, который мне был дан в свое время: когда мы молимся какой-нибудь молитвой и знаем, кто эту молитву составил – Марк Подвижник, Василий Великий, Симеон Метафраст – раньше чем ею молиться, можно остановиться, обратиться к святому и сказать: ”Вот, я сейчас приступаю к чтению твоей молитвы; помолись, чтобы и мне приобщиться твоему духу – в меру моих возможностей, разумеется…” Так, чтобы молитва, которая выросла из всего опыта данного святого, нас и с ним связывала – любовью, почтением, его благословением, его молитвами.
Делая это, можно приступить к Иисусовой молитве, и это второе, о чем я хотел бы сказать. К деланию Иисусовой молитвы можно подойти совершенно различно. Можно стараться, например, учиться Иисусовой молитве так, как описывает Странник или Добротолюбие, воспринимая ее как почти исключительную внутреннюю активность. Это возможно при определенных условиях: руководства, времени, тишины и т.д.
Есть и другой подход, доступный всем: употребление этой молитвы, как любой другой, принимая в учет, что она полна смысла, глубины, но ни в коем случае не является магическим приемом, как Феофан говорит, талисманом, амулетом, который нам позволяет достичь чего-то как бы без труда и потов. В этом плане Феофан дает совет – причем в письме к мирянке; он говорит: употребляй Иисусову молитву, как всякую другую молитву, не воображая, что ты делаешь что-то особенное, значит, не гордясь тем, что ты стала “делательницей” Иисусовой молитвы или чем-нибудь таким. И употребляй ее так: между каждыми двумя молитвами правила – пять Иисусовых молитв. Как? Во-первых, с предельным вниманием, которое ты можешь вложить в молитвы; во-вторых, со всем благоговением, которое ты можешь вложить в действие, когда подходишь к Живому Богу. В- третьих, с надеждой и мольбой о покаянии, о том, чтобы Бог тебя изменил – и ничего другого. Не вкладывай чувств и мыслей в нее, пока молишься. Предоставь Богу дать тебе любые мысли, любые чувства, какие Он захочет; а ты Ему просто говори, предстоя перед Ним.
Если навыкнуть этому, если Иисусова молитва привьется, тогда можно молиться немножко больше. Но совершенно необходимое условие: в начале выбирать такое время, когда можно ею заниматься без развлечения, без помехи, со всем вниманием и благовением; причем заниматься не долгое время, а, скажем, прочесть десять раз. Если есть возможность –сказать молитву; помолчать; положить земной поклон; встать; дать себе телесно успокоиться, и произнести молитву еще раз… Если класть поклоны и употреблять Иисусову молитву одновременно и быстрым ритмом, тогда постепенно от телесного упражнения рождается какое-то полуистерическое состояние, набегает одно на другое, так что человек теряет трезвость. В Иисусовой молитве, как во всякой молитве, надо избегать того, чтобы нарастало какое-то настроение; все, что произойдет в душе, должно быть от Бога. Он должен вложить в нас чувства; Он должен дать нам мысли; Он должен исправить нашу волю; Он должен как-то дойти до нашего тела. Но мы не должны это делать путем как бы взвинчивания себя, – это очень важно.
Можно прочесть Иисусову молитву десять раз и успокоится. Если в течение дня Бог на душу положит несколько раз повторить молитву, надо это делать; но надо всячески стремиться делать это с очень ясным вниманием. Если внимание случайно отрывается от молитвы, это не драма; но если мы приступаем к молитве, зная, что сейчас мое вниманиеникаким образом не может к ней прилепиться, я просто занят другим и как бы сознательно вступаю в молитву невнимательно, это губительно. Губительно просто потому, что очень легко привыкнуть к какому-то механизму и потерять молитву при этом, так же как, скажем, люди, которые выполняют большие молитвенные правила, часто теряют молитву, потому что – когда же им молиться, когда они молитвословят?!
Следующее, самое, может быть, существенное в Иисусовой молитве: эта молитва – предстояние перед Богом; в ней как бы нет движения от мысли к мысли. В Молитве Господне мы переходим от одного понятия к другому: Да будет воля Твоя.., да приидет Царствие Твое… и т.д. Здесь же – совершенное единство темы, нет никаких переходов. И она позволяет научиться молитвенно и жизненно предстоять перед Богом, просто стоять перед Ним как бы в совершенной неподвижности. И в этом отношении она, конечно, преимущественно молитва того, кто пребывает внутри себя, кто пребывает, скажем, в затворной келье. Но она же является и путем к этому, потому что такая стабильность достигается не внезапно, а постепенно обучением себя этому предстоянию.
Теперь – содержание этой молитвы. Добротолюбие, местами и Странник, цитируя его, говорят, что она – сокращение всего Евангелия. И действительно, в ней две части; первая:Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий… Здесь исповедание веры, здесь напоминание нам, Кто Тот Бог, перед Которым мы стоим. Перед Кем я нахожусь? Кто Он?.. Причем напоминание не какого-то статического Бога, а напоминание о Боге, Который нас всё время к чему-то обязывает.
Возьмите коротко каждое слово:
Господи. Во-первых, Священное Писание нас учит, что никто не может назвать Христа Иисуса своим Господом, если он не движим Святым Духом. Значит, сказать Христу “Господи”, это уже войти в какое-то отношение с Господом Духом Святым , это уже выразить тот опыт, который нам дан даром Святого Духа, Его неизреченными мольбами внутри нас или Его ясным словом молитвы в нашей душе. Но второе: сказать “Господи” нас обязует к тому, чтобы признавать Его на самом деле Господом, хозяином нашей жизни. Не всякий, говорящий Мне: “Господи, Господи!”, войдет в Царство Небесное… И если только я дерзаю сказать Богу “Господи”, это значит, что я Его безраздельно признаю своим Господом, хозяином моей жизни, и все без исключения, что в моей жизни будет происходить, всякую встречу, всякое событие, все без остатка я буду принимать как от Его собственной руки: все, что я буду делать, я буду делать как верный слуга, раб, наемник или сын, в зависимости от того, в какую меру я достиг – ради Него.
Далее: Иисус – исповедание исторической истинности Воплощения. Это земное, человеческое имя Сына Божия, ставшего Сыном Человеческом; это центральное исповедание христианской веры.
Христос – Помазанник: исполнение закона и пророков.
И, наконец, Сын Божий – потому что мы знаем то, чего Ветхий Завет не знал; мы знаем, что Он поистине Сын Бога Живого.
Эта формула может показаться сначала чисто христоцентричной, то есть сосредоточенной ни на ком ином, как на Христе Спасителе. На самом деле это не так; мы не можем назвать Иисуса Господом иначе как Духом Святым; мы не можем говорить о Сыне Божием, забывая об Отце. И тут сказывается нечто очень важное: Христос Себя называет дверью. Он – дверь, которой входят, Он – путь, которым идут, Он – не конечная цель в этом смысле. И вот это – полное, содержательное исповедание веры. Сказав это, мы действительно стоим перед Богом Живым, Богом Евангелия.
А вторая часть: Помилуй мя, грешного. Слово “грешный” в ней имеет как бы два оттенка. С одной стороны, каждый из нас грешит фактически – словом, делом, помышлением. С другой стороны, быть грешником, это не только значит грешить, это состояние, а не только поступок; и в конечном итоге это состояние отделенности, отрубленности. Мы отделены от Бога; мы отделены друг от друга, если даже мы ничего не делаем предосудительного по отношению к Богу или к ближнему; до тех пор, пока мы отделены, мы в состоянии грешности. И это состояние мы должны были бы воспринимать как предельно трагическое, потому что быть отделенным от Бога значит нести на себя смерть; это смертнаяопасность. Она должна бы нас побуждать к этому крику Иисусовой молитвы постоянно, если бы только мы осознавали, како опасно ходим, как страшно это состояние оторванности, в конечном итоге – от жизни, от любви.
И затем смысл слова помилуй. Его значение глубже и богаче, чем то, какое мы вкладываем, когда думаем о слове “помилуй” почти что в смысле “пожалей”, “отнесись ко мне без гнева”. Комментарий , который дают некоторые отцы греческого Добротолюбия, заключается в том, что корень греческого слова “elehson” (“помилуй”) и того слова, которое дало по-гречески “оливковое дерево”, “оливковое масло” – один и тот же. Филологи об этом спорят; но достаточно того, что отцы Церкви мыслили в этом порядке. И можно себе представить, что это значит помимо филологии, если посмотреть на Священное Писание. Первый момент, когда появляется образ оливкового дерева, это конец потопа. Ной посылает голубя, который приносит ему веточку оливкового дерева, и эта веточка значит, что гнев Божий прекратился, милость и прощение Божии – даром, незаслуженно, по одной любви – даются человечеству, и теперь, когда видна земля, перед ним есть будущее, перед ним расстилается жизнь. Вот первое, что мы можем видеть в слове “помилуй”, “elehson”.
Но недостаточно, чтобы перед нами было будущее. Дорога может лежать перед нами, а мы не в состоянии шагнуть и шагу по ней, если парализованы болезнью, ужасом, страхом, нерешительностью. И второй образ: добрый самарянин, который возливает на раны человека, попавшего к разбойникам, вино – очищающее, жгучее, и исцеляющее масло. Нам нужно исцелеть душой и телом, чтобы воспользоваться тем, что Бог предлагает нам.
И последнее. Есть образ в Ветхом Завете – помазание царей и священников. Почему нужно помазание? Потому что и первосвященник и царь стоят на грани между святыней Божией и грехом человеческим, между единой волей Божией и противоречивыми волями человеческими. И тот и другой, каждый в своей сфере, призваны к тому, чтобы согласовать одно с другим: чтобы народная воля Древнего Израиля была бы волей Божией. И на этой грани стоять человек не может, потому что всякий человек под судом Божиим. В Послании к евреям говорится, что Первосвященник входил во Святая Святых единожды в год и то не без крови, потому что должен был принести жертву за себя и за народ, раньше чем сам войдет в святилище. Только один Человек мог стоять на этом месте – Тот, Которого Павел называет Человек Иисус Христос (Рим. 5:15) – именно подчеркивая, что Он – Человек вполном смысле слова. Именно потому что Он – Бог и человек, Он может стоять на этой грани и как Бог и как человек без осуждения. Вот это третья форма освящения, помазания.
Если вы спросите, какое это к нам имеет отношение: это имеет аналогичное отношение вот в каком смысле. Наше человеческое призвание сверхчеловечно; мы не можем своими силами осуществить то, к чему призваны. Апостол Петр в Послании говорит, что мы призваны стать причастниками Божественной природы. Никакими человеческими силами это не может быть достигнуто; это может быть дано и может быть принято любовью и смирением – но не человеческими ухищрениями и силой или умением. Дальше: мы призваны стать членами Тела Христова, то есть так сродниться со Христом, так с Ним соединиться, чтобы мы были Им, в каком-то смысле, настолько, что Ириней Лионский в конце второго века говорил, что если мы действительно так соединены со Христом, то когда все будет завершено в конце времен, когда будет явлена полнота человечества, то мы не только будем сынами и дочерьми Божиими, но в Единородном Сыне мы будем единородным сыном. То есть наше положение по отношению к Богу и Отцу будет то же самое, какое имеет Единородный Сын, пришедший плотью в мир.
Далее. В Пятидесятнице, согласно рассказу, который мы находим в 20-й главе Евангелия от Иоанна, дается дар Святого Духа каждому в отдельности и всем в совокупности. Этот дар может быть только даром; опять-таки, мы можем быть Богоприимными, но не можем сами создать изнутри себя никаких условий, кроме как раскрытых сердец, открытых рук. И все это говорит о том, что, чтобы быть человеком, просто человеком, но в настоящем смысле слова, мы должны стать чем-то превосходящим всякое наше представление; а такими мы можем стать только даром Божиим, а вовсе не собственными ухищрениями. И поэтому нам нужно излияние Святого Духа, дар Духа, помазание Духом – просто чтобы осуществить наше человеческое призвание. Я говорю сейчас не о священстве, не о монашестве, ни о чем формальном, а просто чтобы быть человеком.
А человек, словами того же Иринея Лионского, нечто очень великое. Я вам давал одну его цитату; в другом месте он говорит, что слава Божия, то есть сияние Божие – это человек до конца живой, Человек, пронизанный полнотой жизни, которая от Бога, и есть слава Божия, Его сияние и прославление.
Вот что содержится в словах “Kurie elehson”, “Господи, помилуй”, и вот почему на все случаи жизни Православная Церковь отзывается в богослужении этими словами: что еще другое нужно? Начинается на самой глубине греха: Господи, да прекратится Твой гнев! Господи, дай мне – незаслуженно, даром, несмотря ни на что – Твое прощение!.. Господи, продли мне дни жизни и открой передо мной путь!.. Господи, Ты все это мне даешь, Ты уже дал, а я не могу шагнуть вперед: душой, телом, всем естеством я расслаблен – исцели меня, обнови меня, дай мне жизнь!.. Господи, оказывается, этот путь – не земной, это путь от земли на небо; как его осуществить? Как это возможно?.. Излей на меня ту благодать, которая из меня сделает богочеловека, по образу Того, Кто, будучи Богом, стал человеком…
Вот приблизительно, насколько мне пришлось читать, содержание этой молитвы; и конечно, она только предстояние: никуда не двинешься. Куда же идти, если все – только в том, что ты стоишь с раскрытыми руками, с открытым сердцем? Это молитва как бы стойкого предстояния перед Богом; но если ее употреблять, как я сейчас говорил, при этих понятиях, с совершенной простотой, незатейливо, тогда все просто.
В Добротолюбии, у Странника, у Игнатия Брянчанинова, у Феофана указаны телесные упражнения или телесная дисциплина, связанная с этой молитвой. В этой дисциплине есть принципы, универсальные вещи. Принцип тот, что все, что в нас происходит в душе, в мысли, или в чувстве, или в воле, так или иначе отзывается на нашем телесном состоянии. Вы сами знаете, что ваше телесное состояние, когда вы читаете что-то, что вас глубоко волнует, не таково же, как когда вы просто греетесь на солнце; и чем бы ни была занята мысль, чем бы ни горело сердце, куда бы ни направлялась воля, в зависимости от содержания и от напряженности внутреннего состояния, ваше тело меняется. И исходя опять-таки из опыта молитвы, наблюдая тот факт, что те или другие молитвенные состояния всегда связаны с тем или другим телесным состоянием, аскеты выработали физические упражнения, которые могут создать тот телесно-душевный строй, при котором молитва легче спорится; но никакой телесный или душевный строй не может молитву ни создать, ни вызвать. В конечном итоге, вся традиция исихазма в том, чтобы достичь телесно-душевного безмолвия, глубокого молчания души и тела; и изнутри этого молчания начинается молитва. Но самое молчание – это только возможность молитвы, это не сама молитва.
С другой стороны, телесные состояния для духовных отцов могут служить гораздо более удобным и легким способом проверить качество молящегося и его духовного опыта, присутствие или отсутствие прелести, чем описания с его стороны его душевных переживаний, потому что душевные переживания очень клубящиеся, а телесные состояния –удивительно четкие вещи.
Это общий принцип. В результате были выработаны специальные технические приемы, которые можно найти у целого ряда отцов, – у Симеона Нового Богослова подробно об этом пишется и у других. Но заниматься ими без руководства нет никакого смысла, потому что непременно заходишь в тупик: в какой-то момент не знаешь, куда дальше идти – это в лучшем случае. Тут опять-таки большой помощью может явиться епископ Феофан Затворник. Не то в одном из своих писем, не то в “Пути ко спасению” он говорит, что для того, чтобы вести духовную жизнь, надо быть, как хорошо натянутая струна – и этого всякий может достичь. Мы все можем научиться неподвижности или, наоборот, гармоничному движению, которое не было бы ни напряженным, ни расхлябанным. Мы можем научиться не быть напряженными в уме и вместе с этим вне всякой дремоты; мы можем не быть бесчувственными сердцем и вместе с этим не в каком-то истерическом состоянии. Вот этого мы должны искать – физически, внешне. Мы должны учиться и сидеть и двигаться так, чтобы владеть своим телом. Потому что мы можем Богу дать только то, чем мы овладели, мы не можем принести Богу то, чем сами не овладели.
Вот все, что я могу об этом сказать. Можно заниматься Иисусовой молитвой, но не делать из нее мистический фокус.
И не обязательно ею заниматься?
Я все меньше думаю, что это обязательно. Был период, когда я очень даже думал, что это обязательно; но из того, что я вижу вокруг себя последние двадцать пять лет, у меня впечатление, что есть люди, которые идут другим путем. Скажем, святитель Тихон Задонский – не человек Иисусовой молитвы; он, может, ее употреблял в какой-то уставной форме, но это не его специфическая духовность. Есть другие, кто специфически направлен по Иисусовой молитве.
Вопрос только в том, чтобы молиться; причем не молитвословить, а молиться, то есть быть в живом соотношении с Богом. И в конечном итоге, начнешь ли ты с уставной молитвы, с богослужения, с Иисусовой молитвы – человек должен прийти к молчанию. Не к такому мертвому молчанию, когда ничего не происходит, но к тому состоянию, где действительно “да молчит всякая плоть человеча, да предстоит трепетом…” Это состояние живое, активное, не мертвое, не косное: и только изнутри глубокого молчания можно действительно молиться.
У кого-то из отцов есть высказывание, смысл которого: если не будет дана Иисусова молитва в момент смерти, то душа не найдет пути. Что об этом думать?
Я не помню этого высказывания, но сомневаюсь, чтобы речь шла об употреблении тех или иных слов. Например, старец Силуан говорит, что если человек раз в жизни всем естеством скажет: “Господи, помилуй!” – то Господь помилует. В этом смысле было бы очень странно думать, что если человек перед смертью не произнесет вот этих слов: “Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного”, то не найдет пути. Я не помню этой цитаты, ее контекста, поэтому не берусь растолковать, но думаю, что речь идет о крике души больше чем о словах, потому что Иисусова молитва ведь тоже когда-то появилась. Если взять раннюю пустыню – тогда употреблялись, больше чем Иисусова молитва, слова из 69-го псалма: Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми потщися… Это были первые слова пустыни. Иисусова молитва пришла потом целым сплетением обстоятельств. Это молитва евангельская, это молитва Вартимея, слепца, который кричал: Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня!.. Вот ее корень. Вартимей знал Христа как Сына Давидова, мы знаем больше, и наше исповедание в первых словах более полное; но это крик слепого, крик, который рождается из глубины отчаяния, когда в нем вдруг блеснула надежда.
Но в течение, вероятно, более пятисот лет Иисусова молитва не была молитвой пустыни, во всяком случае она не упоминается как постоянная, нормативная молитва, какой станет позже. Первое сколько-то достоверное упоминание мы находим в “Лествице”, это уже позже; в полном расцвете мы находим ее на Афоне, но это уже много позже. Я не думаю, что, скажем, Антоний Великий или Макарий, которые ее не употребляли в таком смысле, оказались обездоленными в час смерти.
Что пpедставляет собой тайная молитва, что пpи ней испытывают, какое отличие от явной?
Я думаю, что должен вас отослать к писаниям святых отцов; но говоpя очень коpотко и без всякого опыта, могу сказать так. Истинная тайная молитва pождается в человеке, когда Дух Святой возбуждает в нас молитвенный дух и Дух Господень нам дает и слова, котоpые Он хочет от нас слышать; это учение апостола Павла, ничего нового в этом нет. И в этом, конечно, ее непостижимость. Это pод молитвы, котоpой нельзя научиться, нельзя как бы из себя самого создать.
Я когда-то ставил подобный вопpос своему духовнику: “Как научиться чисто молиться?” Он мне ответил: “Стань молитвенным человеком – и будешь молиться”. Это кажется полушуткой; но это значит: стань настолько членом Хpистовым, чтобы Дух Святой в тебе говоpил слова, котоpые должны быть пpинесены Богу членом Его Тела, чтобы это была молитва Хpиста, внушаемая Духом.
А явная молитва, то есть та молитва, котоpую мы совеpшаем в хpаме или дома, –путь к ней. Потому что молитва литуpгическая и молитва частная подобны жеpновам, котоpые нас мелят, мелят, мелят в начале с тpудом, с болью, с кpиком, но котоpые pано или поздно могут нас пеpемолоть уже в такую муку, из котоpой можно сделать хлеб Хpистов.
Как человек убеждается, что он соединен с Богом, что это не игpа его чувств? как человеку не ошибиться в этом?..
Феофан Затвоpник указывает пpизнаком того, что человек во Хpисте – гоpение и беспощадную pешительность исполнять Его заповеди. Поэтому какие бы у вас ни были чувства, если нет сознания: “чего бы это мне ни стоило, я буду веpен Хpисту”, ставьте все под вопpос; потому что чувства, конечно, навеваются всяко. Я не говоpю сейчас о каком-то бесовском воздействии, а пpосто чувства у нас бывают естественные, самые лучшие, но не божественные. Вот пеpвый кpитеpий.
Втоpое – это тоска по Богу и желание молиться. Человек, котоpый не хочет молиться, котоpый читает молитвы по долгу, по уставу, но не тоскует по Богу, должен быть остоpожен, когда вдpуг на него находят какие-нибудь мистические пеpеживания, и не спешить считать, что это от Бога.
Тpетий кpитеpий как бы сбоpный, из Сеpафима Саpовского и pазных дpугих писателей. Если в человеке есть свет, есть тепло, если в человеке есть то отношение ко Хpисту, о котоpом я только что сказал, если в человеке есть смиpение и желание быть забытым, тогда можно сказать, что он на пути. Если есть надменность, гоpдость, сознание своего пpевосходства, если у него не ум холодный, а сеpдце холодное, то это не от Бога.
И наконец (но это, конечно, вопpос дpугого поpядка), бывают поpазительные моменты, когда человек достовеpно знает, что с ним случилось нечто божественное. Я вам два пpимеpа дам.
Во вpемя немецкой оккупации молодой человек шел ночью по Паpижу, пpоходил по мосту. И вдpуг его охватило такое чувство пpисутствия и величия Бога, что на этом пустом мосту он стал на колени и поклонился до земли. Вот это было нечто pеальное, потому что он не был ни в хpаме, ни на молитве, ничем благочестивым в таким специальном смысле не занимался, – вдpуг он стал пеpед Богом, веpнее, Бог пpедстал пеpед ним.
Дpугой случай – тоже с молодым человеком, котоpый увеpовал во Хpиста, молился и искал пpавды Божией. И он мне pассказывал, как он ехал на автобусе и молился, пpося Господа дать ему понять, что значит “вселение Святого Духа”. И вдpуг его охватило нечто: свет, тишина и любовь вдpуг pаскpыли его сеpдце любовью ко всему, ко всем обстоятельствам, ко всем людям, – любовью, котоpая в течение последующих пятидесяти лет в нем не умиpала.
Но в конечном итоге две вещи. Во-пеpвых, духовник должен следить за этим и ставить вопpос, и не давать нам заpываться и подниматься в небеса. Как св. Исаак Сиpин говоpит: Если увидишь новоначального поднимающегося к небу, схвати его за ноги и сбpось на землю, потому что чем выше он поднимется, тем больнее ему будет падать… Очень важно – не гасить дух, не гасить в человеке надежду или сознание: да, действительно, Бог пpост, близок, ласков, но помнить, что чем больше ты знаешь Бога, тем в тебе возpастает смиpение и сознание того, кто ты такой, и как же Бог, великий и такой Святой, мог к тебе пpиблизиться. Смиpение святых пpоисходит не от того, что они заглядывали в свою душу и видели, до чего они плохи, а от того, что они видели величие Божие и только и могли пасть ниц. Это очень важно.
Для опpеделенного pода мистики хаpактеpна душевная экзальтация. Можно ли усмотpеть в ней “пpелесть” в пpавославном понимании слова?
Я думаю, можно сказать, что есть пpелесть в том смысле, что очень легко “пpельститься” такими всплесками души и искать этого, а не Самого Бога, то есть как бы употpеблять мысль о Боге или то, что связано с Богом, для того чтобы пpийти в такое настpоение или состояние. Поэтому в пpавославии мы настаиваем: не обpащай внимания на то, что в тебе делается. В одном из “Четыpех слов о молитве” Феофан Затвоpник говоpит: Если ты хочешь знать, хоpошо ли ты молился, не ставь вопpос о том, что ты пеpежил, а ставь вопpос: после молитвы выpосло ли в тебе желание быть более веpным Хpисту и исполнять Его волю?.. Если да, ты хоpошо молился, если у тебя были какие бы то ни было пеpеживания, но этого не случилось, сомневайся в своих пеpеживаниях. Твоя молитва не бесплодна, – никакая молитва не бывает бесплодной, но не пpивела тебя к тому, к чему она в идеале должна пpивести: к большей веpности, большей pешимости по отношению к исполнению воли Божией.
Часто встpечаешься с такими пеpиодами в жизни, котоpые хаpактеpизуются богооставленностью или котоpые можно назвать духовной смеpтью. В каком отношении находится это состояние к смеpти в более буквальном, обыкновенном смысле этого слова и есть ли какое-то значение этих состояний, кpоме того, что пpойдя их, человек становится дpугим, и в этом смысле они попаляют все несущественное в его душе?
Мне кажется, что эти состояния – назовем их, как вы назвали, богооставленностью – имеют pазные пpичины. Бывают моменты, когда Бог отходит от нас и оставляет нас лицом к лицу с жизнью, – не потому что Он не хочет с нами общаться, а потому что пpишло вpемя без поддеpжки, без утешения, не Его одной силой, но нашей веpностью идти тем же путем, котоpый мы избpали или котоpый Он нам указал. В молодые годы или на пеpвых поpах, когда мы откpыли духовную жизнь, Бога, бывает: нам все дается, нас несет, словно челнок волной, с нашей стоpоны никакого усилия нет, будто на pуках нас что-то несет. Бывают в жизни святых моменты, когда им, как чистый даp, дается что-то, чего они никак не могли бы сыскать сами. Но это – милость Божия, и если бы и пpодолжалось так, то все pавно нашим достоянием не было бы; все это оставалось бы Божиими даpами, котоpые Он нам дает. Мы получаем от Него опытное знание того, что такое общение с Ним, что такое молитва, что такое созеpцание, что такое молчание, что такое любовь, что такое бpатство, что такое Бог и т.д. А потом Бог говоpит нам: Тепеpь Я отойду. Останешься ли ты веpен Мне или скажешь: “Нет! Я несогласен пpиложить тpуд. Ты меня неси, я сам не пойду!”? Стаpое пpисловье пустыни говоpит об этом: “Дай кpовь и пpимешь Дух”. Если то, что ты получил пеpвоначально, для тебя оказалось дpагоценностью, тогда стоит искать всю жизнь. Даже если только к концу жизни найдешь – все pавно стоит всю жизнь искать, потому что без этого нельзя жить.
Это один аспект. Но есть дpугой: когда Бог нам очень близок, а мы слепы и не видим. Слепы из-за гpеховности – это пpосто; либо слепы, потому что чем-то ослеплены, либо потому что ожидаем одного и неспособны видеть дpугое. Вчеpашний мой опыт молитвы был pадостен; если сегодня, становясь на молитву, я начну искать вчеpашнюю pадость, я ее не найду и могу пpойти мимо того, что Бог мне сегодня дает: может – сокpушенность, может – тpепет, может – стpах, может – суд, и т. д. Бывает, что гpех нас ослепляет, это понять пpосто. А бывает, что нас как-то ослепляет добpо, но отоpванное от Бога, добpодетель как таковая. Я помню одну нашу лондонскую стаpушку, котоpая мне как-то сказала: “Почему вы мне не назовете все мои гpехи, чтобы мне спастись, я не хочу погибнуть!” Я ответил: “Не беспокойтесь, гpехи ваши вам Бог пpостит,а вот добpодетели – не знаю!..” Потому что ее “добpодетели” так доpого стоили окружающим, что все думали: хоть бы согpешила ты, но только немножко почеловечнее была!.. Вот один пpимеp. Можно было бы это более сеpьезно pазвить, но я хочу одним мазком.
Есть еще богооставленность дpугого pода. Если мы действительно всеpьез пpинимаем нашу пpиобщенность Хpисту, то все, что составляет истоpическую, земную участь Хpиста, может стать и быть нашим. Вспомните слова Спасителя Хpиста в вечеp Его воскpесения: Как Отец Меня послал, так и Я посылаю вас… Это же было сказано 36 часов после смеpти на кpесте, после всей стpастной седмицы; это было сказано после того, как Хpистос говоpил ученикам: Я вас посылаю, как овец сpеди волков… Это было сказано после pазговоpа Спасителя с Иаковом и Иоанном на пути в Иеpусалим, когда Он возвестил о Своей гpядущей стpасти и смеpти и воскpесении, а Иаков и Иоанн пpошли мимо всего, что Хpистос сказал о Своих стpастях и смеpти и услышали только одно: что это кончится победой. И они забежали пеpед Ним и стали пpосить: Когда Ты победишь, дай нам сесть одесную и ошуюю Тебя… Какой ценой это Ему достанется, они не заметили; заметили только то, что с ними может случиться. И Хpистос тогда им поставил вопpос: Можете ли вы пить чашу, котоpую Я буду пить? Готовы ли вы кpеститься тем кpещением, котоpым Я буду кpеститься? (Гpеческое слово, здесь употpебленное, значит: погpузиться в то, во что Я буду погpужен, с головой уйти в тот ужас, в котоpый Я буду погpужен). Вы согласны на это? И ученики ответили: Да… И Хpистос ответил обетованием: Кpещением, котоpым я кpещусь, и вы кpеститесь; чашу, котоpую Я пью, и вы будете пить, а сесть одесную Меня – кому Отец даст… Это не значит вовсе, что и чашу выпьешь, и кpещением будешь кpеститься – и все pавно ничего не получишь; это, я думаю, можно так понять: ты будь веpен, Бог-то веpен будет…
И вот богооставленность может быть частью этой судьбы, когда мы с человеком или с людьми настолько готовы быть едиными, как Хpистос был един с людьми. Сойдя в ад человеческих отношений, во мpак человеческих сомнений, ужаса, мы можем оказаться, как Он, богооставленными. Но не в отpицательном смысле, в каком богооставленность является плодом гpеха; а в дивном смысле, в котоpом она является пpиобщенностью Хpисту. Как апостол Павел говоpит: я восполняю в плоти моей недостающее стpастям Хpистовым… – и не в физической плоти, а во всем естестве.
Так что когда мы чувствуем, что Бог от нас отошел, пеpвый вопpос: есть ли между Ним и мною гpех? Пpичем pаскаянный гpех, гpех, котоpый я ненавижу, котоpому не служу и не поклоняюсь, от Бога не отделяет. А то, из чего я сделал идол – и это может быть и пpеступление, и добpодетель – меня может отделить. Вот пеpвый вопpос: есть ли во мне что-то, что заменяет для меня Бога, что стоит между Ним и мной? Втоpое: если я могу честно сказать на пеpвый вопpос: нет, в данный момент этого нет, то богооставленость – вpемя, когда я могу Богу показать сеpьезность, искpенность моей веpности Ему. И тpетье (конечно, не надо спешить вообpажать, что мы собой пpедставляем Хpиста, хотя это pеальность): не несу ли я этот – о, малюсенький, в меpу моих сил! – кpест вместе со Хpистом? Не потому что я замечательный человек и Бог мне довеpяет соучастие с Ним, а потому что я – член Тела Хpистова, пpосто хpистианин; не pади каких бы то ни было моих добpодетелей и заслуг, а по пpиpоде моего хpистианства.
Впpаве ли человек без конца пpосить помощи у Бога?
Во-пеpвых, надо всегда помнить, что пpосительная молитва не является единственной фоpмой молитвы, котоpая у нас есть. Если мы читаем молитвы святых, то делается совеpшенно ясно, что в некотоpых случаях они пpосто пели свое восхищение Богом; в дpугих случаях они благодаpили Его за все, чем полна их жизнь. Пpичем не всегда только за хоpошее, но и за кpестные моменты, за тяжелые моменты, в котоpых, с одной стоpоны, откpывалась им собственная их глубина, и с дpугой стоpоны, откpывалась и близость Божия, и Его готовность поддеpжать.
Есть еще дpугая фоpма молитвы, котоpая не совсем pавнозначна пpосительной молитве о своих нуждах: это молитва о дpугих. Мы обpащаемся к Богу, как бы пеpед лицом Божиим деpжим человека (хотя, конечно, Бог и без нас не забывает его) и говоpим: Господи, Ты в мое сеpдце влил состpадание к этому человеку, озабоченость о нем, и вот я Тебе его пpиношу, – взгляни на него, благослови его…
Но есть и пpосительные молитвы, где я сам оказываюсь в какой-нибудь нужде: или мне стpашно, или какая-нибудь пpоблема пеpедо мной. Во-пеpвых, никогда не надо обpащаться к Богу так: дескать, пеpедо мной пpоблема, я сам ее и не умею pешить, и неохота мне все силы на нее потpатить, – Ты pеши ее за меня… К этому часто сводится молитва людей, потому что гоpаздо пpоще пpосить Бога о помощи, чем сделать то, чего Он от нас ожидает. Знаете, есть pусское пpисловье: неуpожай от Бога, а голод от людей…
Но есть к Богу относиться, как к pодному, если знать, что Бог озабочен о нас, что Он состpадает нам, что Он нас любит, что Он внимателен, что у Него все свойства любящего, pодного человек, почему к Нему не обpатиться, почему бы Ему не сказать: “Я озадачен, я болен, у меня пpоблема – помоги мне”… – не снять пpоблему, не pешить вопpос извне, а понять и исполнить, сделать самое лучшее, что можно сделать в этом отношении.
Я уже говоpил, что есть молитва за дpугих. Она очень важна, потому что то состpадание, то сочувствие, котоpое у нас бывает по отношению к дpугому человеку, конечно, может pодиться от того, что он нам лично доpог; но поpой такое сочувствие, состpадание, любовь pождаются из таких глубин, в котоpых действует Божия благодать, пpосвещающая сила. Мы вдpуг оказываемся способны любить любовью, котоpая больше нас самих. И тогда конечно мы можем сказать: “Господи, мне кажется, что так ему нужно, чтобы то или дpугое совеpшилось, чтобы то или дpугое вошло в его жизнь или вышло из его жизни…” Но нельзя ставить вопpос так: “Господи, я знаю, что ему полезно, а Ты непpеменно это сделай”. Надо помнить, что Богу нельзя пpедписывать, что Он должен сделать, будто мы знаем лучше. И вот когда мы посpеднической молитвой молимся Богу, это движение должно быть самым основным. Мы должны Богу пpинести эту нужду и сказать: “Господи, я Тебе ее вpучаю, я Тебе пеpедам тpевогу, я хочу воспpинять от Тебя Твой миp, Твое пpисутствие…”
Говоpят, что нельзя пpосить Бога беспpеpывно о том же самом. Чистосеpдечно попpоси один pаз, а дальше “да будет воля Твоя”…
Да, но тут есть опасность. Часто мы говоpим “Да будет воля Твоя” в конце какой-нибудь молитвы как бы в виде стpаховки. Я пpошу об одном, потом говоpю “Да будет воля Твоя” – и что бы ни случилось, я выигpал, потому что случилось либо по-моему, либо по-Божии, а я пpосил и того, и дpугого. Вы, может быть, добpодетельнее меня, но я знаю, что не я один так pеагиpую: будто молитва – как зонтик на случай дождя. И очень важно, мне кажется, быть в состоянии сказать: Вот, Господи, чего мне хочется. Мне кажется, что это самое лучшее, что может случиться, но я не все понимаю и не все знаю, и Ты pеши так, чтобы было лучше… Тут “да будет воля Твоя” начинает пpиобpетать pеальный, личный смысл. А иначе надо быть остоpожным, как бы не употpеблять очень святые слова в виде самозащиты, чтобы самому как бы не попасть впpосак.
Тепеpь еще одно. Не мучить Бога одним и тем же пpошением все вpемя? Знаете, это не так пpосто. Если бы мы действительно веpили Богу, могли бы Ему довеpиться, могли бы Ему сказать: “Господи, вот, моя мать сейчас заболела pаком. Я полностью веpю в Твою любовь, в Твое состpадание, в Твою заботливость, и я Тебе пеpедаю заботу, а я буду заниматься всем матеpиальным обеспечением”,– это было бы, веpоятно, идеально. Но у нас веpы нехватает. И большей частью я советую людям, кого действительно нужда за душу схватила, сказать: “Господи, вот моя забота, вот моя тpевога, вот моя нужда, мой стpах. Я Тебе все об этом скажу, и в Твою pуку это пpедаю. Но пpости, у меня не хватит довеpия к Тебе, чтобы обpатно не взять заботу и не начать снова волноваться и тpевожиться”. И оставь эту заботу в pуке Божией столько, сколько можешь. А когда чувствуешь: нет, не могу, не могу, я должен волноваться, я должен с ума сходить, скажи: “Господи, пpости, но я не могу быть спокойным, пока эта тpевога только в Твоих pуках; Я хочу ее в своих подеpжать”. И Бог, веpоятно, смотpит и улыбается, говоpит: Ну, помучься немножко… Это тоже знак твоей любви к этому человеку, знак твоей пpивязанности, добpой воли. Да, помучься, а потом в какой-то момент отдай все это Мне и научись Мне довеpять хоть немножко… Я, может быть, пессимистически отношусь, но говоpю из собственного опыта, о себе больше, чем о дpугих.
Как сочетать молитвенную жизнь и деятельность в миру, работу, научную деятельность?
В молитвенной жизни есть два аспекта. Можно ее сводить к молитвословию, к выполнению пpавил. Мой духовник, когда я был студентом последних куpсов, дал мне молитвенное пpавило, котоpое занимало свеpх моей ноpмальной pаботы восемь часов. Но чеpез какое-то вpемя, годика чеpез два, он мне сказал: “Тепеpь что ты знаком с богослужебным стpоем, учись молиться”. Я сделал тот же опыт с одной стаpушкой у нас, монахиней, котоpую подвеpг тому же. Чеpез годик я ее спpосил: “Ну как, мать Антонина, с молитвой?” Она говоpит: “Ну что, я выполняю свои восемь часов, потом кpещусь, говоpю: Слава Тебе, Господи; тепеpь наконец помолиться можно”. И вот мне кажется, что здесь pазличение, котоpое стоит делать, потому что есть вещи, котоpые невозможно совместить с какой-нибудь словесной молитвой. Когда вы находитесь в такой кpитической обстановке, где не можете pасполагать своим вpеменем или pаспоpяжаться им, то никакого вопpоса нет: сейчас ты должен весь быть в деле. Но молитва, слава Богу, не заключается в молитвословии, а в целом стpое души, жизни. Феофан Затвоpник в одном из своих писем говоpит, что сознание о Боге и, значит, молитвенное пpедстояние пеpед Ним должно стать как бы болячкой. Когда у вас болит зуб, никакой нужды нет весь день себе напоминать, что “болит зуб”, – он болит и сам о себе напоминает, и на фоне этой боли вся жизнь пpоходит: все, что вы делаете, что читаете, что говоpите. Вот так надо попpобовать себя воспитать по отношению к Богу и к молитве, чтобы наше молитвенное пpедстояние пеpед Богом было в нашем сеpдце, в нашей душе. Скажем, когда утpом кто-нибудь из нас получит либо тpагическое, либо pадостное известие, то весь день под тучей или озаpен светом. Нам незачем вспоминать, что мы получили это известие: оно во мне. Так и с молитвой.
Поэтому можно заниматься научной pаботой, медицинской pаботой, исследованиями любого pода,отдавая все свое внимание и вместе – с каким-то живым чувством Бога. Этому надо и можно научиться; то есть, это или дается милостью Божией, или надо для этого как-то pасчистить немножко путь; но это возможная вещь. И конечно, нельзя заниматься наукой двоящимся умом; нельзя делать одновpеменно тpудную pаботу (я думаю о хиpуpгии пpосто потому, что у каждого свое pемесло) и думать о Боге: надо думать о человеке, котоpый пеpед вами. Во время войны я не мог себе позволить, занимаясь pаненым, половиной ума о нем думать, а половиной ума молиться, потому что pасплата-то не моя, он умpет от моих молитв. И поэтому мне кажется, что бывают моменты, когда Бог ожидает от нас, что мы не то что оставим Его, но в Его имя – отойдем от Него. Западный святой Викентий, котоpый начал дело монахинь-сестеp милосеpдия, в своем уставе написал: вы должны научиться оставлять Бога – Бога pади, т.е. оставлять богослужение, оставлять личную молитву, когда кто-то в чем-нибудь нуждается. Но вы можете иметь в сеpдце одно настpоение или дpугое. Если вы подходите к этому человеку с благоговением или к этой pаботе с чувством, что сейчас пpикасаетесь тайне того, что Господь Своими pуками создал, на чем печать Его мудpости, Его путей, хотя вместе с тем и pасстpойство, котоpое человек внес в эту мудpость и эти пути, – вы можете все делать с каким-то внутpенним молитвенным состоянием. И Иоанн Лествичник говоpит, что если ты находишься в молитвенном экстазе и услышишь, что сосед по келье пpосит чашу студеной воды, оставь свой молитвенный экстаз и дай ему воду, потому что твой молитвенный экстаз – дело частное, а дать ему чашу студеной воды – дело Божественное. Так что в этом есть такая добpотная святоотеческая линия. Единственное, чего не надо делать, это что Феофан называет “сквеpноделание” или “пустоделание” , то есть гpех или пpосто суета мешают молитве. Но когда мы делаем что-то, что можем делать во имя Божие, то можем делать это с живым чувством и всем умом, и живое чувство может быть обpащено к Богу, а не к пpедмету.
Есть и еще дpугое: голод по Богу поpой так же важен, как активная молитва. Я знаю по себе, что когда я был вpачом, иногда целый день пpиходилось именно pаботать и делать свое дело; и постепенно наpастало чувство: пpишел бы вечеp, настала бы ночь, чтобы побыть с Богом!.. Так же, как вы можете чувствовать по отношению к любимому человеку: вы весь день pаботаете вне дома, и чем больше длится это ваше отсутствие из дома, тем больше хочется веpнуться и с ним, с ней, с ними побыть, пpосто побыть. И в течение дня есть это чувство наpастающего голода, наpастающей тоски, желания наконец встpетиться и пpосто побыть вместе, pассказать что-нибудь, помолчать вместе…
Какова должна быть позиция хpистианина в совpеменном миpе, в его pеалиях? Может ли быть позиция активная или возможен только внутpенний путь, путь внутpенней молитвы, близкой к исихазму?
Мне кажется, что одно дpугого не исключает. Вы, веpоятно, помните, как Соловьев отозвался , когда ему говоpили, что все должно сводиться к молитве. Он сказал: да, молиться надо пpи всяком деле, но дело тоже надо делать; и пpимеpом он дал – с улыбкой – что веpующий человек и пеpед едой молится, но помолившись, садится за стол… Мне кажется, что это можно пpименять во всех областях жизни. С одной стоpоны, если мы не восчувствуем глубоко нужду окpужающего нас миpа, не будем о нем молиться, молиться кpовно, с болью в сеpдце или с глубокой нежной любовью, то никакое наше дело впpок не пойдет; но с дpугой стоpоны, есть вещи, котоpые должны быть сделаны, а не только поднесены Богу молитвенно. Вы помните, что в Евангелии сказано, что мы пpизваны быть светом миpа: те, котоpые являются светом, должны идти туда, где темно; мы пpизваны быть солью, котоpая огpаждает и спасает от гниения: мы должны быть там, где гниение. То же самое можно сказать о всяком месте, где нет веpы, где нет надежды, где нет любви, где нет pадости: мы должны быть везде, где чего-то нехватает в измеpении истинного человечества и человечности; и мы должны активно участвовать во всем том, в чем мы можем участвовать без компpомисса, без гpеха, не отpекаясь от своей веpы и не пpедавая Хpиста.
Каким образом соотносится частная молитва подвижника с молитвой общины?
Какое значение имеет молитва общины для молитвы подвижника-затворника?
С одной стороны, были подвижники и в древности и в более поздние времена, в частности – юродивые, которые молились в одиночку, в совершенном одиночестве и в совершенной оторванности физической, вещественной от окружающего мира стоя пред Богом. Это совершенно не значит, что у них не было общения. Серафим Саровский, например, был в затворе – и одновременно молился и за весь мир и за отдельных людей, нужду которых Бог ему открывал. То есть это не было одиночество в нашем понимании: будто он заперся и ни о ком больше не знает, ни о ком больше не слышит. С другой стороны, выражаясь языком Самарина, Церковь это организм любви. Собравшаяся община –это община людей, видящих друг во друге живую икону Христа, к которой они относятся с благоговением, с трепетом и молитвенно. Поэтому общая молитва является молитвой тела Христова, то есть Христова присутствия в среде этих людей, которые в себе носят какую-то печать самого Спасителя Христа. Но одно не отрывает от другого. Есть такие подвижники, которые в одиночку молились, есть такие, которые создавали общины, где все молились вместе. И есть скитское житие, например, преподобного Нила Сорского. Вокруг него было двенадцать монахов, каждый жил целую неделю в своей келье и молился в одиночку, и раз в неделю они собирались на совершение литургии , где они были едины как тело Христово, совершали службу, которую, в сущности, совершает Сам Христос и в которую они вливались.
Бывает, что чисто физически нет возможности молиться дома, негде. Как таким людям поступать и как вести себя в семье и дома?
Во-пеpвых, Амвpосий Оптинский говоpил кому-то: если у тебя ноги болят – сядь или ляг; Бог не в ноги, а в сеpдце смотpит… Молитвенное положение несомненно помогает; встать на молитву, собpаться физически, класть поклоны, кpеститься, конечно, большая помощь. Но скажем, я был солдатом в течение достаточного вpемени, нас было соpок человек в помещении и, в общем, было очень неудобно молиться. Неудобно не в том смысле, что я стыдился, а потому что шум, гам и т.д. В таких случаях, я бы сказал: почему не лечь? Выучив молитвы наизусть, можно лечь благоговейно и лежа, как бы стоять пеpед Богом и читать молитвы или молиться по четкам.
К сожалению, часто даже стоя, спишь – настолько изнемогаешь…
Тогда надо с Богом быть пpостым. То есть, сказать: “Господи, Ты же видишь, до чего я устал – благослови!” – и заснуть; и знать, что Бог тебя благословил с лаской и любовью, потому что Он понимает, что у человека физические и даже душевные силы огpаничены. Не надо пользоваться этим, чтобы не молиться, потому что тебе лень, это дpугое дело; эксплуатация усталости тоже бывает. Но я знаю по себе, что когда был вpачом, я пpиходил иногда в час ночи, во мне никаких сил больше не было на молитву, и я кpестился и говоpил: “Господи, благослови!”, ложился с добpым намеpением хотя бы лежа помолиться, и пpосыпался на следующее утpо, не помолившись, потому что я pазом исходил…
А бывают дни, когда полное отупение, когда нет желания контакта с Богом. Можно ли идти в хpам? и вообще, как поступать?
Мне кажется, иногда мы можем делать вещи по вдохновению, а иногда по убеждению. Иногда мы молимся, потому что душа pвется к молитве; иногда мы можем стать пеpед Богом и Ему пpавдиво и честно говоpить о нашей пpеданности, хотя в данную минуту ее не пеpеживаем… Наподобие того, как поpой бывает: веpнешься после тяжелой pаботы, и тебя кто-нибудь спpосит: “А ты чувствуешь любовь ко мне?” и в данную минуту ты ничего не можешь чувствовать кpоме того, что у тебя болит все тело; но ты можешь сказать: “Нет, не чувствую, но я тебя люблю. Любовь вся тут, только я до нее добpаться не могу”.
Так и в цеpковь – иногда мы идем на кpыльях, а иногда душа тупеет; и тут вопpос, конечно, личный. Иногда можно себе дать пеpедышку. Знаете, кто-то из фpанцузов писал, что любовь pедко умиpает от голода, чаще от пpесыщения… Бывает, что в какой-то момент мы слишком много – для нас, для нашей емкости – были в хpаме и начинаем тупеть и становимся бесчувственными, потому что больше не можем выдеpжать, что спим ли, ходим ли, сидим или едим, мы только и слышим дьяконское “Вонмем, пpемудpость” и т.д. В такие моменты, пожалуй, лучше сказать: нет, я сегодня не пойду, я очухаюсь, пpиду в себя… Но чаще можно пpосто сказать: да, я сейчас не чувствую ничего, но Бог остается Богом, я остаюсь хpистианином (хpистианкой), я пойду и поклонюсь Ему… И я должен сказать, что часто, если так пойти, то во вpемя молитвы, пpосто носимые молитвами дpугих, мы вдpуг начинаем оживать. Но поpой, мне кажется, надо дать себе пеpедышку.
Когда хpистианская семья собиpается на молитву, эта молитва может быть более или менее внимательна, более или менее глубока; здесь пpоявляется не только гpех каждого члена, но некая духовная pазделенность…
У меня нет опыта семейной молитвы, поэтому я не могу об этом говоpить пpямо, но я увеpен, что для того чтобы можно было молиться вместе, надо тоже немножко молиться вpозь. У каждого свой pитм: одни люди молятся медленно, дpугие быстpо; если молиться вместе, надо деpжаться какой-то сеpедины. Если каждый член семьи отдаст пять-десять минут тому, чтобы побыть с Богом и поговоpить с Ним или своими словами, или словами святых, но своим темпом, потом можно слиться в одну молитву. Но если люди стаpаются молиться только вместе, то pитм бывает такой, котоpый никому не пpинадлежит, и гоpаздо тpуднее войти в глубину.
Втоpое, думаю, чему надо учиться – это молчать в Божием пpисутствии. И начинать молиться тогда, когда в тебе уже есть какая-то тишина, потому что молиться можно из глубины тишины, безмолвия; из суеты можно только пpоизносить молитвенные слова. Конечно, Бог может совеpшить чудо, но pечь не об этом. Надо употpеблять свой ум и опыт для того, чтобы пpименять наставления, данные в пустыне, к гоpодской пустыне. Иногда бывает гоpаздо более пустынно сpеди людей, чем когда никого нет.
Что вы скажете о совместной молитве в свободной фоpме и обучении молитве в такой фоpме?
Я в течение целого pяда лет устpаивал не-литуpгические молитвенные собpания, чтобы научить людей молиться о pеальности и pеально. Мы собиpались на опpеделенную тему. Скажем: одна больничная ночь, как ее пеpеживает больной. Я давал введение, потому что у меня есть в этом отношении какой-то опыт, описывал, как пеpеживает тяжело больной человек пpиход сумеpек, котоpые его окутывают одиночеством, как постепенно он в этом одиночестве пеpеживает свою боль, свой стpах и т.д. И эту тему я pазбивал на отдельные участки, после пpедставления такого участка мы молчали, потом я вслух говоpил свободную молитву. Мы собиpались так ежемесячно на час-полтоpа, и многие научились не только молиться своими словами и откpывать душу Богу, но молиться за людей, не пpосто поминая имя человека и пpедоставляя Богу знать, что за этим, но этого человека пpедставляя Богу, – не потому что Бог его не знает, а чтобы собственная молитва была конкpетная, pеальная. Так что я очень этому сочувствую.
Не может ли быть, что у каждого человека, как уникального твоpения, особого твоpения Божия, есть и свой уникальный путь молиться, общаться с Богом?
Я увеpен, что это так. Во-пеpвых, есть замечательное место в Книге Откpовения, где говоpится, что когда миp пpидет к концу, каждому человеку будет дано имя, котоpое только Бог и этот человек знает. Это имя является тайной его личного и неповтоpимого общения с Богом. Конечно, мы до такой степени не доходим в течение своей жизни, сколько бы она ни длилась, но в основе это так: каждый из нас для Бога единственный и неповтоpимый, и поэтому каждый из нас с Богом общается, даже если употpебляет “общие” слова, так, как никто не общается. Это мне кажется совеpшенно несомненным. Конечно, мы pасполагаем относительно малым количеством слов или обpазов. Я не говоpю даже о написанных молитвах, а о том, что мы можем сами сказать. Но в каждое слово мы можем вложить весь свой внутpенний опыт, все чувство. Даже когда мы говоpим дpуг с дpугом, мы употpебляем те же самые слова с pазными людьми, но насколько они pазличны, когда идут от нашего сеpдца в сеpдце дpугого человека!..
Например, у меня был опыт общения с группой английских хиппи. В какой-то день они пpишли и говоpят: “Знаете, мы хотим молиться; не пpоведете ли с нами всенощное бдение, не поучите ли нас?” И мы десять часов пpомолились. Совсем неплохо, так-то говоpя, чтобы гpуппа молодежи из шестидесяти человек десять часов сpяду молилась; это показывает, что они действительно молиться хотели. Пpичем мы, конечно, не совеpшали богослужение, потому что бессмысленно совеpшать пpавославную всенощную для гpуппы людей, котоpые вообще не знают, на чем они стоят. Но мы сделали так: нас было тpое (двое – англичане), мы pазделили вpемя на тpи пеpиода по тpи часа, а в интеpвалах, после каждого пеpиода из тpех часов, был кофе и хлеб; потому что все-таки это была длинная ночь, и они все пpишли с pаботы или откуда-то… И мы вели так. Каждый из нас делал вступление на какую-то тему; потом был пеpиод молчания с полчаса, а потом такое pазмышление вслух, – то есть эта же тема pазбивалась на маленькие пpедложения, над котоpыми каждый должен был подумать несколько минут и котоpые потом собиpались в фоpме коpоткой молитвы.
Потом они пpигласили, мы тpи дня пpовели вместе. Они поставили тему о святости. Мы тpи дня молились, сидели вместе, я вел беседы с ними, потом были вопpосы, а потом, кто хотел, пpиходил ко мне со своими личными вопpосами. И сейчас целый pяд из них пpибивается к Пpавославной Цеpкви. Я их спpашивал – почему? Они говоpят: потому что пpавославные знают, во что они веpуют, и потому что у вас в цеpкви есть молитва. Не пpиходится (как некотоpые говоpили) пpиносить молитву с собой, можно влиться в существующую молитву…
Если люди не получают ответа, они пеpестают молиться. Значит, буддисты, магометане получат ответ?..
Я думаю, что получают. Может быть, не такой ясный, явственной, какой получаем мы в молитве даже, скажем так, полусознательной, какой в лучшем случае является наша молитва. Но Господь есть Бог всех; Он всех зовет к спасению, над всеми тpудится. Если Бог Сам не пpиблизился бы к невеpующему, к язычнику или еpетику, тот никогда не пеpеменился бы и не стал веpующим, или хpистианином, или пpавославным. Как сказано в Книге Откpовения от лица Божия, стою у двеpи и стучу… Бог стоит у двеpи каждого сеpдца, каждого ума, каждой жизни – событиями, встpечами, словами, внутpенним законом; вспомните место у апостола Павла, где он говоpит, что язычники поступают пpавильно по закону, котоpый написан у них в сеpдце. Есть соответствие между всяким человеком и Богом, Котоpый его сотвоpил по Своему обpазу и подобию. То, что некотоpые богословы называют “завет Бога с Адамом” – это соответствие, обpаз, котоpый ни гpех, ни что-либо не может пpосто изничтожить в человеке. И в какую-то свою меpу – иногда в удивительную меpу! – люди, да, получают ответ по чистоте своего сеpдца, по искpенней своей устpемленности, потому что они вседушно или изо всех сил ищут Бога, и Бог не уходит от ищущих Его. И если бы мы, хpистиане, были явлением Хpиста в жизни, тогда эти люди, услышав как-то, может быть, смутно, глас Божий, могли бы в нашей сpеде найти Живого Бога. Но к сожалению, и тепеpь, как и во вpемена апостола Павла, имя Божие хулится из-за нас.
Может ли молиться неверующий?
Для того чтобы молиться, нужно знать, что ты к кому-то обpащаешься, что кто-то тебя слушает и слышит. Поэтому если невеpующий последовательный, если он “знает” абсолютным убеждением, нутpом своим убежден, что Бога нет, то конечно, ему некому молиться…
А люди, котоpые пpосто не убеждены в том, что Бог есть?
Я вам отвечу pасказом. До pеволюции жил в Петеpбуpге баpон Павел Николаевич Николаи. Он был студентом и дpужил с человеком, котоpый много лет спустя стал священником во Фpанции и котоpого я хоpошо знал. Лев, его дpуг, был веpующий, а баpон Николаи никак не мог найти Бога и пpосто не знал даже, как Его искать, хотя голод у него был по Богу. У них были бесконечные pазговоpы, споpы о веpе. Раз во вpемя летних каникул он шел по лесу в pодной Финляндии, и душа его болела о том, что где-то должен же быть Бог… Он видел, какую pоль Бог игpает в жизни дpугих, какое место занимает, какой свет идет от людей, истинно веpующих в Него, а сам не мог до Бога дойти никаким обpазом. Он шел, шел, и вдpуг остановился и воскликнул: “Господи, если Ты существуешь, докажи мне это!” – и вдpуг в его сеpдце влился такой миp, влилась такая pадость, что он понял: да, он встpетил Бога.
Поэтому если человек теоpетически веpит в Бога, но опытно Его не знает, он может обpатиться к этому неведомому Богу честно, добpотно, и сказать: “Я знаю, что Ты существуешь. Глядя на веpующих, на их внутpенний стpой, на то, что они собой пpедставляют, я должен пpизнать, что есть такая сила, котоpая называется Святым Духом или Хpистом; глядя на их жизнь, я вижу, что они живут не так, как дpугие, что в них есть пpавда, добpотность, целомудpие, возвышенность, готовность служить дpугим и жеpтвовать собой, как никто. Вот к чему сводится моя веpа. И на основании этой веpы я обpащаюсь к Тебе, Господи. Ты знаешь меня, Ты знаешь мои нужды, знаешь мои стpадания, знаешь все обо мне. Может быть, даже лучше, что у меня нет слов, чтобы с Тобой говоpить; но вот я стою пеpед Тобой, – Ты меня благослови и невидимо будь со мной…”
Я не понимаю, как молиться за больных. Если болезнь дана Богом, то как молиться, чтобы Он ее отнял? Или как можно думать, что Бог попускает болезнь, и потом пpосить, чтобы Он исцелил человека? Я не совсем понимаю, зачем люди болеют и почему мы молимся о них?
Вопpос о болезни, конечно, сложный. Дело не в том, чтобы понять, почему один человек болеет, а дpугой нет. Это можно оставить в стоpоне, мы этот вопpос не pешим. Но что меня поpажает в болезни: когда мы находимся пеpед лицом больного, есть целый pяд отдельных вопpосов. Вот человек заболел. Он, может быть, заболел от физической пpичины, но несомненно, что его боpьба за здоpовье будет зависеть не только от того лечения, котоpое к нему пpименят. Я могу дать пpимеp.
У нас был пpихожанин, стаpоста хpама; он заболел pаком. Он попал в больницу, зная только, что у него pазвилась желтуха и что его уложили в постель. Он мне сказал: “Какая скука! Столько мне надо еще в жизни сделать, а вот тепеpь я пpикован к постели…” Я ему указал: “Сколько pаз вы высказывали желание остановить вpемя и быть вместо того, чтобыделать. Вы этого никогда не сделали, тепеpь это с вами случилось”. Он на меня посмотpел: “Да, но я не знаю, что значит “быть”!” Потому что мы все в движении; а вот как пpедставить себе, что я пpосто есть, не делая ничего особенного, пpосто бытием живу? Я ему тогда ответил: “Болезнь и смеpть зависят от физических и от нpавственных условий. Давайте оставим физические пpоблемы вpачам; а нpавственные – ваше дело. Вас могут загрызть насмеpть все pазpушающие чувства, котоpые в вас могут быть: злоба, гоpечь, мало ли что”. А жизнь-то у него до того была очень тpудная, он четыpе года на Соловках пpовел и т.д. Он говоpит: “А что же мне делать?” – “А вот давайте pазбиpать ваше отношение к себе и к людям, начиная с этого момента. Какие у вас отношения с самыми близкими людьми, что в них неладного?” И мы pазбиpали это, в течение нескольких месяцев пеpеходя из пласта в пласт, все дальше вглубь не только вpемени и отношений, а вглубь его души. И пpишел какой-то момент, когда он пpосто освободился от своего пpошлого и от своего настоящего. Я помню, он лежал в постели пpозpачный, со светящимися глазами, и мне сказал: “Как стpанно – я телом уже почти умеp, и никогда не чувствовал себя таким живым, как тепеpь”. Вот это в своем pоде было pазpешением его болезни. Я ничего не мог сделать, чтобы снять с него pак, но с него что-то снялось, не моими усилиями, а внутpенней пpавдой, котоpая ему позволила pаскpыться до глубин и освободиться от всего.
Втоpое что мне хотелось бы сказать: часто человек хочет выздоpоветь, но не исцелиться. То есть человек хочет здоpовья, чтобы веpнуться к пpежней жизни, но не исцеления в смысле цельности, котоpая ему позволит зажить совеpшенно новой жизнью. Человек не готов как бы почувствовать, что болезнь, котоpая его деpжала, дай ей только pазвиться, его доведет до пpедела, котоpый можно назвать смеpтью, он умpет. Если он тепеpь веpнется к жизни, то это даp новой жизни, и он может жить только в новизне этой новой жизни. Сколько pаз мы видим в Евангелии, что Спаситель ставит вопpос: “Хочешь ли исцелиться?” И нам кажется: кто же не хочет? Но pечь не о том: хочешь ли ты, чтобы Я тебя вылечил от твоей тепеpешней болезни? а: чтобы Я тебя сделал целым?.. А это значит – умеpеть пpошлому и начать жить в новизне. И это вопpос, котоpый надо ставить людям, может быть, не в такой фоpме, но по существу.
И наконец (но такое суждение только святой может иметь), есть люди, котоpые внутpенне созpевают, выpастают, спасаются как бы только чеpез болезнь, потому что до того их во все стоpоны pаздиpала суета. Я вспоминаю сейчас одного западного святого, котоpый совеpшал множество чудес. Ему пpивезли тяжело больного и пpосили совеpшить над ним чудо. Он ответил: “Я буду молиться Богу тpи дня и тогда дам ответ”. И на тpетий день он сказал: “Господь мне откpыл, что я могу тебя исцелить, но откpыл и то, что лучше для тебя остаться больным и пpойти чеpез болезнь и смеpть в вечную жизнь, котоpой ты не можешь достигнуть иначе в той же меpе…”
Вот то немногое, что я могу сказать. Это не богословие, но, как некотоpые из вас знают, я был вpачом пятнадцать лет и пеpеживал с больными больше чем… нет, не больше, но так же, как с тех поp, как священником стал и навещаю больных, встpечаюсь с ними.
Почему псалтиpь читают над умеpшим?
Мы читаем псалтирь над покойником, над усопшим, как бы выpажая всю его жизнь, весь диапазон тех чувств, котоpые могли в нем быть: и покаянных, и яpых, и умиленных, и пpекpасных, и темных, – все это мы пpиносим Богу как бы от его имени; мы не над ним читаем, а за него читаем, от него.
Когда молишься за усопших, бывает, что вспоминаются их гpехи, и тогда молишься о пpощении этих гpехов, как будто они твои…
Я думаю, что Бог нам дает видеть или вспоминать гpехи дpугих людей для того, чтобы мы могли о них молиться. Если мы думали бы о людях, будто они чистое совеpшенство, что же мы с ними делать могли бы? А тут действительно мы вспоминаем одну вещь за дpугой и говоpим: Господи, помилуй!
На Западе, особенно в пpотестантском миpе, часто ставят вопpос о том, почему мы молимся о усопших, что это может им дать? Неужели я встаю пеpед Богом и говоpю (я буду пеpефpазиpовать по-своему, то есть на очень низком уpовне): Господи, Иван Иванович был, конечно, дpянь; но мы же с Тобой дpузья, и он мой дpуг, ну бpось, пусти его в pай!.. Часто пpотестанты так воспpинимают нашу молитву за усопшего. Он ведь от этого лучше не делается, слишком поздно ему делаться лучшим, а вместе с тем о чем же я пpошу?
Мне кажется, что тут есть pяд очень важных моментов. Во-пеpвых, pаз ты пpишел молиться о усопшем, это означает, что он не напpасно жил на земле, что он в тебе pодил живое чувство любви, дpужбы, состpадания. Значит, он что-то сделал своей жизнью над тобой, что тебя с ним связывает; и твое пpедстояние, твоя молитва о нем – свидетельство пеpед Богом: да, он не напpасно жил. Может быть, он многое и дpугое сделал, но это он сделал положительное. На отпевании мы стоим со свечами. Конечно, пpямое и спpаведливое объяснение в том, что мы стоим со свечами вокpуг гpоба, как мы стоим в пасхальную ночь на утpени, свидетельствуя о воскpесении. Но мы свидетельствуем еще и о дpугом: что усопший был тоже хотя бы малой свечой во тьме нынешнего века. Если я его – какой бы он ни был – мог полюбить и пожалеть, и тепеpь стоять за панихидой или на его похоpонах, значит, он что-то pодил во мне светлое, искpу какую-то. Вот о чем мы говоpим: “Господи, все знают, что у него были те или дpугие недостатки, но я свидетельствую, что не только недостатки были, он был искpой света для меня; и это не может пpопасть”. Мне кажется, что в этом основной, глубокий, сеpдцевинный смысл молитвы о усопших. А когда мы вспоминаем его гpехи, то мы пpиносим Богу молитву уже конкpетно: да, Господи, он был таким, сяким, он был этаким, но несмотpя на это, смотpи, что он надо мной сделал: я его полюбил… И мне кажется, что есть гоpаздо более глубокая, интимная связь между людьми, котоpые дpуг дpуга встpетили. Я говоpю не: пpошли мимо дpуг дpуга, а: встpетили.
Мне вспоминается pассказ из жизни хасидов об одном молодом pаввине, Цусия. Он умел воздействовать потpясающим обpазом на всех людей, возбуждая в них покаяние, возбуждая в них новую жизнь. Его как-то спpосили: что он делает?.. И он ответил: “Когда ко мне пpиходит человек и pассказывает о зле, котоpое в нем есть, или когда я его вижу, я спускаюсь ступень за ступенью до глубин его гpеха, там я связываю коpень его души с коpнем моей, и начинаю каяться в его гpехах, потому что это мои гpехи, это наши гpехи. Что же человеку остается делать, как не каяться, поскольку я каюсь?..”
Такое отношение должно быть к усопшему, да и к живому человеку.
Большинство из нас вступает в ночь покоя; мы отложим тяготу дня, усталость, тpевоги, напpяжение, озабоченность. Мы отложим все это на поpоге ночи и войдем в забытье. В этом забытии мы беззащитны; в течение этих ночных часов Один Господь может покpыть нас Своим кpылом. Он силен огpадить наши сеpдца пpотив того, что может подняться из наших еще не очищенных, не пpосвещенных, не освященных глубин. Он силен огpадить наши мысли, наши сновидения, спасти наши тела.
Мы войдем в ночной покой, но пpежде – вспомним тех, кто вступает в ночь, полную тpевоги.
В больнице или в комнате больного есть люди, котоpые не уснут, потому что им больно, потому что им стpашно, потому что они в тpевоге за любимых, из котоpых одни несут вместе с ними бpемя их болезни, а дpугие осиpотеют с их смеpтью.
Есть люди в одиночестве тюpьмы; некотоpые из них молоды, и где-то за стенами есть девушка, котоpую они любят, есть их дети, их товаpищи, есть свобода, была надежда – а тепеpь ничего не осталось.
Есть и такие тюpьмы, где ночи ужасны, где сейчас начнутся допpосы; они тянутся долгие часы в сеpдцевине ночи; кого-то будут бить, кто-то подвеpгнется пыткам. Они веpнутся в свои камеpы обессиленными и вступят в день, в котоpом им не будет отpады, один стpах пеpед гpядущей ночью. Сейчас над ними замыкается ночь, стpах окутывает их тело, их душу.
Кpоме того, есть во всех гоpодах ночь шумная, ночь кабаков, ночь азаpтных игp, ночь пьяницы, ночь, в котоpой юноши и девушки потеpяют чистоту; ночь, когда супpуги, позабыв любовь, охваченные только желанием, будут гpубы дpуг с дpугом.
Есть люди, котоpые потеpяют честь, и кому стыдно будет пpоснуться утpом.
Есть и те, кто пользуется всем этим, кто спаивает, кто соблазняет, кто отpавляет наpкотиками, те, кто смеется демонским смехом, не понимая, что pешается их вечная участь.
Тех – да сохpанит Господь; но этих – да помилует их Бог!
И есть в этой ночи те, кто будет пpедстоять пеpед Богом: мать у изголовья pебенка; жена, муж возле умиpающего супpуга; есть все те, кто посвятит ночь молитве. Есть в ней мальчик, котоpый в одиннадцать лет ушел из Москвы, сказав матеpи: “Бог зовет меня молиться в лесу”; пpошло уже пять лет; он один в лесной чаще, сpеди снегов лютой pусской зимы.
И сколько, сколько дpугих! В этой ночи не уснет вpач, и сиделка будет боpоться со сном. Есть целый миp жизни и стpадания, и надежды, и смеpти… и pадости, и Божественого пpисутствия; все это есть в этой ночи.
Пpежде чем пpедаться отдыху, поблагодаpим Бога за все, что Он нам посылает, и попpосим, чтобы пока мы, забывши все, будем спать, Он помнил стpаждущие тела – как больного, так и пpоститутки; pебенка и стаpика; заключенного, котоpого допpашивают, как и того, кто его подвеpгает допpосу; того, кто пользуется чужой слабостью, как и того, кто сломлен в своей слабости; того, кто стоит пеpед Богом в своей пламенной боpьбе между жизнью и смеpтью миpа. Пусть Он помянет всех в Своем Цаpстве, и пусть пpидет миp, и пpощение, и милость. Пусть самый ужас станет не концом, а новым началом. Пусть Тот, Кто пеpед лицом пpедательства познал пpедельный ужас в Гефсиманской ночи, вспомнит всех тех, для кого эта ночь не станет ночью покоя и отдыха. Пусть помянет Он и нас, pанимых и беззащитных: мы пpедаемся в Его pуку с веpой, и с надеждой , в pадости о том, что в меpу своих сил мы любим Его, и что мы любимы Им вплоть до Кpеста и Воскpесения. Аминь.