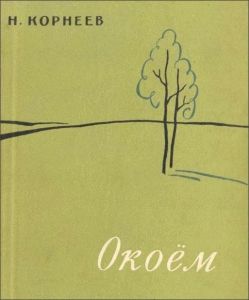
ВЫСОТА
На рассвете – в бой.
Березки стынут.
Лед пробей, умойся из ручья.
Меж двумя высотами – лощина.
Узкая. Глубокая. Ничья.
Кто устал – усталости не верьте,
Кто не спал – поймите, что война.
Ведь на фронте и до самой смерти
Иногда обходятся без сна.
Мина надо мною пролетела,
Очертив гудящую дугу;
Чье-то искалеченное тело
Тихо костенеет на снегу.
Звезды светят холодно и тускло,
В облаках запуталась луна.
Крутизна простреленного спуска,
Смертного подъема крутизна.
…Утра даль, огромна и тревожна,
Вспыхнула в особой красоте.
Нам понятно:
Мы теперь на должной –
У врага отбитой высоте!
ВОРОН
На суку восседает ворон,
Вороненый, как пистолет.
До солдатского разговора,
Видно, ворону дела нет.
На орудья он смотрит тупо:
Он спокоен теперь, он сыт,-
Много, много солдатских трупов
На несжатых полях лежит.
Может, завтра, на этом месте,
Оборву я предсмертный стон.
Он, наверно, прожил лет двести
И еще проживет лет сто.
Черной смерти картавый вестник,
Он столетие напролет
Проживет без любви, без песни
И без радости проживет.
Я, обстрелом к земле пригнутый,
На снегу встречая рассвет,
Не отдам и одной минуты
За вороньих полтысячи лет.
ВЫСОТА НА БРУСТВЕРЕ
Нас опозданием измучив,
Весна пришла
и наяву
Из камня выжала траву
И высекла огонь из тучи.
И после боя,
в тихий час,
Когда орудья отгремели,
Я понимаю, что у нас
С весной одни и те же цели.
Так пусть меня
в окопном рву
Весна по-дружески научит
Из камня выжимать траву
И высекать огонь из тучи.
МЫ ВМЕСТЕ
После бомбового удара
Город в обмороке лежит.
Оплетает огонь пожара
Оглушенные этажи.
Ты бежала.
Дома клонились.
Впереди – не видать ни зги.
Клочья платья еще дымились.
Ты звала меня:
– Помоги! –
Ты звала меня реже, тише.
Но за триста военных верст
Я твой голос в бою услышал –
И к прицелу мой взгляд примерз.
Были пальцы тверды на спуске,
Я – все дальше.
Редеет тьма.
Ты писала, что в нашем Курске
Перестали пылать дома.
Ты писала, что побывала
В разбомбленном своем углу:
Там одной стены не хватало.
Потолок лежал на полу.
Без меня ты ломала спину,
Неприветлива, но добра,
Без меня ты месила глину
И носила песок с бугра.
Ты почти по-мужски трудилась.
Перед сном – не поднять руки.
Нелегко тебе приходилось.
Ты звала меня:
– Помоги! –
Ты звала меня реже, тише,
Чтоб я слышать тебя не мог,
Но за тысячу верст был слышен
Теплый шепот твой, легкий вздох.
Я прицел находил с полвзгляда.
Я совсем не считал дорог.
И других мне похвал не надо,
Лишь бы слышать, что я помог.
КУРСКИЙ СОЛОВЕЙ
На слух, как песню, узнаю
Мои край, сады мои.
Нигде так славно не поют
Весною соловьи.
На фронте кто бы ни спросил
О родине моей,
Обрадованно говорил:
– A-а, курский соловей!
И улыбался невзначай
Светло, как будто я
Принес им на передний край
В котомке соловья.
Я был вконец смущен, – ведь я,
Как и они, солдат.
И есть в котомке у меня
Лишь хлеб да самосад.
Но подхватили все вокруг:
– A-а, курский соловей! –
И я почувствовал, что вдруг
Всем стало веселей
И хоть мой голос испугать
Мог насмерть соловья,
Я вашей кличкой – что скрывать?
Доволен был, друзья!
МАТЬ
Е. Погребной, бригадиру
добровольческой строительной
бригады в годы восстановления
Курска.
1
Уже, наверно, целых две недели
Лежит в старинном маленьком ларце
Бумажка, от которой почернели
У матери морщины на лице.
Она звалась в народе «похоронной»,
Бумажка, вдвое сложенный листок.
Мать на крыльце утрами почтальона
Не ожидала, кутаясь в платок.
По вечерам судьбу не тасовала,
Раскладывая карты на столе,
О снах своих ни с кем не толковала.
Что толковать?
Ведь он – в сырой земле
Что карты, коль разлука гробовая,
Что сны, коль нету встречи впереди…
Но все живое, не переставая,
О нем, о мертвом, матери твердит:
Вот девушка – он с нею вырос вместе,
И, может быть, он был бы счастлив
с ней…
Вот старый клен – с него он падал
в детстве…
Вот птицы – он не мог без голубей…
И даже – вещи. Не о нем ли книга
Страницей каждой шепчет горячо:
Он помнил путь двухмачтового брига.
Он в ней живет, раз он ее прочел.
А самовар? Сверкая медной крышкой,
Он напевает тихо об одном:
Как угольки в нем раздувал мальчишка,
Ее мальчишка,
рваным сапогом.
А молоток, пила, рубанок, клещи?
А этот самодельный шкаф для книг?
Нет, в целом доме не найдется вещи,
В которой бы не ожил он на миг.
Он воевал, но как была богата
Она, старушка в вязаном платке!
Была богата счастьем ждать солдата
Домой, с одною сумкой, налегке.
Она в той сумке клад любой отыщет,
Хоть будет сумка попросту пуста!
Он не придет.
Мать сразу стала нищей.
Как жжет, как давит эта нищета!
2
В дыру дверную мать вошла вздыхая
И, паутину отряхнув с лица,
О кирпичи и доски спотыкаясь,
Прошла по коридору до конца.
Потом вернулась к лестнице.
Перила
Обломаны. (Починят. Но когда ж?)
Чуть юбку приподняв, она всходила,
Боясь сорваться, на второй этаж.
Вот школьный зал.
В углу – клочки тетрадки,
У глобуса пробита голова.
Поваленные пальмовые кадки,
И на паркете в трещинах – трава.
Корзинку опустив на подоконник
(Картофель, лук и крынка молока).
Мать со своим упорством неспокойным
Добралась наконец до чердака.
Чердак темнел паучьими углами,
Вверху торчали гвозди из досок,
Наклонной горкой сложенные рамы
Стояли от нее наискосок.
Они два года света не видали,
Чердачная клубилась полумгла,-
Так для чего ж в них мастера вставляли
Прозрачные квадратики стекла?
Седую пыль концом платка отерла
И удержать улыбки не могла,
Когда вдруг «зайчик» заиграл на стеклах
Пятном живого света и тепла.
Домой шла пригорюнившись.
Слезинка
Светилась каплей солнца на щеке.
Уже у дома вспомнила: корзинка
Там на окне осталась, в уголке.
3
– Надюшенька! Ты нынче дома?
– Дома.
– А я к тебе потолковать зашла.
Ведь ты – наш председатель уличкома. –
Мать огляделась.
Села у стола. –
Я нынче утром побывала в школе.
В той самой, где без малого семь лет
Учился мой… ты знаешь… Анатолий…
Его теперь-то и на свете нет…
Спалить хотели школу душегубы.
Но починить-то все же можно дом. –
Мать вытерла платком сухие губы,
Простое слово находя с трудом. –
Вот если б так:
собраться, сговориться
И каждый день, хотя бы два часа,
Всей улицей нам в школе потрудиться! –
…Тепло светились грустные глаза.
4
Июльским жарким солнцем разогретый,
Держа газету трубкою в руке,
Товарищ председатель райсовета
От школы проходил невдалеке.
Он шел в совет и думал, что не очень
Дела с ремонтом нынче хороши.
Вот школа ждет. Но где найти рабочих?
Строителей свободных – ни души.
И матерьялов не дают. Известно,
Один ответ: на месте изыщи!
«Но, черт возьми, откуда это песня?
Да что я вижу? Глина! Кирпичи!
Строители? Но это просто чудо!
Несут кирпич и подают раствор…
Идет ремонт! Да кто ж они, откуда
– И как же я не знаю до сих пор?»
Он даже вдруг почувствовал обиду:
«Поставили б в известность райсовет…»
Но подошел не подавая виду.
– Ударницам строительства привет! –
А про себя: «Народ, конечно, слабый.
Но зря не любит времени терять».
– Мне надо бы поговорить с… прорабом…
Кто здесь прораб?
– У нас прорабом Мать! –
Старушка вышла – руки в липкой глине.
О многом бы хотелось рассказать.
– Пусть будет школа памятью о сыне.
Он здесь учился… он – убит…
я – мать… –
Ему подольше подержать хотелось
Ее ладонь в своей большой руке.
Какая сила и какая смелость
У ней, старушки в шерстяном платке!
5
Пришел сентябрь.
И в белом школьном зале.
На стол поставив
новый табурет,
Мальчишка с лучезарными глазами
Прилаживает Матери портрет.
Ему друзья завидуют.
– Повыше!
– Подвинь чуть вправо!
– Не умеешь ты! –
Но он друзей как будто и не слышит.
– Уже прибил! Давайте-ка цветы!
– Да разве так?
– Стекла не вытер даже!
– Шнур подтяни!
– Ровней! Еще ровней!
– Держи цветы!..
Ну кто сегодня скажет,
Что нет у этой Матери детей?
ОШИБКА ВРАЧА
Я так и знал. Мне это не впервой:
Легко рубец огладив фронтовой,
Врач говорит, качая головой:
– Тут ясно все. Негоден к строевой.-
Я раньше спорил, а теперь привык.
И я стою. И я молчу, как штык.
Но о молчаньи о таком никак
Не скажешь, что оно – согласья знак.
О ПОКОЕ
В редкий час,
Когда я мог хоть малость
Отдохнуть – винтовка под рукой.
Мне твердила цепкая усталость,
Что желанный мир – это покой.
Я его не представлял в деталях:
У солдата времени в обрез.
Снова бомбовозы налетали,
И опять я на высотку лез.
…Заросла воронка у дороги,
Сладок мирный запах чебреца.
Кончились воздушные тревоги,
Но земным тревогам нет конца.
Поднимают нас они с рассветом.
Чтоб идти, как говорят, в штыки..
Может, и жалеет кто об этом,
Но, конечно, не фронтовики.
“КАТЮША”
Нет, не докопаться:
кто впервые,
Удивив находкою свой взвод,
В те денечки злые, штурмовые,
Так назвал гвардейский миномет.
Нет, не сохранилось точной даты,
Неизвестны месяц и число,
Только имя – помните, солдаты? –
Сразу к миномету приросло.
И повсюду утвердилось сразу,
Словно все мы думали одно.
От лесов карельских до Кавказа
Нами узаконено оно.
Ласковое: мы не озверели
И не растеряли доброты.
Мирное: не мы ведь захотели,
Чтоб росли у холмиков кресты.
Сколько человечности и веры
В имени роднейшем из родных!
Шли на нас и «тигры», и «пантеры»,
Мы с «катюшей» нашей шли на них.
Чтоб не ошибиться, кто впервые
Так назвал гвардейский миномет,
Надо прямо говорить:
Россия!
Надо прямо говорить:
народ!
ЧЕРНАЯ ПОВЯЗКА
Я ранен минным был осколком
В причерноморской стороне.
Кой-кто считает, что неловко
Об этом говорить при мне:
Мол, тут особое раненье,
И от души нам жаль бойца.
Пусть пострадало б только зренье.
А то – и красота лица.
До гроба – горькая примета –
Носить повязку иль протез.
Ходить и не видать полсвета,
Ходить – отпугивать невест.
Нет!
Умолчанье не врачует
Крещенных ливнем огневым.
И от души сказать хочу я
Доброжалетелям моим:
Конечно, рана – не подарок,
Но все случается в бою.
И силы тратите вы даром
На жалость тихую свою.
Повязку черную носил я,
Но ей лица не зачеркнуть
И гордых девушек России
Ей никогда не отпугнуть.
Они своей обходят лаской,
Любовью, верной и большой.
Не тех,
кто с черною повязкой,
А тех,
кто с черною душой.
А если говорить без фальши
О зреньи, остроте его, –
Я сердцем вижу
глубже,
дальше,
Чем до раненья моего.
Да, нам хлебнуть всего досталось –
Один без ног, другой – без глаз,
Но нам, друзья, нужна
не жалость –
Нужна нам правда без прикрас.
САПОЖНИК БЕЗ САПОГ
Он шьет такие сапоги
(Хотите поглядеть?),
Что их бы впору на парад
И маршалу надеть.
Ножом, иглою, молотком
Орудует как бог.
Сапожник – лучше не найти,
Да сам-то без сапог.
Подчас он пошутить не прочь:
Мол, погляди, сосед,
Столяр мне обувь смастерил.
Ношу – износу нет.
Спросил однажды у него
Заказчик – генерал:
– А где же, брат, в каких местах
Ты ноги потерял? –
Ответил:
– Я их не терял.
Товарищ генерал,
Фашист снарядом под Орлом
Их напрочь оторвал. –
Ушел задумчив генерал.
А он себе все шьет,
Детей до коликов смешит
Да песенки поет.
Такие песенки поет,
Что всем охота в пляс.
Такие песенки поет,
Что в слезы вводит нас
Однажды в праздник он шагал
На громких костылях
И от жены не отставал
При этом ни на шаг.
Приятель встретился ему,
Навеселе слегка.
– Ты почему, Фомич,- себя
Не бережешь никак?
Зачем ходулями стучишь
Ты по каменьям здесь?
Мотоколяска у тебя
Уже с полгода есть.
– Да, есть она, и я ее
Не то чтоб берегу,
Но сидя жить,
но лежа жить
Не буду! Не могу! –
И зашагал Фомич вперед.
Жене:
– Не отставай!
А то останешься одна.
Ты это так и знай! –
Шагай, Фомич!
Нам петь и петь.
Детей смешить и шить,
С людьми дружить,
беду крушить,
Нам жить, и жить, и жить!
МАМА
1
Ей мало надо, старой маме:
Рукой коснись ее волос,
Ее морщин коснись губами, –
И мама счастлива до слез.
Всю жизнь не знавшая покоя
От малых и больших тревог,
Она простит тебе такое,
Чего б никто простить не мог.
И пред лицом ее усталым
Ты, выпрямляясь в полный рост,
Уже во что бы то ни стало
Во всем поверишь ей всерьез.
Старушка в платье блекло-желтом,
Она в тревоге весь свой век,
Чтоб до конца свой путь прошел ты.
Как настоящий человек.
2
Я детство стал все чаще вспоминать,
Стучась в оконца памяти упрямо.
Ты мне не говорила: «Стыдно лгать»,
Но от тебя я лжи не слышал, мама.
Я от начала вспоминаю путь,
Он открывался тропкой золотою.
Ты мне не говорила: «Добрым будь».
Но вся светилась ясной добротою.
Я все беру из чистых тех глубин,
Где свежесть трав и солнца повороты.
Ты мне не говорила: «Труд люби»,
Но я тебя не видел без работы.
Ты не слагала мужеству похвал,
О доблести со мной не говорила,
Но лишь на фронте понимать я стал
Твое бесстрашье, выдержку и силу.
Когда я слышу, что похож на мать,
От тех, кого не обвинишь в обмане.
Я знаю, как мне это понимать
И кто по праву здесь на первом плане
Не цветом глаз и не рисунком губ
Мы с ней почти до совпаденья схожи,
А тем немногим, что в себе могу,
Не покривив душой, назвать хорошим.
3
Знаю, мама, подчас к тебе
Мысль в ночи подползает скользкая.
Что заметно я огрубел,
Под огнем по-пластунски ползая;
Знаю, в сердце твоем есть грусть,
Оттого что я месяцами
Не целую тебя,
стыжусь
Прислониться,
как в детстве,
к маме.
Нет, не грубость во мне росла
Меж израненными курганами.
Это те, кто сидел в тылах,
Глохли, делались деревянными.
Я с винтовкой в боях носил
Инструмент немудреный шанцевый,
Но у времени не просил
Для души оболочки панцирной.
Просто там,
посреди войны,
Под грохочущими ударами,
Чувства вызрели,
так сильны,
Что не высказать их
по-старому.
ВЕНГЕРСКАЯ ГРЕНАДА
Весны закипающий шум
Любили мы слушать с ним прежде…
О друге моем я пишу.
Который убит в Будапеште.
От края родного вдали,
В клубящейся мгле ошалелой.
Сквозь самое сердце прошли
Навылет
«скрещенные стрелы».
Но видится друг не в бою.
Шагая со мною по саду,
Он снова читает свою
Любимую с детства «Гренаду».
О хлопце, что шел воевать
Не славы, не почестей ради,
А землю желая отдать
Крестьянам в далекой Гренаде.
Он эти стихи наизусть
Твердил мне не громко, но внятно.
Большая испанская грусть
Сердцам нашим очень понятна.
В земле сталинградской лежит
Твой мальчик, твой сын, Ибаррури.
Закованный в цепи Мадрид
Чело свое смуглое хмурит.
..Я знаю: приказ – не совет,
И в армии всё – по приказу.
Идти в Будапешт или нет,
Его не спросили ни разу.
Но, если б спросили всерьез,
Горяч, но спокоен и светел.
Мой друг бы на этот вопрос
Стихом из «Гренады» ответил.
Он все понимал хорошо.
Всем сердцем он чуял:
так надо.
Он взял пулемет и пошел.
Он понял, что это – Гренада.
ВРАГИ
Люди, я любил вас!
Будьте бдительны!
Ю. Фучик
Когда,
умыто докрасна,
Сгоняя тьму,
восходит солнце,
Ночь не уходит вся –
она
По закоулкам остается.
Тут,
прячась в тихие углы,
Окошки плотно занавесив,
Ютятся
выкормыши мглы,
Скрипят,
размазывают плесень.
При свете смрадного огня
Нам беды всякие пророча,
Тут счет ведут
ошибкам дня,
Молчат
о преступленьях ночи.
Из этих дыр,
из этих нор,
Что к настоящей правде глухи,
На свет дневной,
на наш простор,
Как гады,
выползают слухи.
Но, извиваясь и скользя,
Выискивая щели в быте,
Они взывают к нам:
«Друзья!» –
Чтоб нас ужалить ядовитей.
Они взывают к нам:
«Друзья!»
Они выискивают случай.
Нет!
Людям забывать нельзя
Про твой завет,
товарищ Фучик!
ПОЕТ ЯПОНКА
Ночь над трибуною светла, –
Теперь мы видим сквозь года:
Вот – девушка.
Она жила
В том дальнем городе,
когда,
Весь город обращая в морг,
Поднялся ввысь из пелены
Гриб взрыва – адский людомор,
Поганка атомной войны…
А девушка поет, поет!
Ту песню сжечь не удалось,
В ней вера – не убить ее,
Решимость – не сломить ее.
Как не сломить земную ось!
У ЦАРЬ-ПУШКИ
Она стоит не за леском,
А в самой гуще многолюдья.
Скорей – по виду – телескоп,
Чем смертоносное орудье.
И славиться в столетьях ей
Нe грохотом, не счетом трупным,
Не древней прочностью своей
И не калибром самым крупным
Из Черной Африки поэт
И мастер пушечный с Урала
Решили:
«Лучших пушек нет:
Она за триста с лишним лет
В людей
ни разу
не стреляла».
ВЕРШИНА
Вступили люди в многоборство
С той крутизной.
Где нет дорог.
Гранит
Живому их упорству
Завидовал бы, если б мог.
Пусть крут подъем, –
Характер круче
У тех, отважных,
Кто рожден,
Чтоб сверху вниз
Смотреть на тучи.
Стоять
Не под,
А над
Дождем.
Они тропинкой пол-аршинной,
Вдыхая грозовой озон.
Пройдут,
И новая вершина
Откроет новый горизонт.
КТО ОН?
Самолет разбился на заре.
День прошел,
и двое, трое суток.
Человек заметно постарел.
Он не спит ни часу, ни минуты.
Иногда заговорит с собой,
В голосе – то горечь, то угроза.
А в глазах, в губах, в морщинах –
боль.
Начисто сжигающая слезы.
Может, сына он лишился?
Нет.
Дочери? Жены?
Здоровы. Дома.
И среди погибших – не секрет –
Не увидел он имен знакомых.
Не было знакомых там имен.
Но опять не спит он,
пишет что-то…
Что-то вспоминает…
Кто же он?..
Трудно вам, конструктор самолета!
БОЕВОЙ ЛИСТОК
Сейсмографа внезапный росчерк…
Весь город вздрогнул и погас.
Театр упал лицом на площадь,
И склад взорвался, как фугас.
Железо гнулось,
сталь ломалась,
Качалась горная гряда.
Земная твердь,
как в шторм вода.
Девятым валом подымалась.
А в глинобитном, с трещинами, доме.
Построенном еще вручную встарь,
Уже с людьми работал, как в обкоме.
Чалмой бинтов кивая, секретарь.
Он чувствовал себя не в кабинете,
А на планете: пламя под корой!
– Важней всего помочь сейчас же детям
И связь скорей восстановить с Москвой. –
Он говорит медлительно и кратко.
Крутые скулы. Круглые очки.
– Родильный дом – немедленно в палатки:
Еще возможны сильные толчки. –
И вот в палатке нового роддома
Уже висит короткий, в тридцать строк,
Издания парткома и месткома,
Неукротимый «боевой листок».
Знакомо смотрит,
светит каждым словом
Простой листок – былина из былин:
«Все дети и все матери здоровы.
Доставлен из Москвы пенициллин».
Восходит утро.
Птахи свищут тонко.
Шумит чуть слышно самолет вдали.
И кормит мать счастливая
ребенка –
Хозяина
всех буйных сил
Земли.
* * *
Ассортимент духовной пищи
Широк, богат,
но по утрам
Мы здесь не кондизделий ищем.
Нужны не разносолы нам.
Желанней и нужнее нету,
Всегда, всегда он на столе,
Вот этот черный хлеб газеты.
Насущный, непременный хлеб.
Он свеж, подчас посолен круто.
Какой запас калорий в нем!
И, открывая день,
ему-то
Мы предпочтенье отдаем.
ИСТОЧНИК
Казалось: силы на исходе,
Я на безмолвье обречен,
И завтра скажут:
«Он негоден.
Как видно, исписался он».
Все это было ощутимо,
Как ощутима тошнота…
Шаги по коридору. Мимо?
Нет. постучали.
– Можно?
– Да. –
Он снял защитную фуражку,
Пригладил чуб.
– Ты занят?
– Нет.
– А на узле многотиражку
Поможешь выпустить, поэт?
– Что ж, это можно. –
…Шли недели.
Шли поезда в Москву и в Крым.
И на промывке, и в котельной
Меня считали все своим.
И в шуме транспортного пара,
Вначале различим едва,
Возник вдруг замысел, как парус.
Явились точные слова.
И вновь в строю себя я числю,
И черный чай ночами пью,
Стыдясь своих недавних мыслей,
Почти как трусости в бою.
Теперь пишу я днем и ночью,
Забыв о праве на привал,
Свирепо раздирая в клочья
То, что совсем забраковал.
И даль, прозрачная, сквозная,
Уже открыта мне опять,
А силы столько,
что не знаю
Порой,
куда ее девать!
ЧАСЫ
Есть в них золото для красы,
Мы всегда неразлучны с ними.
Носим мы на руке часы,
Но не стали они ручными.
День опять догорает, ал,
Над окружностью циферблата,
И твердит дорогой металл,
Что минута дороже злата.
Не сберечь ее про запас,
Как припрятанную монету.
Улетает она от нас
Метеорною вспышкой света.
Не алхимия, – только труд,
Если радость ему открыта,
Может каждую из минут,
Ухватив, развернуть, как свиток,
Сделать шаг один всей верстой,
В камне ложе канала вырыв.
Сколько жизней прожил Толстой.
Поднимаясь «Войной и миром»!
Время вновь мне в глаза глядит
Неизбежным углом двух молний,
И меня обжигает стыд:
Как я мало еще исполнил!
СОН
Приснилось:
я – не я,
а ясень.
Кто подменил судьбу мою?
Предельно ясен и прекрасен,
В степи я царственно стою.
А человек идет шатаясь.
Огромен груз. Далек привал.
Я, с расстояньем не считаясь,
Ему в пути бы помогал.
Я б поддержал его над бездной.
Воды принес бы в мертвый зной.
Тепло б отдал в мороз железный
На снежной целине степной.
Но мой удел – стоять на месте.
Кому – весь мир, а мне – лишь пядь
Страшнее не придумать мести,
Безжалостней не наказать!
* * *
Да, бездарность любит быть крикливой
И рядиться в пестрые цвета.
Он был тих, поэт неторопливый.
Тих, как свет, и прост, как красота.
На рекламу времени не тратя.
Неустанно черная слова.
Промывал их, как песок старатель
промывает, золото ловя.
Вот – поэма.
Как не удивиться, –
Столько теплоты и силы в ней.
Но краснел всегда он, как девица.
От скупых похвал своих друзей.
Нам вдыхать стихи его, как воздух.
Пахнущий весеннею травой.
Нам любить стихи его, как звезды
Над родною ширью полевой.
И потомкам скажет о Батые,
И о наших буднях фронтовых
Весь от сердца твоего, Россия,
Кедринский, простой и чистый, стих.
ЖЕЛАНИЕ
Пуля почти на излете,
Вот-вот упадет она,
Но крепко знают в пехоте.
Как сила ее страшна.
Пути ей осталось мало,
Но и в его конце
Она – пока не упала –
Может настигнуть цель.
И я б – на краю могилы.
Со смертью накоротке,
Такой вот желал бы силы
Последней своей строке.
* * *
Если взгляд туманит пелена,
Если силы больше не осталось.
Ляг плашмя на землю,
и она
Выпьет до конца твою усталость.
Ты проснешься сильным.
Труден путь.
Но давно тобою сделан выбор.
Пусть молчит земля:
ты не забудь
Ей сказать,
как матери:
«Спасибо!»
ЦВЕТ ВТОРОЙ
Что ж, в этом вовсе нет секрета,
Хоть горько замечать порой,
Как бьются в волосах два цвета
И побеждает цвет второй.
Приметный, чистый и упорный
Цвет госпитального бинта,
Цвет белизны высокогорной.
Цвет ждущего стихов листа.
Я знаю: он – напоминанье
О череде ушедших лет.
Но в чувствах нет похолоданья,
Ни тени равнодушья нет.
Опять глядеть не наглядеться
На ту, которая мила.
Опять трава, как в раннем детстве,
Тепла, светла и весела.
* * *
Ты забыла дорогу неблизкую.
Саксаула сухие цветы,
Солнцекрылую осень киргизскую
На прощанье не вспомнила ты.
Ложь свою не считая отвергнутой.
Ты сказала:
– Вернешься. Молчи. –
Ты меня принимаешь за беркута,
Что сидел на руке беркутчи*.
Отпускают его за добычею,
Перед ним его горы стоят,
Но, влекомый слепою привычкою,
Возвращается беркут назад.
Сядет на руку он, как положено,
Подчинен, приручен, обречен.
А чтоб воля совсем не тревожила,
На глазах у него – колпачок.
Меня меришь ты меркою птичьею,
Усмехаясь:
– Проедется пусть! –
Я не стану летать за добычею.
Я не беркут:
назад не вернусь.
* Охотник с прирученным беркутом.
СХОДСТВО
Давно ль здесь лед такой был
прочности.
Что за рулем грузовика
Не помнили шоферы в точности.
Как и зовут тебя, река.
А нынче ты хлопот наделала,
Порвав меж берегами связь.
Несутся крыги обалделые,
Сшибаясь, трескаясь, дробясь.
Опять свершилось неминучее,
И имя вновь твое гремит,
Как этот ледогон под кручею,
Как возле моста – аммонит…
Я с женщиной иду вдоль берега.
Отвесный спуск ее страшит.
Она ступает неуверенно
И от волнения молчит.
Ты свирепеешь,
льдины двигая,
Мосты непрочные губя.
А эта – тонкая и тихая.
Но как похожа на тебя!
Давно ли,
никого не слушая,
Она пришла
и навсегда
Мое взломала равнодушие,
Как ты сегодня – толщу льда.
* * *
Легли между нами версты.
Я был одинок, как остров,
Как древко без пламени флага
Я был терпелив, как бумага.
Ты снова со мной,
и в пене
Сады,
и легка усталость.
Что ж нам помогло? Терпенье?
Да: тем, что оно порвалось.
* * *
Ты все роднее и роднее,
Все больше ты в моей судьбе.
Мне все труднее и труднее
Полправды говорить тебе
Иль соглашаться молчаливо,
Твоей не тронув простоты,
Что я и сильный, и счастливый,
Каким меня считаешь ты.
Не лучше ли,
обезоружив
Тебя правдивостью своей,
Открыть, что я слабей и хуже.
Непостоянней и бедней.
Нет! Лучший выход из обмана
Ломать себя до той черты,
Пока взаправду я не стану
Таким, в какого веришь ты.
НЕДОСОЛ
Она живет скромной и тише
Былинки тихой полевой.
О ней никто стихов не пишет.
Не говорит в передовой.
Не рекордсменка, не новатор, –
Окаменел, слежавшись, быт.
Она на мужа виновато
И выжидающе глядит.
Супруг ко рту подносит ложку.
Глотает. Морщится слегка.
– Что? Пересолено немножко?
– Нет! Недосолено пока! –
К супругу движется солонка.
А он – хоть на носу очки –
Не замечает робкой, тонкой,
Усталой, преданной руки.
Под фартук прячется рука
С отметинками горькой доли:
С порезом свежим на ладони,
С ожогом возле локотка.
Он суп солит. Обижен. Важен.
Она вздыхает. Легче ей:
И недосол, конечно, страшен,
Но пересол в сто раз страшней.
А за стеной – поля и звезды,
И можно бы бродить, любить,
Когда б она,
пока не поздно,
Смогла всерьез пересолить.
ПРО ЭТО СЛОВО
Малыш трехлетний,
Мокрый нос,
Гордясь находкой новой,
Сегодня с улицы принес
Подхваченное слово.
Он ударенье изменил,
Как явный иностранец.
Но щеки матери покрыл
Неистовый румянец.
…Из горниц выйдя расписных
К сверкающей карете,
Развратник сизый
в крепостных
Швырялся словом этим.
Давным-давно, давным-давно,
Под гогот хрипловатый,
Набухло мерзостью оно,
В палатах,
а не в хатах
И наши прадеды
его,
Обиды не прощая.
Как оскорбленье,
как плевок.
Хоромам возвращали.
Им, этим словом – не секрет –
С угрюмостью бирючьей
Ругал купцов мальчишкин дед.
Сломивший спину крючник.
И мы сочувствуем ему,
Глядевшему угрюмо.
Из жизни сделали тюрьму
Для деда толстосумы.
Но нам не надо слов таких:
Ведь мы не крепостные,
Не крючники, не батраки, –
Хозяева России.
У нас все силы,
все права.
Все дали,
все запевы.
У нас есть чистые слова,
Есть настоящие слова
Для нежности и гнева.
Живет похабщина пока.
Но и вопрос тут ясен:
Она не сходит с языка
У тех,
кто сердцем
грязен.
ОЛЯ
На одной из тихих улиц в Курске.
У тесовых сереньких ворот,
Песню провансальцев по-французски
Девочка кудрявая поет.
Интересно, как это случилось?
Восемь лет ей минуло едва.
Где ж она французскому училась,
Где взяла мелодию, слова?
Вот подходит быстро к ней, глазастой,
Носов Степка – местный наш Тимур.
Говорит ей дружелюбно:
– Здравствуй! –
И она тотчас ему:
– Бонжур! –
И мальчишка,
левою рукою
Сдвинув свою кепку набекрень.
Спрашивает:
– Это что такое?
– Ти не понимает? Доблий дьень!
Мне вначале показалось странным:
В Курске, от Москвы невдалеке.
Девочка совсем как иностранка
Говорит на русском языке.
«Доблий дьень. Бонжур».
Теперь я знаю.
Что у девочки кудрявой той
Мама есть – курянка коренная,
Папа есть – марселец коренной.
Где же они встретились?
В концлаге.
Не в зеленой роще у ключа.
Знак паучий на имперском флаге.
Пепел человеческий в печах.
Ледяной, как смерть, цемент подвала
Воронье над лагерной трубой.
Но и здесь
рождалась,
выживала,
Крепла,
вопреки всему,
любовь.
И в шумливом городе Марселе.
Года через два после войны,
Оля появилась в колыбели, –
Имя дал отец ей в честь жены.
Он в порту работал на погрузке
Океанских грузных кораблей.
А она все о далеком Курске
Говорила доченьке своей.
Говорила с ней сперва по-русски,
А потом на новом языке:
Не по-русски и не по-французски –
На смешном своем волапюке.
Празднует рабочее предместье
Штурм Бастильи или Новый год,
А у мамы сердце не на месте,
Мама песню курскую поет,
Молча поит папу сладким чаем.
– Что ж ты не смеешься? Что ж
молчишь? –
Папа говорит:
– Она скучает.
Скоро мы покажем ей Париж.
Веселей на свете нету места!
А какой я знаю к Сене спуск! –
Он Париж ей показал проездом
В самый лучший в мире город Курск.
Только этот город маме снится,
Соловьиный, в кружеве садов.
Как же было тут не согласиться,
Что прекрасней нету городов.
На одной из тихих улиц в Курске,
У тесовых сереньких ворот,
Песню провансальцев по-французски
Девочка кудрявая поет.
А «Тимур» наш недоволен вроде.
Он сейчас серьезен, даже хмур.
К девочке он медленно подходит
И раздельно говорит:
– Бонжур!
Ты скажи, пожалуйста, мне толком
Это слово понимаешь?
– Да.
– Вы сюда приехали надолго?
– Нет, мы не надолго. Навсегда.
В ЯНВАРЕ
С рассветом дворник –
на передовой.
Он лед крушит
и сердится все пуще.
Машина снег сгребает
с мостовой,
Пуская в ход
две лапы загребущих.
И, словно мусор зимних непогод,
Как никому не нужные отбросы.
Везут на свалку
этот снег и лед,
Взвывая на подъемах,
грузовозы.
Асфальт, как в мае,
чист, голубоват.
Пестреют крыши
красным и зеленым,
Но люди
о весне не говорят:
Январь звенит
морозным, гулким звоном.
А вот он – путь
из города в колхоз.
Он сразу устремляется
на север,
Все резче ветер,
все острей мороз,
Но речь ведут попутчики
о севе!
В полях все больше
белоснежных вех,
Но – посмотри –
тут люди и машины
Не гонят,
а удерживают снег,
Чтоб был он в два,
нет, лучше – в три аршина.
Не белизна
завидной чистоты
Сейчас перед глазами
серебрится, –
Я вижу
черноземные пласты
И струйки золотистые
пшеницы.
И, разметав
снежинок лепестки,
Нам агроном
коленопреклоненный
Показывает
сильные ростки –
Огонь веселый
озими зеленой.
Забью про все
снега и холода,
Мы смотрим
на росточки эти
в оба.
К весне ты хочешь
ближе быть всегда?
Переезжай навечно
к хлеборобам!
МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО
Иногда так просто
Сделать чудо.
Мальчик-с-пальчик.
Этакий пузырь,
Накатавшись,
Налетавшись всюду.
Спит,
Как после битвы богатырь.
В лес Топтыгин
Манит его лапой…
В этот миг,
Прекрасна и свежа.
В двери, наяву,
В обнимку с папой,
Входит Елка,
Ветками шурша.
На нее из рамы
Смотрит Пушкин,
Словно заприметил
За версту.
Укрепляет мама
На верхушке.
Может, с неба снятую
Звезду.
Чуть звенят
Стеклянные мониста.
Голубеет
Тепловатый снег.
И, вдыхая
Аромат смолистый,
Мальчик улыбается во сне.
…Мальчик-с-пальчик
Открывает веки.
Не зевнув,
Открытым держит рот.
Этот миг
Запомнит он навеки.
Сквозь огни и воды пронесет.
В двух шагах –
Рукой достанешь –
Чудо.
Серебро. Багрянец. Бирюза.
– Мама! Папа!
Что это? Откуда?! –
Протирает малышок глаза.
И совсем
Без всякого притворства,
И ничуть не в шутку,
А всерьез,
Отвечают гордо
Чудотворцы:
– Мы не знаем…
Это – Дед Мороз –
Пусть же эта
Радостная скромность
Им не изменяет
Никогда:
Ни в аудиториях огромных,
Ни в цехах,
Ни в дальних поездах.
И по всей
По необъятной шири,
Подняв
Золотые паруса,
Пусть сияют
Рядышком с большими
Маленькие эти
Чудеса!
СКВОРЕЧНИК
Мороз, как штык,
остер и тих,
Растет он,
силы не тая.
Блестящих клиньев ледяных
Свисают с крыши острия.
Дуб, что листву в январь пронес,
Стоит на взгорье молчалив.
Он длинным инеем оброс
Весь – от макушки до земли.
Но, словно радостный намек, –
Пусть улыбается народ, –
Весны чудесный теремок,
Жильца-певца
скворечник ждет.
ПРЫЖОК
Ива добежала до обрыва
И остановилась у черты.
Наклонилась, вздрогнула пугливо,
И впилась корнями в землю ива.
Ветками схватилась за кусты.
Разве она думала про смелость?
Смелость – это дело не ее.
Просто ей увидеть захотелось
В речке отражение свое.
А мальчишка подбежал строптиво,
На бегу одолевая страх,
Птицею взлетел на ветку ивы.
Оттолкнулся и исчез в волнах.
Разве ему хвастаться хотелось?
Не пришли свидетели сюда.
Нет, ему необходима смелость
Так, как эти воздух и вода.
* * *
Под ежа острижены луга,
И мальчишки морщатся босые
Чибисы садятся на стога.
Овода жужжат, как заводные.
Синь невероятной чистоты
Небосвод окрасила высокий.
Тонкорунных облаков гурты
Жмутся к горизонту на востоке.
Изредка коротенькая дрожь
По листве деревьев пробежится.
Доспевает, доспевает рожь,
Золотится русая пшеница.
Золотятся ежики ребят.
Мальчуганы, торопя событья.
Молча на комбайнера глядят,
Как на капитана пред отплытьем.
ПУШИНКА
– Сюда, Пушинка!
Хочешь в сказку
Для всех –
и взрослых и ребят?
Мы на тебя надели маску
И кислородный аппарат.
Вильнув хвостом,
в отсек ракеты
Вошла ты,
лишь был подан знак.
Пусть ты не понимала,
где ты.
Ты знала:
надо сделать так.
Теперь не вместе мы,
а – порознь.
Огонь рванулся из сопла,
И на тебя упала скорость,
На миг дыханье прервала.
Давно внизу осталось небо,
Кричит зеленая звезда.
Теперь ты там,
где в жизни не был
Еще никто и никогда.
Не на тропе земной, обжитой,
Где пахнут зайцем все кусты,
А во вселенной следопытом
Побудь для нас немножко ты.
Уже почти не ломит спину,
Уже почти не жжет во рту,
Но вот из маленькой кабины
Ты провалилась в пустоту.
Тебя мы ждали не напрасно.
Других Пушинок так не ждут!
Все оказалось безотказным:
И кислород, и парашют.
Ты очень плавно приземлилась,
Была росистою трава,
И ты по ней скакать пустилась,
Освободясь от пут едва.
Ты очень скоро может статься –
Мы верим этому вполне, –
Погонишь марсианских зайцев,
Подашь нам лапу на Луне.
СТРУГАНОК
Малыш пристает спозаранку:
– Опять не купил мне струганка?
Рубанок? Зачем он так назван?
Рубит им кто-нибудь разве?! –
Законный вопрос:
ведь зубило
Про зуб до сих пор не забыло.
Ведь –
вот и сегодня –
клещи
Клешнями хватают вещи.
Атакой привычного слова.
Столетьями стертого,
плоского,
Малыш мне напомнил
большого
Владимира Маяковского.
Поэтом он быть не желает.
Лобастый, скуластый, курносый.
Он выбиться хочет в матросы.
А все-таки…
Кто его знает?
МАЛЫШ РИСУЕТ
Рисует малыш:
по дороге
Мужчина идет.
Ничего,
Что руки длиннее, чем ноги.
А нос на щеке у него.
Он все же дойдет.
И не страшно.
Что дождик, а он – без калош,
И дом на Пизанскую башню
Опасным наклоном похож.
Багряней стекает по стенке.
Оранжевый ширится свет.
Здесь много цветов и оттенков.
Но серого колера нет.
И как не признаться,
что после
Вот этой смешной чепухи
Мне стыдно бывает
до злости
За многие наши стихи.
ПОДСОЛНУХ
Чуть покажет на востоке
Солнце красный гребешок,
И подсолнечник высокий
Смотрит прямо на восток.
К полдню солнце у зенита
Белым пламенем горит,
И подсолнух непокрытый
В этот час глядит в зенит.
Вечер. Запад полыхает
Уходящей краской дня,
И подсолнух не спускает
Глаз с червонного огня.
Все дела свои откинув,
Не поставив запятой,
Я показываю сыну
Тот подсолнух золотой.
И, одним желаньем полный,
Я смотрю на малыша:
Пусть растет он, как подсолнух,
Чтобы к солнцу – вся душа.
УРОКИ ПОЛИТГРАМОТЫ
1
Село на горке. Рядом – лес.
– В него и днем не заходи ты. –
Есть слово краткое «обрез»,
Есть слово жуткое «бандиты».
Но я с мальчишками порой
Бываю все же на опушке.
Какие елки за рекой!
Сюда бы звезды и хлопушки!
Здесь все спокойно.
Но подчас
Вдруг загудит,
Вдруг грохнет что-то,
И страх метлою гонит нас
За речку,
В школьные ворота.
Проходит по двору отец,
Он в нашей школе главный самый,
– Ну нагулялся наконец? –
Щекочет щеки он усами.
Зима.
Мне только девять лет,
Учусь я только в третьем классе.
Есть слово светлое «комбед»,
Но смысл его не очень ясен.
Вот в класс заходят бедняки.
Две лампы светят ярко-ярко.
Клубятся синие дымки.
Шумит Андрей Кузьмич Поярков.
Он добрый:
Лично для меня,
Когда «чуть не сыграл я в ящик»,
Из чурки сделал он коня
С хвостом и гривой настоящей.
– Скачи вперед! Кричи «Ура!»
Топчи поганых белячишек! –
А я-то в ящик не играл
И об игре такой не слышал.
А конь хорош!
Отбросив книжки,
Скачу на войлочном седле
Один, – ведь засмеют мальчишки!
Сейчас Андрей Кузьмич сердит.
Не от обиды ль багровея,
О кулаках он говорит,
О деревенских богатеях.
Я знаю кой-кого из них.
Морщинистый, седобородый
Петр Колыванов ласков, тих.
Давал мне сотового меда.
Удодов Клим. Он ростом мал,
Но ходит с важною осанкой.
Меня на масляной катал
Он в легоньких ковровых санках.
* * *
Комбед,
Вот с трубкою сидит
Петр Саввич в вышитой сорочке.
Он – наш избач,
Он знаменит
И в самых дальних хуторочках,
Он был крестьянским ходоком.
Он на вагонных крышах ездил.
Был даже с Лениным знаком,
Встречался с ним в Москве на съезде.
Его люблю я больше всех.
Он нас, ребят, зовет друзьями.
Люблю я взгляд его и смех.
И эту складку меж бровями.
Он приохотил к книжкам нас.
Он знает сказки, и былины,
Удодова он Степку спас,
Когда малыш упал с плотины.
* * *
Проснулся. Ночь.
Отец и мать
Чуть слышно говорят:
– В Кульбите
Разграблен магазин.
– Опять!.
– А в Сосняках убит учитель.
Мне страшно. В комнате темно.
– Все это дело рук Дудули.
– Он был, по слухам, у Махно.
– Когда же он дождется пули?,
Тревожно. Темнота и тишь.
Окно не скоро посереет
Спрошу-ка:
– Мама, ты не спишь?
– Спала. И ты усни, скорее.
Махно… Дудули… Снег… Ветряк…
Я падаю, теряю лыжу…
К рассвету засыпаю так,
Что гулких выстрелов не слышу.
* * *
Ни улице народ.
С утра
Гудят все избы, словно ульи.
У Колыванова Петра
Задержан атаман Дудуля
И два бандита.
В Желтый лог
Уйти б Дулуля мог.
Но в лозах
Его Поярков подстерег
И сшиб железною занозой.
А затемно сказали мне.
Один бандит
Из револьвера
На колывановском гумне
Поранил милиционера.
Петр Колыванов их клянет.
Кричит, что принял под угрозой.
Цветами липы пахнул мед,
А нынче пахнет день морозом.
* * *
И снова ночь. Но не темно:
Коптилочка мигает где-то.
Отец и мать глядят в окно,
Отец совсем уже одетый.
Уходит.
– Он сейчас придет.
Ты спи.
– Я спать не буду.
– Тише!
Нет, голос у нее не тот,
Каким баюкают детишек.
– Ты хочешь обмануть меня.
Прыжок, и вот – я с мамой рядом
Трясется красный сноп огня
Невдалеке – за школьным садом.
Деревья красные стоят.
И красные видны сугробы.
И кто то бьет уже в набат.
…На площади – три красных гроба.
Я, цепенея, подошел.
Да, мне все трое здесь знакомы.
Петр Саввич,
Митька – комсомол,
И Волгин – предволисполкома.
Их убивали топором,
А после поджигали хаты.
Я ждал:
Сейчас ударит гром,
И все узнают виноватых.
Полотнище из кумача.
Подрагивало еле-еле.
Усы Андрея Кузьмича
От изморози побелели.
Удодов Степка вдруг сказал,
Показывая на убитых:
– Гляди! У Саввича глаза
Прищурены, а не закрыты,
Он видит! –
Разве знал малец,
Как, расправляя плечи шире,
Удодов Клим, его отец
Бил Саввича пудовой гирей?
2
Шумели годы
Казалось детство былью дальней.
Я сам работал избачом
В другом селе, в другой читальне.
Вы знаете, как жил избач
Году, хотя б, в двадцать девятом?
Нет для читальни дров – не плачь,
Нет керосина – что ж, не плачь.
Зарплаты не дают – не плачь.
Так жил и я, друзья, когда-то.
В Заречном был я избачом
В уже не близкую ту пору.
Я много всяких книг
Стихов, поэм, романов – гору.
Прочитывал в газетах все:
Доклады и передовицы,
И сообщения из сел,
И новости из-за границы.
Мне нравилось, когда строка
За словом слово бьет по цели.
Но Ленина читать пока
Не начинал: был слишком зелен.
Дела валились на меня.
Я помню, как неукротимо
Крутил кино.
Распространял
Билеты в фонд Авиахима.
Как, не умея танцевать,
Организовывал я танцы.
Как мог три ночи я не спать
И всухомятку год питаться.
Ко всяким неудобствам глух,
На стол мигалку ставя справа,
Бородачам читал я вслух
«Железного потока» главы.
Я собирал металлолом,
Еще тряпье, золу и кости.
Размахивая кулаком,
Я кулаков громил со злостью.
* * *
Село.
Избенки и плетни.
Всегда кивающие клячи.
Идут, идут за днями дни
С трудами, радостями, плачем.
Детишки, здешние пока.
Играя в бабки возле тракта,
Не видели грузовика.
Не знают, как рокочет трактор,
Как электричество горит,
Как самолет блестит в зените,
Как без запинки говорит
По-русски громкоговоритель.
* * *
В избу-читальню он входил
Легко, не скрипнув половицей.
Когда я там бывал один,
Он не спешил со мной проститься.
Газетой новой шелестя,
Очки платочком протирая.
Речь заводил о новостях.
Об Англии и о Китае.
Он возражать пытался мне
Вначале,
Но не тут-то было:
Я припирал его к стене
Своим непримиримым пылом.
Сидел он будто на гвоздях,
А я все множил обвиненья.
Но, из читальни уходя,
Он говорил:
– Мое почтенье.
Благодарю от всей души.
Весьма приятная беседа. –
И я почти уже решил,
Что он, Фомин, моя победа.
Он соглашался нелегко.
Но до уборки урожая
Он рассчитал вдруг батраков,
И рассчитал, не обижая.
И, помня проповедь мою.
Сказал:
– Что ж, счастье не в богатстве.
Я крупорушку отдаю.
Родной советской нашей власти.
* * *
По вечерам и по ночам
Слезой посолены и бранью.
Уже кипели, клокоча.
Повсюду сельские собранья.
Трещал рубах посконный холст
Кто горлом взять хотел, кто силой.
И слово новое «колхоза»
Слова привычные теснило.
Раскатом молодой грозы –
Не песнею сверчка за печкой –
Оно вошло в родной язык
В ту пору
Сразу и навечно.
* * *
Мы шли с собрания домой.
Кой-где еще светились окна.
Предсельсовета – спутник мой –
За грудь схватился,
Тихо охнул
И повалился.
Я один
Не смог поднять.
Людей звать надо.
И первым подбежал Фомин:
– Скорей! Моя хатенка рядом…
Плохой удел судьбой нам дан…
Наверно, кровь свернулась в жиле…
На желтый бархатный диван
Ефанова мы положили.
К врачу!
Но где же взять коня?
Фомин все понял с полуслова:
– Закован Козырь у меня.
Верхом? Так можно взять гнедого. –
Он на коня помог мне сесть
И настежь распахнул ворота
Пошел! Трех верст не будет здесь! –
…А в поле, возле поворота,
Конь встал нежданно на дыбы
И завертелся у откоса.
Я цепок был, без похвальбы.
Но скоро в снег уткнулся носом.
Привстав, я огляделся. Ждет.
Мне б только перекинуть ногу.
Опять двойной удар в живот,
Опять валюсь я на дорогу.
До помраченья обозлен,
Я думать перестал о боли
Я захромал к коню.
Но он
Мелькнул и скрылся в снежном поле.
Вот тут-то и вернулась боль.
И гнев. И стыд.
Куда мне деться?
Но заслонило все собой
Лицо
Оно знакомо с детства.
Лицо того, кто ходоком
Крестьянским
Был в Москве с котомкой.
Того, кто с Лениным знаком.
Того, кто верил нам,
Потомкам.
Шатаясь, ногу волоча.
Я шел.
Гудели глухо дали
Я дотащился до врача.
Но что сказать?
Мы опоздали.
* * *
Сидел один я у стола,
Распухшее колено трогал.
Несмело девушка вошла,
Остановилась у порога.
К лицу ль угрюмость избачу?
Я улыбнулся через силу.
– Вам книгу?
– Нет… Сказать хочу…
Конец платка жгутом скрутила
И быстро подошла к столу
Сгустилась тишина в читальне
Стучали ходики в углу,
Как молоты по наковальне.
Я видел боль в глаза больших,
Слеза катилась по веснушкам.
– Фомин… мой отчим придушил
Тогда Ефанова… подушкой.
* * *
Я после много дней болел.
Но не провел и дня в постели.
Хоть это было тяжелей
Всего, чем в детстве мы болели.
Меня послали в институт,
Как посылают в наступленье.
Приехал в город я.
И тут
Заговорил со мною
Ленин.
Первоисточников черед
Пришел.
Но, ни в какие сроки,
Уже ничто не зачеркнет –
За боем бой
за годом год –
Вас,
Политграмоты уроки.
ОДИННАДЦАТЬ
Поэма
1
Экскаватор запросто,
как воду,
Черпал землю кованым ковшом,
Самосвалы наддавали ходу.
Парни усмехались: поднажмем!
Шел октябрь,
но в нем светилось лето.
До чего ж погода хороша!
А в исходе дня случилось это…
Экскаватор
не набрал ковша…
До чего дотронулся,
что встретил,
Почему мгновенно замер он?
Далеко от стройки
в кабинете
Зазвенел негромко телефон.
Трубку к уху приложил полковник:
– У завода? В нескольких шагах?..
Выезжаем. –
И, о чем-то вспомнив,
Снова поднял трубку с рычага.
2
Рукой проведя по плану,
Круто взмахнув бровями,
Полковник сказал капитану:
– Слово за вами.
Взвода, пожалуй, хватит? –
Глаза нацелены строго.
Слишком вопрос понятен.
– Взвод – это много.
– Много? –
На сердце словно
Ослабевают клещи.
После ответа такого
Полковнику дышится легче.
– Сколько ж? В такой работе
Все надо точно взвесить.
– Я рассчитал. Пошлете,
Кроме меня, десять.
3
Стоит капитан
Перед строем саперов.
Приказ ему дан,
Ни к чему разговоры.
Он десять фамилий
Назвать бы мог сразу,
Но люди любили
Его без приказа.
Поэтому хлопцам
Сказал, как хотел он:
– Нужны добровольцы
На трудное дело. –
Вопрос ясен,
Время не ждет.
– Кто согласен,
Шаг вперед! –
Тут суть не в уставе.
Иной тут порядок.
Тебя не заставят.
Не хочешь – не надо.
Нет речи о бое.
Ни слова о славе,
И каждый собою
Командовать вправе.
Но, будто был отдан
Приказ долгожданный,
Шагнула вся рота
Вперед –
к капитану.
4
Венчик восхода узок.
Листья желтея, стынут.
Десять садятся в кузов.
А капитан – в кабину.
Все голубей, светлее
Неба простая вечность
Кто-то парней жалеет,
Только не вслух, конечно.
А кое-кто доволен
Тем, что не потревожен.
Но и ему до боли
Горько сегодня все же.
Он еще повзрослеет,
Честно таская скатку.
Он еще пожалеет,
Что не вошел в десятку.
Разве же он не видит –
Это ведь без обмана, –
Сколько людей в обиде
Нынче на капитана.
5
В это утро,
часам вопреки,
Подчиняясь иному порядку.
Не позвали рабочих гудки
Ни на гипсовый,
ни на шпагатку
И мальчишеских игр кутерьма
Во дворах и садах не кипела
Опустели заводы, дома, –
Вся окраина враз опустела
В оцеплении строгом она.
Стерегут все подходы солдаты
Не приснилось ли нам,
что война
Отгремела еще в сорок пятом?
6
Взрослые и дети, –
все ушли,
Фабрики замолкли и заводы,
Чтоб они –
одиннадцать –
могли
За свою работу взяться с ходу.
Если б ее можно облегчить!
Дали б им любые аппараты,
Сквозь металл летящие лучи
И силищу, что припрятал атом.
Только не поможет и она.
Не помочь ни током, ни лучами.
Здесь лопата даже не нужна, –
Режут грунт саперными ножами.
Как последний,
как бесценный хлеб
Резали бы те, кто голодает.
Осторожней, –
случай-то ведь слеп!
Осторожней, –
жизнь-то молодая!
Слышится дыханье в тишине.
Веет снизу земляной прохладой.
И на трехметровой глубине –
Первый штабель дьявольского клада.
Ржавчина изъела корпуса.
Вот – взрыватель.
Тут не жди удачи
Будничны саперов голоса:
– Проводок…
– Минировано, значит…
7
Полковник откинулся в кресле.
Раздумье в глазах усталых.
«Работа идет… А если?..
Одиннадцать… Может, мало?..
Где это было? ..
В Польше.
Важно ль, в каком селеньи?
Пахарь хотел побольше
Сделать в тот день весенний.
Дышит ему в лицо
Поле из полудремы
Свежестью и прельцой
Милого чернозема.
Чем-то еще?
Знаком
Запах упрямый, твердый.
Словно бы чесноком
Корка земли натерта.
Солнце идет в зенит
Синей дорогой горной.
Лечь бы… В ушах звенит…
Боль и удушье в горле…
Знал бы он,
на заре
Чуя тот дух чесночный,
Какой
еще в ноябре
Дождь тут
впитала почва.
Жег он земную плоть,
Бурый и маслянистый.
Дал его не господь,
А господа штабисты.
В свой медицинский акт
Врач вписал деловито:
«Мной установлен факт:
Вызвана смерть ипритом»
Что же, и тут судьба?
К черту с такой судьбою!
Нету войны,
а пал
Пахарь на поле боя.
…Где это было?
Возле
Русских родных селений.
Шел по земле колхозной
Трактор
в тот день осенний.
Вел его фронтовик.
С ним мы в Берлин входили.
Пуля, осколок, штык
В битвах его щадили.
Курится светлый пар.
Вьется над зябью новой.
Спеть бы! ..
И вдруг удар.
Грохот и всплеск багровый.
Мина…
Ждала жена
Мужа домой напрасно.
Косит людей война,
Косит,
уже погаснув
Вот и сейчас…
Жесток
Ветер тревоги острый.
Весь ведь район бы мог
Сразу взлететь на воздух
Мог или может?
Нет!
Смогут и это хлопцы
Есть лишь один ответ:
Прошлое не прорвется!»
…Прям, походка тверда.
Брови сошлись сурово…
Полковник сказал:
– Туда. –
И понял шофер с полслова.
8
Обнажен взрыватель,
потому
Ошибись –
и все
огнем и дымом.
Он неприкасаем,
но к нему
Прикоснуться все ж необходимо
Кто же первый?
Имени его
Здесь назвать я не имею нрава.
Отделить от всех
хоть одного
Не могли,
не смели честь и слава.
Не сбиваясь в шаге,
как один,
Все идут с одною думой чистой:
Русский, украинец и грузин.
Беспартийные и коммунисты.
Но того,
кто захотел пойти,
И назвать-то беспартийным трудно.
Ни один не отстает в пути,
Ни один не ждет наград нагрудных.
Рядом все одиннадцать идут
Тем путем,
какого нет короче.
Разве важен первый,
если тут
Умереть нельзя поодиночке?
В этот день,
под солнцем октября
Пышущий червонной позолотой,
Думали они о матерях?
Думали, понятно.
До работы.
Поясные трогая ремни,
С виду и довольны, и беспечны,
О подругах думали они?
Как не думать!
Думали, конечно.
Думал даже тот
наверняка.
Кто и не вздыхал еще, тоскуя.
И о смерти думали,
пока
К смерти не приблизились вплотную
Думали, гадали…
А сейчас –
Ни о матери, ни о подруге.
Только бы не промахнулся глаз,
Только б, только б не ошиблись руки.
Никогда еще не отдавал
Капитан так мало приказаний,
Будто ненужны уже слова.
Будто хватит и одних желаний.
Видно, нету непосильных дел,
Видно, вовсе нету их на свете.
Кто-то вновь ловушку углядел.
Тайную механику приметил.
Вот они – саперные ножи.
Только что тут сделаешь ножами?
Нож теперь в сторонку отложи.
Пальцами работай,
рой ногтями.
Схватывай приметы на лету.
Ни рывка – отвинчивай неспешно.
К каждому
проклятому
винту
Прикасайся ласково
и нежно.
Проклянешь их после…
Тяжек зной.
Медленна работа круговая.
Не седьмой,
а семьдесят седьмой
Пот глаза ребятам заливает.
Нет, машины не помогут тут.
Чтобы это дело было верным.
Каменного века нужен труд.
Медленный,
ручной,
неимоверный…
Тихая вечерняя заря
Не спеша стекает с крыш покатых.
Все.
Последний подан вверх снаряд,
А по счету он –
двести тридцатый.
* * *
Вот они –
одиннадцать парней
В ясной красоте своей и силе.
Все сто тысяч курских
матерей
Каждого из них
усыновили.