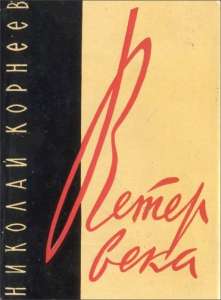
СТИХИ
ЯНТАРЬ И ГРАНИТ
Янтарь.
Он тепловат немножко.
Он – словно отверделый свет.
В нем дивно сохранилась мошка,
Которой много тысяч лет.
Красив он, –
ничего не скажешь.
Но через тыщи лет и верст
Он лишь случайную букашку
Из тьмы столетий к нам донес.
И пусть в нем даже воздух виден
Четой прозрачных пузырьков, –
Янтарь у нас прижился
в виде
Безделок – бус да мундштуков.
А вот – прямая грань гранита.
На ней рисунок:
схватка с львом.
Его прапращур наш сердитый
Каким-то высек острием.
Пещерный лев, в прыжке летящий,
И человек – лицом к судьбе.
Он рассказал-таки, прапращур,
О времени и о себе.
И я всем сердцем,
всем сознаньем,
Хочу, чтоб нынешний мой стих
Дошел,
но не янтарной данью.
А вот такой гранитной гранью
Хотя б до правнуков моих.
ВОРОН
На суку восседает ворон,
Вороненый, как пистолет.
До солдатского разговора,
Видно, ворону дела нет,
На орудья он смотрит тупо:
Он спокоен теперь, он сыт. –
Много, много солдатских трупов
На несжатых полях лежит.
Может, завтра на этом месте
Оборву я предсмертный стон.
Он, наверно, прожил лет двести
И еще проживет лет сто.
Черной смерти картавый вестник,
Он столетие напролет
Проживет без любви, без песни
И без радости проживет.
Я, обстрелом к земле пригнутый,
На снегу встречая рассвет,
Не отдам и одной минуты
За вороньих полтысячи лет.
ВЕСНА НА БРУСТВЕРЕ
Нас опозданием измучив,
Весна пришла
и наяву
Из камня выжала траву
И высекла огонь из тучи.
И после боя,
в тихий час.
Когда орудья отгремели.
Я понимаю, что у нас
С весной одни и те же цели.
Так пусть меня
в окопном рву
Весна по-дружески научит
Из камня выжимать траву
И высекать огонь из тучи.
О ГОЛУБОЙ ГОРЕ
Я вспомнил вдруг далекий этот город,
Его асфальт, арыки и саман,
И тополя, и голубые горы,
Что так легко ввели теня в обман.
Я убежден был этой твердой ложью:
Я шел и видел в мареве жары,
Что запирает улицу подножье
Почти отвесной голубой горы.
И мне пришлось полсотни верст отмерить,
Следя за расстояньем по часам,
Чтоб, наконец, картографам поверить
И не поверить собственным глазам,
И вот теперь в землянке, перед боем.
В клубящемся махорочном дыму,
Ту улицу с горою голубою
Я вспомнил, сам не знаю почему.
Не потому ль, что гром артиллерийский
Уже стучит. И сколько там ни мерь.
Для нас родное остается близким,
Хоть будь оно за тридевять земель.
ТВОИ АДРЕС
Письмо, но почерк на конверте
Опять не твой, не твой опять.
И, может быть, до самой смерти
Твоих мне писем не читать.
Что ж, в этом странного не будет.
Как в минной вспышке на снегу.
Здесь падают нередко люди,
О смерть споткнувшись на бегу.
Но если, срубленный под корень,
Я рухну, взрывом опален,
В саду у ласкового моря
Тебя разыщет почтальон.
И ты поймешь тогда, на стыке
Со смертью, девочка моя,
Зачем твой адрес безъязыкий
Товарищам оставил я.
* * *
Все мамы говорили, как моя:
“Нет, не всегда – на радость сыновья.
Не за горами, – за углом живет,
А к матери дороги не найдет.
А если и пожалует раз в год,
То, как чужой, здороваясь, кивнет”.
Родные, так говаривали вы,
И разве же вы не были правы?
Но вот пришла, нагрянула беда.
Надели гимнастерки мы тогда,
Кто – на года, а кто – и навсегда
И в сумраке исчезли поезда.
Боялись мамы поздних вещих снов,
И ждали, ждали писем от сынов.
И всем им было ясно, как моей,
Что нет плохих не свете сыновей.
МЫ ВМЕСТЕ
После бомбового удара
Город в обмороке лежит.
Оплетает огонь пожара
Оглушенные этажи.
Ты бежала.
Дома клонились.
Впереди – не видать ни зги.
Клочья платья еще дымились.
Ты звала меня:
– Помоги!
Ты звала меня реже, тише.
Но за триста военных верст
Я твой голос в бою услышал –
И к прицелу мой взгляд примерз.
Были пальцы тверды на спуске.
Я – все дальше.
Редеет тьма.
Ты писала, что в нашем Курске
Перестали пылать дома.
Ты писала, что побывала
В разбомбленном своем углу:
Там одной стены не хватало,
Потолок лежал на полу.
Без меня ты ломала сипну,
Неприветлива, но добра,
Без меня ты месила глину
И носила песок с бугра.
Ты почти по-мужски трудилась,
Перед сном – не поднять руки.
Нелегко тебе приходилось.
Ты звала меня:
– Помоги!
Ты звала меня реже, тише,
Чтоб я слышать тебя не мог,
Но за тысячу верст был слышен
Теплый шепот твой, легкий вздох.
Я прицел находил с полвзгляда.
Я совсем не считал дорог
И других мне похвал не надо.
Лишь бы слышать, что я помог.
МАТЬ
Е. Погребной, бригадиру
добровольческой строительной
бригады в годы восстановления
Курска.
1
Уже, наверно, целых две недели
Лежит в старинном маленьком ларце
Бумажка, от которой почернели
У матери морщины на лице.
Она звалась в народе “похоронной”,
Бумажка, вдвое сложенный листок.
Мать на крыльце утрами почтальона
Не ожидала, кутаясь в платок.
По вечерам судьбу не тасовала,
Раскладывая карты на столе,
О снах своих ни с кем не толковала.
Что толковать?
Ведь он – в сырой земле
Что карты, коль разлука гробовая,
Что сны, коль нету встречи впереди…
Но все живое, не переставая,
О нем, о мертвом, матери твердит:
Вот девушка – он с нею вырос вместе,
И, может быть, он был бы счастлив
с ней…
Вот старый клен – с него он падал
в детстве…
Вот птицы – он не мог без голубей…
И даже – вещи. Не о нем ли книга
Страницей каждой шепчет горячо:
Он помнил путь двухмачтового брига.
Он в ней живет, раз он ее прочел.
А самовар? Сверкая медной крышкой,
Он напевает тихо об одном:
Как угольки в нем раздувал мальчишка,
Ее мальчишка,
рваным сапогом.
А молоток, пила, рубанок, клещи?
А этот самодельный шкаф для книг?
Нет, в целом доме не найдется вещи,
В которой бы не ожил он на миг.
Он воевал, но как была богата
Она, старушка в вязаном платке!
Была богата счастьем ждать солдата
Домой, с одною сумкой, налегке.
Она в той сумке клад любой отыщет,
Хоть будет сумка попросту пуста!
Он не придет.
Мать сразу стала нищей.
Как жжет, как давит эта нищета!
2
В дыру дверную мать вошла вздыхая
И, паутину отряхнув с лица,
О кирпичи и доски спотыкаясь,
Прошла по коридору до конца.
Потом вернулась к лестнице.
Перила
Обломаны. (Починят. Но когда ж?)
Чуть юбку приподняв, она всходила,
Боясь сорваться, на второй этаж.
Вот школьный зал.
В углу – клочки тетрадки,
У глобуса пробита голова.
Поваленные пальмовые кадки,
И на паркете в трещинах – трава.
Корзинку опустив на подоконник
(Картофель, лук и крынка молока).
Мать со своим упорством неспокойным
Добралась наконец до чердака.
Чердак темнел паучьими углами,
Вверху торчали гвозди из досок,
Наклонной горкой сложенные рамы
Стояли от нее наискосок.
Они два года света не видали,
Чердачная клубилась полумгла,-
Так для чего ж в них мастера вставляли
Прозрачные квадратики стекла?
Седую пыль концом платка отерла
И удержать улыбки не могла,
Когда вдруг «зайчик» заиграл на стеклах
Пятном живого света и тепла.
Домой шла пригорюнившись.
Слезинка
Светилась каплей солнца на щеке.
Уже у дома вспомнила: корзинка
Там на окне осталась, в уголке.
3
– Надюшенька! Ты нынче дома?
– Дома.
– А я к тебе потолковать зашла.
Ведь ты – наш председатель уличкома. –
Мать огляделась.
Села у стола. –
Я нынче утром побывала в школе.
В той самой, где без малого семь лет
Учился мой… ты знаешь… Анатолий…
Его теперь-то и на свете нет…
Спалить хотели школу душегубы.
Но починить-то все же можно дом. –
Мать вытерла платком сухие губы,
Простое слово находя с трудом. –
Вот если б так:
собраться, сговориться
И каждый день, хотя бы два часа,
Всей улицей нам в школе потрудиться! –
…Тепло светились грустные глаза.
4
Июльским жарким солнцем разогретый,
Держа газету трубкою в руке,
Товарищ председатель райсовета
От школы проходил невдалеке.
Он шел в совет и думал, что не очень
Дела с ремонтом нынче хороши.
Вот школа ждет. Но где найти рабочих?
Строителей свободных – ни души.
И матерьялов не дают. Известно,
Один ответ: на месте изыщи!
“Но, черт возьми, откуда это песня?
Да что я вижу? Глина! Кирпичи!
Строители? Но это просто чудо!
Несут кирпич и подают раствор…
Идет ремонт! Да кто ж они, откуда
– И как же я не знаю до сих пор?”
Он даже вдруг почувствовал обиду:
“Поставили б в известность райсовет…”
Но подошел не подавая виду.
– Ударницам строительства привет! –
А про себя: “Народ, конечно, слабый.
Но зря не любит времени терять”.
– Мне надо бы поговорить с… прорабом…
Кто здесь прораб?
– У нас прорабом Мать! –
Старушка вышла – руки в липкой глине.
О многом бы хотелось рассказать.
– Пусть будет школа памятью о сыне.
Он здесь учился… он – убит…
я – мать… –
Ему подольше подержать хотелось
Ее ладонь в своей большой руке.
Какая сила и какая смелость
У ней, старушки в шерстяном платке!
5
Пришел сентябрь.
И в белом школьном зале.
На стол поставив
новый табурет,
Мальчишка с лучезарными глазами
Прилаживает Матери портрет.
Ему друзья завидуют.
– Повыше!
– Подвинь чуть вправо!
– Не умеешь ты! –
Но он друзей как будто и не слышит.
– Уже прибил! Давайте-ка цветы!
– Да разве так?
– Стекла не вытер даже!
– Шнур подтяни!
– Ровней! Еще ровней!
– Держи цветы!..
Ну кто сегодня скажет,
Что нет у этой Матери детей?
ПУСТЬ УПРЕКНУТ МЕНЯ
Пусть упрекнут меня,
по праву
Наставников,
еще и в том,
Что я сговорчивей, чем Фауст,
Был в вольном выборе своем.
Что, видя лютиков цветенье
Под небом синей чистоты,
Я поспешил сказать:
– Мгновенье.
Остановись,
прекрасно ты!
Но в простодушной этой речи
Была совсем иная мысль:
Не застывай, мгновенье, в вечность,
Лишь погоди, побудь, продлись.
Пускай тут верх взяла усталость
И цену я забыл словам.
Но разве Фаусту досталось
Нести в дороге то, что нам?
Нет. Фауст не был с нами рядом,
Когда мы трое – батальон,
Под Харьковом и Сталинградом,
Под Курском с нами не был он.
И в зарубежных дальних далях,
Идя и напрямик и вкось,
Фауст-патроны мы видали,
Но Фауста – не довелось.
На простынях, что вьюга стелет,
В степи не коченел он тих.
Он не носил моей шинели.
Он не носил бинтов моих.
И терпеливый Мефистофель
С бородкой мирною козла,
А не эсэсовец фон Тойфель
Был для него посланцем зла.
Не потому ль он все свободней
Соблазны гордо отвергал,
Что не спешил быть в преисподней,
А я уже там побывал.
КУРСКИЙ СОЛОВЕЙ
На слух, как песню, узнаю
Мой край, сады мои,
Нигде так славно не поют
Весною соловьи.
На фронте, кто бы ни спросил
О родине моей,
Обрадованно говорил;
— А-а, курский соловей!
И улыбался невзначай
Светло, как будто я
Принес им на передний край
В котомке соловья.
Я был вконец смущен, – ведь я.
Как и они, солдат.
И есть в запасе у меня
Лишь хлеб да самосад.
Но подхватили все вокруг?
– А-а, курский соловей!
И я почувствовал, что вдруг
Всем стало веселей.
И хоть мой голос испугать
Мог насмерть соловья,
Я вашей кличкой, – что скрывать?
Доволен был, друзья.
О ПОКОЕ
В редкий час.
Когда я мог хоть малость
Отдохнуть, – винтовка под рукой, –
Мне твердила цепкая усталость,
Что желанный мир – это покой.
Я его не представлял в деталях:
У солдата времени в обрез.
Снова бомбовозы налетали,
И опять я на высотку лез.
…Заросла воронка у дороги,
Сладок мирный запах чабреца.
Кончились воздушные тревоги.
Но земным тревогам нет конца.
Поднимают нас они с рассветом,
Чтоб идти, как говорят, в штыки…
Может, и жалеет кто об этом,
Но, конечно, не фронтовики.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
(Из поэмы)
За пыльной листвою деревьев –
Солома замшелая крыш.
Петровка – родная деревня
В огне не сгорела, шумишь!
Вдохнуть этот запах укропа,
Полыни, гречих, чабреца,
Который в столицах Европы
Все снился,
тревожа сердца!
Недельку – на отдых,
а дале –
Есть Курск, есть крупней города…
Таких здесь немало видали,
Но Федор решил – навсегда.
Не мог он иначе:
уйди-ка.
Все это, как детство, любя.
Конечно, пустяк – повилика,
А вот не пускает тебя.
Не пробуй бежать –
бесполезно –
Как будто живой,
но железный
а сильном магните стоишь.
Твоей они стали судьбою,
Тебя к ним вели все пути.
Отсюда уйти, что из боя,
Товарищей бросив, уйти.
Запрятал награды.
Суровый
(Бирюк – у кого ни спроси).
Он зябь поднимал
на коровах,
Вручную
пшеницу косил.
Под мокрым нахмуренным небом
С мамашею ладил плетень,
Ел хлеб,
от которого хлебом
Не пахло и в праздничный день.
На кладбище,
в дикой малине,
Где рвется, как нитка, тропа,
Сестре –
подорвалась на мине –
Могильный окопчик копал.
Земля Катерину накрыла,
Тяжелые комья срослись,
Стоит на посту у могилы
Сосновый простой обелиск.
Там – надпись:
“Налобова Катя, –
Подчеркнуто черной чертой, –
Прицепщица с трактора НАТИ.
В дни мира убита войной”.
Не каждый поймет это с ходу,
Не каждый прочтет между строк.
Хотелось бы лучше,
но Федор
Другого придумать не смог.
Он раннею зорькою вешней
Над этой могилой родной
Приладил на ветке скворечник
С окошком и крышей резной.
И женщины
возле колодца
Чуть свет
толковали опять:
– По виду – бирюк, не смеется,
А сердцем-то ласков, видать.
И он –
всей деревне на диво.
Молчком,
хоть не весел да лих,
Женился на самой смешливой,
На самой глазастой из них.
Улыбку сгоняя при встрече,
Не знали они, как на грех,
Что Федор любил человечий,
Душевный, заливистый смех.
И если он выглядел хмурым,
Причина тому не одна:
Отчасти, быть может, натура,
Но главное – это война.
Людей было мало.
Всем миром,
А мир – шестьдесят голосов.
Назначен он был бригадиром.
Все – за,
кроме Феньки Косой.
Не баба – нечистая сила,
Она и до этой поры
Женитьбы ему не простила,
При встрече глядит,
как с горы.
А Федор женитьбой доволен,
Он выбору рад своему,
И если женитьба – неволя.
То воли не надо ему.
МАМА
1
Ей мало надо, старой маме:
Рукой коснись ее волос,
Ее морщин коснись губами, –
И мама счастлива до слез.
Всю жизнь не знавшая покоя
От малых и больших тревог,
Она простит тебе такое,
Чего б никто простить не мог.
И пред лицом ее усталым
Ты, выпрямляясь в полный рост,
Уже во что бы то ни стало
Во всем поверишь ей всерьез.
Старушка в платье блекло-желтом,
Она в тревоге весь свой век,
Чтоб до конца свой путь прошел ты.
Как настоящий человек.
2
Ты не слагала мужеству похвал,
О доблести со мной не говорила,
Но лишь на фронте понимать я стал
Твое бесстрашье, выдержку и силу.
Когда я слышу, что похож на мать,
От тех, кого не обвинишь в обмане.
Я знаю, как мне это понимать
И кто по праву здесь на первом плане
Не цветом глаз и не рисунком губ
Мы с ней почти до совпаденья схожи,
А тем немногим, что в себе могу,
Не покривив душой, назвать хорошим.
3
Знаю, мама, подчас к тебе
Мысль в ночи подползает скользкая.
Что заметно я огрубел,
Под огнем по-пластунски ползая;
Знаю, в сердце твоем есть грусть,
Оттого что я месяцами
Не целую тебя,
стыжусь
Прислониться,
как в детстве,
к маме.
Нет, не грубость во мне росла
Меж израненными курганами.
Это те, кто сидел в тылах,
Глохли, делались деревянными.
Я с винтовкой в боях носил
Инструмент немудреный шанцевый,
Но у времени не просил
Для души оболочки панцирной.
Просто там,
посреди войны,
Под грохочущими ударами,
Чувства вызрели,
так сильны,
Что не высказать их
по-старому.
4
Раскаянья не отвергаю.
Коль мне вина моя видна,
Но не спешит прощать другая –
Обиженная – сторона,
Хоть и в помине нету фальши,
Хоть чистой правдою дышу.
Лишь мать
всегда прощает раньше,
Чем я прощенья попрошу.
ЧЕРНАЯ ПОВЯЗКА
Я ранен минным был осколком
В причерноморской стороне,
Кой-кто считает, что неловко
Об этом говорить при мне:
Мол, тут особое раненье,
И от души нам жаль бойца.
Пусть пострадало б только зренье,
А то – и красота лица.
До гроба горькая примета –
Носить повязку иль протез,
Ходить и не видать полсвета,
Ходить – отпугивать невест.
Нет!
Умолчанье не врачует
Крещенных ливнем огневым.
И от души сказать хочу я
Доброжелателям моим:
Конечно, рана – не подарок.
Но все случается в бою.
И силы тратите вы даром
На жалость тихую свою.
Повязку черную носил я,
Но ей лица не зачеркнуть
И гордых девушек России
Ей никогда не отпугнуть.
Они своей обходят лаской.
Любовью, верной и большой,
Не тех,
кто с черною повязкой,
А тет,
кто с черною душой.
А если говорить без фальши
О зреньи, остроте его, –
Я сердцем вижу
глубже,
дальше,
Чем до раненья моего.
Да, нам хлебнуть всего досталось –
Одни без ног, другой – без глаз,
Но нам, друзья, нужна
не жалость –
Нужна нам правда без прикрас.
СОСНЫ
Сосна – она,
тут – женский род.
Мы это твердо помним с детства,
Но, если пристальней вглядеться.
Кто в соснах женственность найдет?
Как на смотру, за рядом ряд,
Они навытяжку стоят.
Подтянутость,
защитный цвет,
Намека на кокетство нет.
Я здесь,
как в строевом полку,
Где каждый воин начеку.
Я сразу хвоей весь пропах
И дни припомнил боевые.
Нет, женщины и на фронтах,
В шинелях,
к счастью, не такие!
ОЛЯ
На одной из тихих улиц в Курске.
У тесовых сереньких ворот,
Песню провансальцев по-французски
Девочка кудрявая поет.
Интересно, как это случилось?
Восемь лет ей минуло едва.
Где ж она французскому училась,
Где взяла мелодию, слова?
Вот подходит быстро к ней, глазастой,
Носов Степка – местный наш Тимур.
Говорит ей дружелюбно:
– Здравствуй! –
И она тотчас ему:
– Бонжур! –
И мальчишка,
левою рукою
Сдвинув свою кепку набекрень.
Спрашивает:
– Это что такое?
– Ти не понимает? Доблий дьень!
Мне вначале показалось странным:
В Курске, от Москвы невдалеке.
Девочка совсем как иностранка
Говорит на русском языке.
“Доблий дьень. Бонжур”…
Теперь я знаю.
Что у девочки кудрявой той
Мама есть – курянка коренная,
Папа есть – марселец коренной.
Где же они встретились?
В концлаге.
Не в зеленой роще у ключа.
Знак паучий на имперском флаге.
Пепел человеческий в печах.
Ледяной, как смерть, цемент подвала
Воронье над лагерной трубой.
Но и здесь
рождалась,
выживала,
Крепла,
вопреки всему,
любовь.
И в шумливом городе Марселе.
Года через два после войны,
Оля появилась в колыбели, –
Имя дал отец ей в честь жены.
Он в порту работал на погрузке
Океанских грузных кораблей.
А она все о далеком Курске
Говорила доченьке своей.
Говорила с ней сперва по-русски,
А потом на новом языке:
Не по-русски и не по-французски –
На смешном своем волапюке.
Празднует рабочее предместье
Штурм Бастильи или Новый год,
А у мамы сердце не на месте,
Мама песню курскую поет,
Молча поит папу сладким чаем.
– Что ж ты не смеешься?
Что ж молчишь? –
Папа говорит:
– Она скучает.
Скоро мы покажем ей Париж.
Веселей на свете нету места!
А какой я знаю к Сене спуск!
Он Париж ей показал проездом
В самый лучший в мире город Курск.
На одной из тихих улиц в Курске,
У тесовых сереньких ворот,
Песню провансальцев по-французски
Девочка кудрявая поет.
А Тимур наш недоволен вроде.
Он сейчас серьезен, даже хмур.
К девочке он медленно подходит
И раздельно говорит:
– Бонжур!
Ты скажи, пожалуйста, мне толком
Это слово понимаешь?
– Да.
– Вы сюда приехали надолго?
– Нет, мы не надолго. Навсегда.
* * *
Когда мальчишкой был,
едва ли
Меня левкои волновали,
Я цену знал мужским вещам:
Рогатке, змею, спичке,
А на цветочки и косички
Внимания не обращал.
Я их не связывал тогда,
Косички и соцветья,
Лишь общим словом “ерунда”
С пренебреженьем метил.
Не помню уж с какого дня,
С какого озаренья.
Но на коснчкн точка зренья
Вдруг изменилась у меня.
При встрече с ними я притих,
Оторопел и замер.
Вот тут и выявилась их
Живая связь с цветами.
Я начал думать о цветке.
Да кто ж он и откуда?
Он в тонкой девичьей руке
Мне показался чудом.
Блеснул, раскрылся, рассиялся
И чудом навсегда остался.
СХОДСТВО
Давно ли лед такой был
прочности,
Что за рулем грузовика
Не помнили шоферы в точности,
Где тут запряталась река.
А нынче ты хлопот наделала,
Порвав меж берегами связь.
Несутся крыги обалделые,
Сшибаясь, трескаясь, дробясь.
Опять свершилось неминучее,
И имя вновь твое гремит.
Как этот ледогон под кручею,
Как возле моста – аммонит…
Я с женщиной иду вдоль берега.
Отвесный спуск ее страшит.
Она ступает неуверенно
И от волнения молчит.
Ты свирепеешь,
льдины двигая,
Мосты непрочные губя.
А эта – тонкая и тихая.
Но как похожа на тебя!
Давно ли,
никого не слушая,
Она пришла
и навсегда
Мое взломала равнодушие,
Как ты сегодня – толщу льда.
* * *
Легли между нами версты.
Я был одинок, как остров,
Как древко без пламени флага.
Я был терпелив, как бумага,
Ты снова со иной,
и в пене
Сады,
и легка усталость.
Что ж нам помогло? Терпенье?
Да. Тем, что оно порвалось.
ОЖИДАНИЕ
Еще один встает рассвет,
Неранний, строгий.
Ты возвратишься или нет?
Прошли все сроки.
Ненужный остывает чай.
Ты б, слов не тратя. –
Мне телеграмму: мол, встречай.
И все. И хватит.
Вот почта, наконец, идет.
Опять: “Вам – нету!”
И только осень рвет и жжет
Записки лета.
Пусть рвет она и мечет,
пусть
Сорит листками.
За сотни верст я дотянусь
К тебе руками.
Светлеет день.
И как всегда,
Ветра калеча,
По рельсам мчатся поезда
К свиданьям, к встречам!
* * *
Ты все роднее и роднее,
Все больше ты в моей судьбе.
Мне все труднее и труднее
Полправды говорить тебе
Иль соглашаться молчаливо.
Твоей не тронув простоты,
Что я и сильный, и счастливый,
Каким меня считаешь ты.
Не лучше ли,
обезоружив
Тебя правдивостью своей,
Открыть, что я слабей и хуже,
Непостоянней и бедней.
Нет! Лучший выход из обмана –
Ломать себя до той черты,
Пока взаправду я не стану
Таким, в какого веришь ты.
* * *
Деревьев темные скелеты
Сечет осенний длинный дождь,
А я вхожу в тебя, как в лето.
Как в рожь, как в золотую дрожь.
Трава родная луговая
В твоих глазах цветет, зовет,
И рук порука круговая
Теплом и счастьем обдает.
И все мне дорого до крика,
До немоты
в тебе – моей,
И губ лесная земляника.
И холодок речкой грудей.
Я слышу шелест листьев где-то,
И просьбу перепела: “пить”,
И ничего страшнее нету,
Чем не желать и не любить.
ПРИМЕР
Ему бы – под сенью крон.
Слушая шелест сказки.
Тихо дремать,
а он
Хочет – вон из коляски.
Поднять не просит.
Еще немножко, –
И за борт бросит
Вторую ножку.
Упрямый парнишка.
Характер – вот он!
Пойми,
я – не рикша.
Везу с охотой!
Не хочет меня понять,
Карабкается без подмоги.
Ему – поскорее встать
На собственные ноги!
СМЕХ И СЛЕЗЫ
Когда я плакал?
Лет пятнадцать
Тому назад, и то чуть-чуть.
Теперь мне легче рассмеяться,
Чем, свесив голову, вздохнуть.
А малышу варенья в блюдце,
Сердясь, не положила мать.
И вот ручьями слезы льются,
И их никак не удержать.
Сверкает снег, сияет солнце,
И ждет владельца пара лыж…
Тебе, видать, трудней живется,
Чем мне, мой плачущий малыш!
МАЛЫШ РИСУЕТ
Рисует малыш:
по дороге
Мужчина идет.
Ничего,
Что руки длиннее, чем ноги.
А нос на щеке у него.
Он все же дойдет.
И не страшно,
Что дождик, а он без калош,
И дом на Пизанскую башню
Опасный наклоном похож.
Багрянец стекает по стенке,
Оранжевый ширится свет.
Здесь много цветов и оттенков.
Но серого колера нет.
И как не признаться,
что после
Вот этой смешной чепухи
Мне стыдно бывает
до злости
За многие наши стихи.
ПОДСОЛНУХ
Чуть покажет на востоке
Солнце красный гребешок,
И подсолнечник высокий
Смотрит прямо на восток.
К полдню солнце у зенита
Белым пламенем горит,
И подсолнух непокрытый
В этот час глядит в зенит.
Вечер. Запад полыхает
Уходящей краской дня,
И подсолнух не спускает
Глаз с червонного огня.
Все дела свои откинув,
Не поставив запятой,
Я показываю сыну
Тот подсолнух золотой.
И, одним желаньем полный.
Я смотрю на малыша:
Пусть растет он, как подсолнух,
Чтобы к солнцу – вся душа.
ПРЫЖОК
Ива добежала до обрыва
И остановилась у черты.
Наклонилась, вздрогнула пугливо
И впилась корнями в землю ива,
Ветками схватилась за кусты.
Разве она думала про спелость?
Смелость это дело не ее.
Просто ей увидеть захотелось
В речке отражение свое.
А мальчишка подбежал строптиво,
На бегу одолевая страх,
Птицею взлетел на ветку ивы.
Оттолкнулся и исчез в волнах.
Разве ему хвастаться хотелось?
Не пришли свидетели сюда.
Нет, ему необходима смелость
Так, как эти воздух и вода.
МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО
Иногда так просто
Сделать чудо.
Мальчик с пальчик,
Этакий пузырь,
Накатавшись,
Налетавшись всюду.
Спит,
Как после битвы богатырь.
В лес Топтыгин
Манит его лапой –
В этот миг,
Прекрасна и свежа
В двери, наяву,
В обнимку с папой.
Входит Елка,
Ветками шурша.
На нее из рамы
Смотрит Пушкин.
Понимая
Эту красоту.
Укрепляет мама
На верхушке,
Может, с неба снятую
Звезду.
Чуть звенят
Стеклянные мониста,
Голубеет
Тепловатый снег.
И, вдыхая
Аромат смолистый,
Мальчик
Улыбается во сне.
…Мальчик с пальчик
Открывает веки.
Не зевнув,
Открытый держит рот.
Этот миг
Запомнит он навеки,
Сквозь огни и воды пронесет.
В двух шагах –
Рукой достанешь – Чудо.
Серебро. Багрянец. Бирюза
– Мама! Папа!
Что это?! Откуда?!
Протирает малышок глаза.
И совсем
Без всякого притворства,
И ничуть не в шутку,
А всерьез,
Отвечают гордо
Чудотворцы:
– Мы не знаем…
Это – Дед Мороз.
Пусть же эта
Радостная скромность
Им не изменяет
Никогда:
Ни в аудиториях огромных,
Ни в цехах,
Ни в дальних поездах.
И по всей
По необъятной шири.
Подняв
Золотые паруса,
Пусть сияют
Рядышком с большими
Маленькие эти
Чудеса!
СКВОРЕЧНИК
Мороз, как штык,
остер а тих,
Растет он,
силы не тая,
Блестящих клиньев ледяных
Свисают с крыши острия.
Дуб, что листву в январь пронес,
Стоит на взгорье молчалив.
Он длинным инеем оброс
Весь – от макушки до земли.
Но, словно радостный намек, –
Пусть улыбается народ, –
Весны чудесный теремок,
Жильца певца
скворечник ждет.
БЕЗ КОНДУКТОРА
Это случается каждое утро:
Входят в автобус приезжие люди.
– Кондуктор, билетик!
– Нету кондуктора!
Где же он все-таки?
– Нет и не будет!
Бабушка смотрит растерянным взором:
“Здесь, ведь, наверно, Содом и Гоморра!”
Хмыкнул парнишка:
“Ну, просто умора!
Кто ж меня будет стращать контролером?”
Верткая кумушка мыслит иначе,
В пухлой руке трехрублевку сжимая.
“Значит, нельзя и поспорить о сдаче?
Как же без зтого? Не понимаю!”
Но у парнишки жгут руку монеты.
Как бы скорее от них отвязаться?
Если б ругали – не взял бы билета,
Тут же, – ну просто не вытерпишь –
зайцем!
Тетушке тоже, признаться, неловко:
Очень мешает в руке трехрублевка,
– Граждане, видно, здесь надо умеючи:
Мелочи нет у меня ни копеечки.
– Стоит ли переживать из-за мелочи?
– Вот она мелочь! Возьмите у девочки!
“Надо проверить…”
Ан нет, не проверила.
“Раз уж доверие – так уж доверие!”
Бабушка тоже довольна автобусом:
Место ей враз уступили без фокусов.
Здесь и обидчивый, здесь и насмешливый.
Вспыльчивый, взбалмошный и
раздражительный,
Старые, малые, – все положительно
Как-то сердечно, сияюще вежливы.
Входят в автобус новые люди.
– Где же кондуктор?
– Нет и не будет!
ЗАРЯ ПЕРВОМАЯ
Я это утро не забуду:
Полет широкий тишины,
Зари захваченное чудо.
Невыключенный свет луны,
И небо цвета незабудок.
Я это утро не забуду:
Еще безлюдное,
оно
Уже предчувствием полно
Большого праздничного чуда
И флагами осенено.
О, утро Первомая!
В нем,
В его неведенье глубоком.
Таится радостно, до срока,
И бодрый оркестровый гром,
И гул, и плеск людских потоков
Вот тишина качнулась чуть,
И небо ярче засветилось.
Я верю в праздник,
но хочу,
Чтоб ожидание продлилось.
НАДСНЕЖНИК
Не напевайте нежненько,
Букетик сжав в руке,
О маленькой подснежнике,
О синеньком цветке.
Он не от стужи посинел, –
Он побежденным не был.
В его окраске видно мне
Родство прямое с небом.
Он показал характер свой,
Цветок закалки фронтовой.
Над мертвой зимнею корой
Он первый встал – весь вешний,
Цветок – смельчак, цветок – герой,
Наш первоцвет – надснежник.
ДОЖДЬ
Он накрывает громом
весь район.
Не целится
и все ж наверняка
В цель каждой каплей
попадает он:
В песчинку почвы,
в чашечку цветка.
Он городу
плеснул за воротник,
Он на лугу затеял хоровод.
– Гуляйте! –
говорит ему лесник.
– Садитесь! –
приглашает садовод.
– Давно пора!
Мы вас, как друга, ждем,
Давайте потолкуем не спеша, –
Такую речь заводит агроном,
Минутой каждой
кровно дорожа.
Он – с нами, дождь,
веселый, грозовой!
За ним по следу
урожай идет,
И радуга над нашею землей,
Широкая и легкая, встает.
В ЦЕХЕ
Создатель тонюсеньких книжек,
С чудникой, видать, в голове,
Станка я почти и не вижу,
Когда у станка –
человек.
Все зренье мое, все вниманье,
Весь мыслей моих разворот,
Сочувствие и пониманье.
Он накрепко сразу берет.
И как бы резцы ни сверкали,
Я страстью захвачен иной,
А чтоб любоваться станками, –
Попасть бы сюда в выходной.
ОТПУСКНИК
Проснулся в избушке охотничьей,
Где стол да хромой табурет,
Где все грубовато по-плотничьи
И лоска столярного нет.
Послушал, как ранняя птица
Свистит, прославляя свой быт,
И к речке сошел, что дымится,
Как будто и впрямь закипит.
Глядел на совсем еще алый
Восток над густым лозняком
И вспомнил разливку металла,
И вдруг заскучал небывало
О цехе горячем своем.
ОСНОВАТЕЛИ
С экспресса – на верблюдов.
Докрасна
Раскалены пески большой пустыни,
Она вам лжет миражами.
Она
Пугает вас колодцами пустыми.
Она меж днями обрывает связь.
Она вас обжигает ветром грубым.
Вы скупо улыбаетесь,
боясь
Растягивать надтреснутые губы.
Искать еще. Везде искать. Всегда.
В граните,
в доломите,
под суглинком.
Вас не собьет пустыня со следа
Ни голодом, ни жаждой, не пендинкой.
Бесценный отыскали вы металл.
Кусок руды уже уложен в ящик.
И там, где скудный лагерь ваш стоял,
Не сыщешь и бумажки завалящей.
Но, как мираж, далекий видя дом,
Вы, знает оглушенные,
едва ли
В пути обратном думали о том,
Что тут
сегодня
город основали.
В БОЛЬНИЦЕ
Здоровья сыновья и дочери
Пришли ватагою к врачу.
Врач приглашает их,
и очередь
Не возмущается ничуть.
Нет! Нервная и многоустая,
Она сегодня им сочувствует
И даже будто бы гордится.
Светлеют в очереди лица,
Глаза теплы,
никто не жалуется:
– Не трудно обождать!
– Пожалуйста!
А в белой операционной –
Здоровья дочь, здоровья сын –
Все получают порционно
Из рук сестры новокаин.
И врач старается, как может.
Ведя ланцет рукой привычной,
С живых сдирая ленты кожи, –
Ведь сами просят,
каждый – лично,
Никто не охает,
не кривится,
Здесь все – счастливцы,
все – счастливицы
Выходят. Ищут папиросы.
Небрежно поправляют волосы,
И отвечают на вопросы,
Но кратко и неполным голосом.
– Наш бригадир…
– Такое дело…
– Уж очень сильно обгорел он…
А бригадир лежит в постели,
В повязках раскаленных, в марле,
Отталкивал еле-еле
Смерть
в нескончаемом кошмаре.
О красоте большого риска
Не думал бригадир нимало,
Когда непойманная искра
В бензин без промаха попала.
Нет, бригадир взмахнул руками
И прыгнул, и упал на пламя.
Душил его, как среди пашни
Врага душил бы в рукопашной.
И словно раненый в атаке,
Встал и шагнул – высокий факел.
Теперь в постели жуткой он,
Удерживая стоны, мечется,
Не зная, что уже спасен
Всей силой дружбы человеческой.
Ему сказать скорее надо,
Что все пятнадцать
в это утро
Явились на прием к хирургу
Коммунистической бригадой.
Коммунистической – не в дальнем,
В тот нынешнем, что мы видали!
Он будет долго с болью драться
И отводить упрямо зеркало.
“Чего уж там глядеться, братцы…
На ощупь знаю: исковеркало”.
Но разве опоздаешь ты
Прийти, шепнуть ему,
красавица,
Что не терял он красоты,
Она совсем не так теряется.
САЛТОВСКИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ
К заводу улицы простерты.
Рабочий люд. Рабочий быт.
И не поймешь, какого черта
Добавка к имени: “Четвертый”
По-императорски звучит.
При императоре
в халупу
Шел отдыхать мастеровой.
Но тут искать их просто глупо,
Не углядишь, хоть волком вой,
Я видел сам, каким манером
Здесь люди строили жилье.
Не из жестянок и фанеры, –
Особняки, а не гнилье.
Не за червонцы,
встав с рассветом,
Кто с топором, кто с мастерком,
Артелью новому соседу
Соседи возводили дом.
Трудились ладно и охоче.
Лишь об одном – как лучше – спор.
Ведь человек-то свой, рабочий,
С электростанции монтер.
Дома встают не по ранжиру,
А по проектам типовым.
Не те, в каких беситься с жиру,
А те, где жить – расти живым.
Над серебристой, над зеленой.
Над каждой крышей на шесте
Антенны телевизионной
Стоит заманчивое “Т”.
Тут спать ложатся без запоров,
В июле ж и кровать – во двор.
Кусты, Деревья. Нет заборов.
А, впрочем, все же есть забор.
К нему на собственной “победе”
Его владелец подкатил.
Он дом свой строил без соседей,
Он водкой плотников поил.
Со всей семьей он не напрасно
Возделывает огород.
Он земледелием террасный
Рабочий удивил народ.
И у него – тут знает каждый,
Узнал поэтому и я, –
Есть свой крольчатник трехэтажный
И птицефабрика своя.
Он на запорах держит двери,
Соседей в гости не зовет.
Его жена нам хрен и перец
На Конном рынке продает.
Он только-толечко с курорта,
Был на Кавказе и в Крыму,
Но здесь, на Салтовском Четвертом,
Не позавидуют ему.
Ведь все труднее опереться
Ему на тех, с кем он ловчит.
Страх днем окатывает сердце
И по ночам во тьме стучит.
Придирками хозяин мучит
Своих детей в своем дому,
И зыбким все благополучье
Нередко кажется ему.
Владетель кроличий и птичий
В “победе” мчится он опять.
Но вот
победы
без кавычек
Ему ни в жизнь не увидать.
СОБОР
Стоит уж триста лет собор,
А с виду всё красив собой.
Величье есть в его чертах.
Во всем его охвате.
Надежды взлет, мечты размах,
Созвучья, как в кантате.
Желанны формы куполов,
Малинов звон колоколов.
Чуть утро – дверь не заперта:
Входи, сестра и брат!
Три нищенки на паперти
Воронами сидят.
Сидят, глядят воронами,
С покорностью, с тоской,
Встречают всех с поклонами,
Протянутой рукой.
Встречают крестным знаменьем
Под иноческим знаменем.
Оно у них незримое,
Руками не творимое.
Не ткано и не вязано.
Но господом помазано.
Под этим знаменем собор
Вербует Души до сих пор.
Вот девушка с колен встает.
Ее глаза чисты.
Я, помнится, встречал ее
В халате медсестры.
И мальчика на празднике
Я видел в красном галстуке.
Он шепчет детские слова:
– Уйдем скорее, мама!
Но вносит горький рубль вдова
На обновленье храма.
Собор – от слова собирать
Не подаянье – дань,
И забирать, и обирать –
Длинна святая длань.
Дневного света
в алтаре
Светильники горят.
И в зиле ездит архиерей
Четвертый год подряд.
Он пастве не устал трубить:
– Довольны будьте малым.
Сучите серенькую нить,
Чтоб и работать, и любить
Хотеться перестало.
Под этим крестным знаменьем.
Под иноческим знаменем.
Оно у них незримое,
Руками не творимое.
Незримое?
Нет, вижу я
Сейчас его над крышею.
Вот – черное полотнище
Над куполом полощется.
Над кровлями обители –
Слепое и упорное.
Неужто вы не видели?
Не красное,
а черное.
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Железногорск. Он в память врезан.
В ушах гудит его страда.
В его названье вкус железа.
Солоноватый вкус труда.
У новоселов слово свято:
Гремя, в карьере рвется тол.
Названье города ведь взято
Вначале было как бы в долг.
Но люди честью трудовою
Клялись, войдя в исток работ,
Что скоро этот долг с лихвою
Железногорск стране вернет,
И вырос город возле леса
Быстрее, чем растут в кино.
Отныне собственным железом
Его названье скреплено,
Совсем не признавая будней,
Во власти солнечных затей,
Детишки запускают “спутник”, –
Здесь много маленьких детей.
И я хочу без суесловья
Их космонавтами назвать
И всем железного здоровья,
Железной силы пожелать.
Ведь по примете очень точной,
Стократ проверенной давно,
Уже стоит тот город прочно,
Где малышей полным-полно.
ПИРАМИДЫ
В Донбассе встретил я араба.
Не с гидами, а одного.
Он говорил на русском слабо,
Но понимали все его.
Сказал – и толмача не нужно,
Течет беседа весела.
Ведь переводчиком-то Дружба
У нас и у него была.
Не словом, – так движеньем, взором
Он объясняться с нами мог.
Лицом похож был на шахтера –
Навечно в коже уголек.
И как-то очень уж особо,
В волненье замедляя шаг,
Глядел наш гость заморский в оба
На терриконники у шахт.
А что в них? Это ж ведь порода,
Пускай уж лучше он глядит
На гордость здешнего народа –
Донецкий чистый антрацит.
Но тут меня вдруг осенило,
Я гостя понял до конца:
Есть пирамиды возле Нила.
Есть терриконы близ Донца.
У ШАХТЕРОВ
Грел меня в стужу славно,
Мчал по узлам дорог
Добытый ими в лавах
Пламенный уголек.
И не забавы ж ради,
Вот уж сколько лет.
Льется в мои тетради
Ими зажженный свет!
Вот и стою, встревожен,
Жизнь нас впритык свела.
Знаю: они ведь тоже
Ждут от меня тепла.
В сборе почти вся смена –
Шутки теперь плохи!
Я для теплообмена
Срочно ищу стихи.
Шарю по оглавленью.
Это годится? Нет.
Мало в стихотворенье
Жара сердечных недр.
Это?.. Да нет, пожалуй,
Все-таки воздержусь.
Это?.. Цепочка жалоб,
Это?.. Сплошная грусть.
Сердце все неспокойней
Бьется, – давай огня!
Вот уже терриконник
Вырос возле меня.
Вижу: породу эту
Надо из книг долой!
Вместо тепла и света
Можно ль платить золой?
ИСКАТЕЛЯМ
Карту знают и дети:
Это – мыс, это – мель.
Нет на нашей планете
Неоткрытых земель.
Но, любя географию,
Юность верит мечте.
Ей нужны в биографию
Земли трудные те,
Где очаг не дымится.
Ни кола, ни двора,
Не кустится пшеница,
Не шумит детвора.
Нашей юности любо,
До сияющих слез,
Счастье первого сруба,
Счастье первых борозд,
Ей комбайны впервые
Повести бы и здесь.
Есть ли земли такие?
Для искателей – есть!
Если холм обозначен
Среди волн ковыля,
Это вовсе не значит,
Что открыта земля.
Вот целинный, непаханый.
Неоглядный простор,
А за ним – под папахами –
Лбы упрямые гор.
Если с плугом да сеялкой
Обойти целину,
Хватит хлеба на целую –
Не из малых! – страну.
Не об этом ли разве
Мы мечтали с тобой?
Там – наш дом,
там – наш праздник,
Подвиг наш и любовь!
Вещи собраны с толком,
И гудок уже дан,
И на верхнюю полку
Водружен чемодан.
Где полями,
где пущами
Мчатся вдаль поезда,
И над далью зовущая
Не заходит звезда.
ВЕРШИНА
Вступили люди в многоборство
С той крутизной,
Где нет дорог.
Гранит
Живому их упорству
Завидовал бы, если б мог.
Пусть крут подъем, –
Характер круче
У тех, отважных,
Кто рожден,
Чтоб сверху вниз
Смотреть на тучи,
Стоять
Не под,
А над
Дождем.
Они тропинкой пол-аршинной,
Вдыхая грозовой озон.
Пройдут,
И новая вершина
Откроет новый горизонт.
О СЛОВЕ “ТОВАРИЩ”
Есть слово судьбы настоящей,
В нем голос эпохи окреп
Его произносим мы чаще,
Чем слово насущное “хлеб”.
Отцам дорогое до боли,
Шагая вперед тяжело,
Оно надрывалось в подполье,
И тюрьмы, и ссылки прошло.
Винтовкам в глазницы глядело
В партийном бессмертье своем.
Его не отделишь от дела,
Что ленинским делом зовем.
В отчизне – от края до края –
Всегда неразлучны мы с ним.
Впервой человека встречая,
“Товарищ” ему говорим.
“Товарищ” – и настежь все двери,
И хлеб, и табак – пополам.
В том имени – голос доверья,
В том имени – доступ к сердцам.
Его не отделишь от дела,
От веры своей и любви.
Оно к подлецу прикипело, –
Так с кровью его оторви!
ВЕНГЕРСКАЯ ГРЕНАДА
Весны закипающий шум
Любили мы слушать с ним прежде…
О друге моем я пишу.
Который убит в Будапеште.
От края родного вдали,
Б клубящейся мгле ошалелой,
Сквозь самое сердце прошли
Навылет
“скрещенные стрелы”.
Но видится друг не в бою:
Шагая со мною по саду.
Он снова читает свою
Любимую с детства “Гренаду”.
О хлопце, что шел воевать
Не славы, не почестей ради.
А землю желая отдать
Крестьянам в далекой Гренаде.
Он эти стихи наизусть
Твердил мне не громко, но внятно.
Большая испанская грусть
Сердцам нашим очень понятна.
В земле сталинградской лежит
Твой мальчик, твой сын, Ибаррури,
Закованный в цепи Мадрид
Чело свое смуглое хмурит.
…Я знаю: приказ не совет,
И в армии все – по приказу.
Идти в Будапешт или нет,
Его не спросили ни разу.
Но, если б спросили всерьез.
Горяч, но спокоен и светел,
Мой друг бы на этот вопрос
Стихом из “Гренады” ответил.
Он все понимал хорошо.
Всем сердцем он чуял:
так надо.
Он взял автомат и пошел.
Он понял, что это – Гренада.
БАЛЛАДА О ДВУХ АСТРОНОМАХ
1
В бескровности встретил Звезду астроном.
Он с нею лет тридцать был близко знаком.
Всегда узнавал, а теперь не узнал:
Почти ослепил небывалый накал.
Ученый глаза на секунду закрыв,
Сказал ассистенту:
– Космический взрыв!
Он думал о солнце: “А если б оно?
Все было б дотла на Земле сожжено.
Но трижды мы ловим на взрыве Звезду.
А Солнце все то же – у всех на виду.
Теперь уже каждый, кто честен, поймет:
У Солнца характер и возраст не тот.
Пусть трудятся люди: не в мертвой золе –
В садах и лесах быть веселой Земле!”
2
На желтой горе, в полушарье другом,
Следил за Звездою другой астроном,
Потом из высоких космических сфер
Домой его вез молчаливый шофер,
В квартире меж тихих эстампов и книг
Метался назойливый радиокрик:
“…Опасные происки большевиков!
Бастует почти миллион горняков!..”
Он кнопку нажал – тишина, как обвал.
Он диктора на полуслове прервал.
– Бастуют? –
брезгливо скривилась губа.
– Я им разъясню, что бесцельна борьба.
…Улыбки, поклоны,
– Профессор. сэнк’ю!
Газетам он лживое дал интервью:
“В грядущее узкую дверь отворив,
Я вижу на Солнце космический взрыв.
Сильнее, чем тот, что вчера в двадцать два
Был нами отмечен в созвездии Льва.
Нелепа забота о завтрашнее дне:
Я вижу планету в смертельном огне.
Кипят океаны, грохочет пожар.
…Вращается мертвый обугленный шар”.
3
Два взгляда в пространстве сошлись
неземном:
Мой друг – астроном и мой враг –
астроном.
И два телескопа в далекий квадрат,
Как два дальнобойных орудья глядят.
МУЗЕИ МАКЛАЯ
Светлой памяти
Н.Н. Миклухо-Маклая
посвящаю.
Маклай уплыл.
В простой печали.
Как будто все пред ним в долгу.
Туземцы темные стояли
На невысоком берегу.
Маклай уплыл
И еле-еле
Высокий парус различим.
Все папуа осиротели
Теперь,
когда простились с ним.
Маклай уплыл.
В пурпурной дали
Костер восхода тихо гас.
Туземцы молча вспоминали.
Как он пришел к ним
в первый раз.
Идя спокойными шагами
С собой не нес он на заре
Ни длинной смерти за плечами,
Ни малой смерти на бедре.
С улыбкой светлой,
не бледнея.
Умел смотреть на копья он.
Он безоружностью своею
Был до зубов вооружен.
И через чувство уваженья
Переступить никто не смел.
Такой
не может быть мишенью
Для узких копий,
острых стрел.
Во имя жизни,
а не славы,
Он папуа учил, мирил
И пряди их волос кудрявых
В альбомах бережно хранил.
Уплыл Маклай…
В тиши и в громе,
Бревенчат, тесен, невысок,
Стоит у лукоморья домик,
На нем вертится флюгерок.
И поздним часом,
ранним часом,
На лунный праздник
и на суд,
Сюда приходят папуасы,
Надежды не теряя, ждут.
Быть может, тихое жилище,
Как тот,
кого уже здесь нет,
Разгадку трудную отыщет
И мудрый даст в беде совет.
…Проходят годы,
А в домишке
Никто не тронул и гвоздя.
Навес построили над крышей, –
Хранят избушку от дождя.
И, сруб оглядывая серый.
Не знают в простоте своей.
Что этот тихий домик –
первый
Мемориальный
их музей.
ИКОНА
Предерзкий блеск в глазах Рублева,
Тверда рука, нацелен взгляд
Он снова пишет лик святого,
Но не на византийский лад.
Не постный и не бестелесный
Все четче проступает лик
Нет, это крепости железной,
Рязанской красоты мужик.
От святцев вовсе независим.
Глаза ребячьей синевы.
Не дровокол ли то Онисим,
Что все не шел из головы.
Был на правеже бит не раз он.
Теперь же, небывало тих.
Не патриархом –
богомазом
Причислен к лику он святых.
Народ во храме бьет поклоны,
Земли касаясь головой.
Пред ликом пресвятой иконы
Онисим крестится живой.
Выходит на крещенский холод.
Плечист и ладен, скор в ходьбе,
И невдомек-то дровоколу,
Что днесь молился он – себе.
НА БАЛУ
Текут из люстр потоки света,
Гремит невидимый оркестр.
На желтом зеркале паркета
Танцуют пары полонез.
Мелькают звезды, шпоры, канты.
Гнусавый вьется говорок.
Вот бант склонился к аксельбанту,
Трепещет сердца мотылек.
Неоценимой пробы перстни
На выгиб талии легли.
Всех ослепительней, прелестней
С гусаром в паре Натали.
Кружится в танце камарилья,
Самодовольна и слепа.
Из императорской фамильи
Особа
повторяет па,
Не отвечая на поклоны.
Превозмогая боль и стыд.
Усталый Пушкин у колонны
Почти как бронзовый стоит.
Стоит, себя от них отрезав,
С тем выражением лица.
С каким он целился в Дантеса,
Непримиримый до конца.
* * *
Да, бездарность любит быть крикливой
И рядиться в пестрые цвета.
Он был тих, поэт неторопливый,
Тих, как свет, и прост, как красота.
На рекламу времени не тратя.
Неустанно черпая слова.
Промывал их, как песок старатель
Промывает, золото ловя,
Вот – поэма.
Как не удивиться, –
Столько теплоты и силы в ней
Но краснел всегда он, как девица,
От скупых похвал своих друзей.
Нам вдыхать стихи его, как воздух.
Пахнущий весеннею травой.
Нам любить стихи его, как звезды
Над родною ширью полевой.
И потомкам скажет о Батые,
И о наших буднях фронтовых
Весь от сердца твоего, Россия,
Кедринский, простой и чистый, стих.
БАЛЛАДА О СЛАВЕ
С пивною кружкою в руке, –
Пусть пена оседает, –
В дешевом венском кабачке
Иосиф Гайдн мечтает
О славе…
Вспомнит ли она
О нем хоть напоследок?..
Протянет ли бокал вина.
Попотчует обедом?
С друзьями может он шутить,
Вовсю расправив плечи,
Но за мансарду уплатить
Ему давно уж нечем,
Вручит хозяин завтра счет,
И, музыкант безвестный.
Опять скитаться он уйдет
По деревням окрестным.
В каком дому найдет постель
И развернет тетради?..
Две скрипки и виолончель
Проснулись на эстраде.
Ансамбль убог, и на покой
Пора бы первой скрипке,
Но сразу гомон стих людской,
Затеплились улыбки,
И вот уж пьяницы не пьют,
И не жуют обжоры.
Гайдн слышит музыку свою,
Высокий взлет мажора.
И, грохнув кружкою о стол,
Кричит соседям в уши:
– Я этот перепев пустой
Не в силах больше слушать!
Перекосив усмешкой рот,
Откинув к спинке спину,
Гайдн свой второй квартет клянет,
Себя зовет кретином.
Но десять, двадцать кулаков
Ему грозят: “Негодник!”
Нет, Гайдн, тебе от тумаков
Не спрятаться сегодня.
Столяр и каменщик – народ,
С большим и добрым сердцем,
За Гайдна Гайдну задает,
Как говорится, перцу.
– Ты не уйдешь от нас, наглец!
– Пустите! Боже правый!
Да неужели, наконец,
Ко мне стучится слава?
ЖЕЛАНИЕ
Пуля почти на излете.
Вот вот упадет она,
Но крепко знают в пехоте,
Как сила ее страшна.
Пути ей осталось мало.
Но и в его конце
Она – пока не упала –
Может настигнуть цель.
И я б – на краю могилы.
Со смертью накоротке,
Такой вот желал бы силы
Последней своей строке.
МОРЕ
Вновь,
ударяя в бубны,
Его величают буйным,
Бешеным называют.
Гибельным нарекают.
Вяжут с бедой и горем,
И со свинцовой хмурью,
Это же – не о море,
Это же все – о буре!
Вечный бескрайний праздник.
Радостный, бирюзовый,
Жены клянут напрасно,
Переходя во вдовы.
Буря угрозой виснет.
Буря бедой грохочет.
Море смертей не хочет.
Море – отчизна жизни
Я не сижу за шторой,
Я побеждаю штормы
Я человек,
и вижу
Море я
не двуликим:
Ноги оно мне лижет.
Честно признав Великим.
ИСТОЧНИК
Казалось: силы на исходе.
Я на безмолвье обречен,
И завтра скажут:
“Он негоден,
Как видно, исписался он”.
Все это было ощутимо,
Как ощутима тошнота…
Шаги по коридору. Мимо?
Нет, постучали,
– Можно?
– Да.
Он снял потертую фуражку,
Пригладил чуб,
– Ты занят?
– Нет.
– А на узле многотиражку
Поможешь выпустить, поэт?
– Что ж, это можно.
…Шли недели.
Шли поезда в Мосву и в Крым.
И на промывке, и в котельной
Меня считали все своим.
И в шуме транспортного пара,
Вначале различим едва.
Возник вдруг замысел, как парус.
Явились точные слова.
И вновь в строю себя я числю,
И черный чай ночами пью.
Стыдясь своих недавних мыслей
Почти как трусости в бою.
Теперь пишу я днем и ночью,
Забыв о праве на привал,
Свирепо раздирая в клочья
То, что вчера не браковал.
И даль, прозрачная, сквозная,
Уже открыта мне опять,
А силы столько,
что не знаю
Порой,
куда ее девать!
* * *
Девушка с плечами, как у скрипки,
Книжку дочитала до конца.
Радужная бабочка улыбки
Трепетала о липиях лица.
Не скажу, что не было обидно
Видеть, как немыслимо стройна
С тем, кому во всем везет, как видно,
Уходила об руку она.
Все ж ему завидовать не стану
На исходе солнечного дня.
Лишь о том жалеть не перестану.
Что она читала не меня
* * *
Уйти совсем?
Растаять струйкой дыма
Над факелом погасшим навсегда?..
Бессмертье, – нам оно необходимо,
Как свет,
как смысл безмерного труда
Не жалкий рай Христа и Магомета.
Не славы нержавеющая сталь,
А небо в жарких доменных отсветах,
Пшеницей колосящаяся даль.
Пусть сердце станет и глаза остынут,
Восстав из непробудной темноты.
Руль корабля возьму рукою сына.
Рукою дочки подниму цветы.
ВОСХОЖДЕНИЕ
Мы знаем: были возле тронов
И стихотворцы.
Без печали
Из них иные и Нерона
Вслух полубогом величали.
За лавры, за вино в фиале,
За легкий выигрыш без боя,
А мы в пехоте воевали,
А мы себя не продавали.
Хлеб на груди отогревали,
И не желали мы покоя.
И если все ж, не зная меры,
Мы славословий не стыдились,
То – от души, от чистой веры.
Не от боязни впасть в немилость.
Мы на снегу, как дети, спали
В пути, и горестном и славном,
Но солью рай не посыпали
И не ошиблись в самом главном.
Не нам теперь
бочком и мимо
Идти, смирив тебя, тревога.
Поэт и честь неотделимы,
Как путник и его дорога.
НА ПЕРРОНЕ
Ты смотришь на синие рельсы.
Твой взгляд непреклонен и хмур.
Так значит – уже загорелся
Терпения бикфордов шнур?
Так значит – хоть поздно, но честно
Божка разглядев своего, –
Ты думаешь взрывом отъезда,
Контузив, отбросить его?
Я видел упрямую тушу,
Усмешки довольный оскал,
Я знаю, как он твою душу
Проигрывал и пропивал.
Контузии, видно, не будет
И навзничь не грохнется он
И все же –
да здравствуют люди.
Входящие в жесткий вагон!
Привет тепловозу,
который
Возьмет этот трудный подъем.
Пусть светит на всех светофорах
Зеленое платье твое!
И мальчик,
которого держишь
Ты за руку,
пусть до конца
Забудет, что был самодержец,
Не вспомнит, что был громовержец,
Носивший названье отца.
НЕДОСОЛ
Она живет скромней и тише
Былинки тихой полевой.
О ней никто стихов не пишет,
И не гремит в передовой
Не рекордсменка, не новатор, –
Окаменел, слежавшись быт.
Она на мужа виновато
И выжидающе глядит.
Супруг ко рту подносит ложку.
Глотает. Морщится слегка.
– Что? Пересолено немножко?
– Нет! Недосолено пока!
К супругу движется солонка
А он – хоть на носу очки –
Не замечает робкой, тонкой,
Усталой, преданной руки
Под фартук прячется рука
С отметинками горькой доли:
С порезом свежим на ладони.
С ожогом возле локотка
Он суп солит Обижен. Важен.
Она вздыхает. Легче ей:
И недосол, конечно, страшен,
Но пересол в сто раз страшней.
А за стеной – поля и звезды,
И можно бы бродить, любить,
Когда б она,
пока не поздно,
Смогла всерьез пересолить.
БАБУШКА
Случались такие вещи
В прежние времена:
Влюбился в тебя помещик,
И вот – ты его жена,
Воспитанницы институтов –
“Бонжур”, “парле ву франсе” –
Тебя они с той минуты
Возненавидели все.
Им предпочли – кого же?
(Надо быть дураком!)
Ту, что (избави боже!)
Бегала босиком.
Ту, что девчонкой с луга
Белых гусей гнала.
Ту, что была прислугой.
Веником пол мела.
“Жан потерял рассудок!
Он ослеплен, ей-ей!
Выжить ее отсюда
Надобно поскорей”.
Только не вышло дело
Доченька батрака,
Ты на бомонд глядела
Правильно: свысока.
От твоего презренья.
От твоего словца
Блекло их оперенье.
Сыпалась с них пыльца
Но из палат богатых.
От колоннад витых,
Снова под стреху хаты
Скоро вернулась ты,
Свеклу полола, пела.
Ставила борщ на стол,
Стены белила мелом.
Мазала глиной пол.
Месяц прошел,
и тут-то,
Вновь по твоей вине,
Воспитанницам институтов
Ахать пришлось вдвойне.
Тройка – иль это мало? –
Карих лихих коней
Пасмурным утром стала
Возле твоих дверей.
В хату прошел помещик.
Не замутив воды.
Вышло, что обесчещен
Он, а совсем не ты.
Высыпал жемчуг в блюдце
И положил браслет.
Долго просил вернуться.
Ты отвечала: “Нет”.
“Золота мне не нужно
Я – не твоя родня.
Ниточкою жемчужной
Не привязать меня”.
Тут не в размолвке дело:
Доченька мужика,
Знала ты, как он мелок,
Как его кровь жидка
Нитку себе другую
Выбрала ты тогда:
Швейную мастерскую,
Каторжный путь труда.
Шла ты дорогой бедствий,
Матери моей мать.
Где уж дворянской чести
Рядом с твоей блистать!
ВДОВЫ
Вдовы, вдовы, солдатские вдовы,
Только горя хлебнули вы вдоволь.
Не любви, не веселья, не ласки. –
Только горя без всякой подкраски.
Да работы – в ней все спасенье –
В дождь осенний и в день весенний.
Стало вышивкой дивной ручною
Одиночество ваше ночное.
Стало светлыми кружевами
Недосказанное словами.
Не допетое голосами,
Недоплаканное слезами.
Неизменные недотроги,
Как глаза ваши чистые строги.
Как желанья идут на убыль,
Как прямые стиснуты губы,
Но, бывает, глаза теплеют.
Губы выцветшие добреют.
То – конверта синяя птица
На гнездо ладони садится.
Солнцем каждая буква брызнет, –
Жди, загадывай и надейся!
Это шлют сыновья вам письма
Из отцовских полков гвардейских.
* * *
Уже красота твоя блекнет,
Морщинки пошли в перекрест,
И старости стынут волокна
В пылающей пряже волос.
Не те, что в девичестве, песни,
И в танце не тот поворот.
А дочка твоя все прелестней,
Стройнее и ярче растет,
В ней прелести завтра прибудет,
Такой, что восходит, слепя,
Ты ей не завидуй –
в ней люди
Без промаха видят
тебя.
ЕЛКА
Хотелось разве ей из леса
В тепло квартиры городской?
Но крепче дерева железо,
Упрямой взятое рукой.
Удары падали,
и скоро,
Отрубленную от земли.
Не увели ее из бора,
А унесли и увезли.
Всадили в крест,
прибили к месту
По вековому образцу.
Стоит она теперь невестой,
Что не добром пошла к венцу.
Но огляди ее с порога,
Вплотную к ней приблизься ты.
Она не выглядит убогой
И не теряет красоты.
Вот в комнату вбежали дети.
Она плечами повела
И протянула детям ветви,
И всю себя им отдала,
Пусть тормошат,
пусть наряжают –
Ей хорошо у них в плену.
Пусть как угодно нарушают
И разрушают тишину.
Пускай поют, смеются, кружат,
Пусть счастье к ней несут свое.
Нет, не она здесь для игрушек,
А все игрушки для нее.
Блестят меж зелени цветные
Сосульки, шишки и шары,
В них отражаются смешные.
Преображенные миры.
Сияет звездочка над шпилем,
Развесил иней кружева…
Позавчера ее срубили.
Но разве же она мертва?
Еще милей,
еще красивей.
Она живет среди живых,
Простая елочка России
В своих иголочках простых.
РАКИТКА
Наполнен бор горячим тихим гудом,
Сушь хрустких веток, хвои и коры,
И кажется непостижимым чудом.
Что он еще не вспыхнул от жары.
А близ опушки – тонкая ракитка.
Она меж сосен видится такой.
Как будто ее легкая накидка
Сейчас водой омыта дождевой.
Гляди, давайся диву, да и только!
Ракитка эта до того свежа,
И в ней, во всей, девченочьего столько,
Что никому улыбки не сдержать.
* * *
Если взгляд туманит пелена,
Если силы больше не осталось,
Ляг плашмя на землю,
и она
Выпьет до конца твою усталость.
Ты проснешься сильным.
Труден путь.
Но давно тобою сделан выбор.
Пусть молчит земля:
ты не забудь
Ей сказать,
как матери:
“Спасибо!”
* * *
Мне стихом бы стоградусным
Воспевать было б легче
Не печали, а радости,
Не прощанья, а встречи.
Чтобы смех колокольчиком
Разливался по выси.
Только это нисколечко
От меня не зависит,
Я живым, а не праотцам
Честно дал обещанье:
От печали не прятаться.
Не бежать от прощанья.
День глядит не по-летнему
На вокзальные стены,
И пожатье последнее
Разрывает сирена.
И непролитой Ладогой
Виснет туча над кручей,
Видно, радость, как радуга.
Не родится без тучи.
ЦВЕТ ВТОРОЙ
Что ж, в этом вовсе нет секрета,
Хоть горько замечать порой.
Как бьются в волосах два цвета
И побеждает цвет второй.
Приметный, чистый и упорный
Цвет госпитального бинта,
Цвет белизны высокогорной,
Цвет ждущего стихов листа.
Я знаю: он напоминанье
О череде ушедших лет.
Но в чувствах нет похолоданья.
Ни тени равнодушья нет.
Опять глядеть не наглядеться
На ту, которая мила.
Опять трава, как в раннем детстве.
Тепла, светла и весела.
* * *
Шей ветрила, подруга?
Я – двухмачтовый бриг.
Из веселого круга
Слышу слове “старик”.
В этом слове морозном –
Не в согласье со мной –
Прежний смысл переносный
Переходит в прямой,
В нем – на пенсию право
И на отдых в Крыму,
Уваженья приправа
Подается к нему,
Только что ж – уваженье
К трудам и годам.
Я его за движенье
Без остатка отдам.
Ни к чему теперь праздных
Препирательств туман.
Не под парусом разве
Шел старик Магеллан?
Мне сейчас по заслугам –
Только поиска хлеб.
Шей ветрила, подруга:
Голос ветра окреп!
* * *
Я, может, думаю о чуде,
Но жизнь такою стать должна,
Чтоб возвращалась юность к людям,
Как возвращается весна.
Чтоб не намек, не отраженье,
Не свет негреющий планет,
А полное преображенье –
Хотя бы раз в десяток лет.
Пусть говорят, что в эмпиреях
Витаю, гладя седину,
Но ведь Земля куда старее,
А что ни год, летит в весну.
* * *
Бедовый ветер гонит тучи.
Кнутом стреляя, как пастух.
Вот он на город нахлобучил
Полуопущенный треух.
И тут же сдернул, озоруя,
Плеснул вовсю голубизной,
Всем радость запросто даруя.
Переполняя всех весной.
Какой избыток в нем школярства,
Как он беспечен и широк!
Через моря и государства
Летит он, ветер-ветерок.
В полете днюя и ночуя,
Колышет он шелка знамен.
Признаться, иногда хочу я
Хотя б денек пожить, как он.
* * *
Что страшнее привычки,
Убивающей новь?
Ведь привычка
в кавычки
Может взять и любовь.
Не хочу
понемногу
Отступать от огня.
Лучше резкость ожога.
Чем остуды броня.
Лучше острые камни
Под ногою босой.
Не приму привыканья
С его спесью косой.
* * *
Скоро небо пригнется,
Скоро небо прогнется.
Осень вьет свои гнезда,
Желто-красные гнезда.
Непогод кулаками
Застучит она в окна.
Но летают покамест
Золотые волокна,
Купол синью наполнен.
И ветра присмирели.
Солнце ласково в полдень,
Как в исходе апреля.
Я теперь понимаю:
Разве осень – прощанье?
Я ее принимаю.
Как весны обещанье.
ПОРА ОСЕННИХ РАВНОДЕНСТВИЙ
Одни приказ у шторма:
“Действуй!”
И море в бешеных буграх.
Пришла осенних равноденствий
Неотвратимая пора.
Но почему ж все в эту пору,
А не в другую, каждый год,
Как будто бы по уговору
Штормами океан ревет?
Быть может, мыслью непокорной.
Ее разрядами в туман
Мы сами будим эти штормы
И будоражим океан?
Ведь человечья мысль не хочет,
Не может примириться с тем,
Что станет день короче ночи,
Что верх возьмет над светом темь.
Несправедливость эта с детства
Покоя людям не дает.
Пора осенних равноденствий.
Штормами океан ревет.
* * *
Пьем мы часто не молоко,
Мы заботливостью не блещем.
Нашим женщинам нелегко
И когда еще будет легче.
Но, вину простив и вино,
Ни одна себя не обманет.
Видно, им с естеством дано
Озареное пониманье.
Я кругом виноват, жена,
И раскаянье – поздновато.
У тебя ж лишь одна вина,
Что ни в чем ты не виновата.
Боль отточена в тишине,
И мучителен лист бумаги.
Пусть же будет еще трудней
Поиск мой – на краю отваги.
НАЧИСТОТУ
И все-таки я не согласен.
Хоть вижу себя без прикрас,
Что старость одна лишь в запасе
Теперь, одногодки, у нас.
Да, время приспело итожить.
Черту подводить за чертой.
Ну, что ж, ведь и прошлое тоже
Запас
и подчас –
золотой.
Пристроился недоросль к флейте,
Дудит – сам не знает о чем,
Я так не могу, хоть убейте,
Я так не хочу нипочем.
Кузнечики, бабочки, тучки –
Не главный мой песенный клад.
Мне есть что сказать,
потому что
Я муж, я отец, я солдат.
Работник.
Ну пусть не без лени,
И пусть не из лучших,
но все ж
Работник сердечным веленьем,
Друг плотников, недруг вельмож.
Я слышу, что старость – усталость,
Тогда до нее далеко.
Я слышу, что старость – отсталость,
Но разве я сдамся легко?
Я слышу, что старость – остылость,
Унылость, коленная дрожь.
А мне остывать и не спилось,
Унылость?
Скажите на милость! –
Я знаю не дрожь, а – не трожь.
Известны этапные даты,
Но нам, не считавшим преград,
Не в сорок стареть рановато,
А, может быть, и в шестьдесят.
РАННИМ УТРОМ
Лучи едва коснулись кровли,
Совсем покатые пока.
И каждый блик меняет облик
Большого мира и мирка.
Вдруг улыбнулся дом невзрачный
Как бы от имени жильцов.
Листвы открылася прозрачность
И золотистость проводов.
Лицо неброское девичье.
Под желтым венчиком волос,
Вмиг словно сбросило обычность
И обаяньем все зажглось.
Людей, домов, селений лица
Преобразил чистейший свет.
Здесь быль не стала небылицей,
А озарилась – в том секрет!
Кидает щедро блики солнце,
Не зная, может, им цены,
И все вдруг сразу узнается
С особой – лучшей – стороны.
Я преклоняюсь пред великим
Светилом – праотцом планет,
Но мне нужны такие ж блики, –
Без них в картине правды нет.
СОРОК ВЕКОВ
Сорок с лишним веков подряд
Пирамиды в песках стоят.
Вечность сделает новый шаг,
И они обратятся в прах.
И построено будет то,
Что не сорок веков, а сто
Простоит,
чтобы прахом стать.
Но строитель придет опять.
Нас историк не удивит
Долговечностью пирамид.
Мы, строители: захотим –
Пирамиды другим затмим.
Им не быть для моих друзей
Усыпальницами царей.
Эта каменная гряда,
Эти памятники труда
О бессмертье его твердят
Сорок с лишним веков подряд.
МАВЗОЛЕЙ
1
Огонь и черный пламень флага.
Глубинных мыслей тишина.
Прозрачный холод саркофага.
Лица сухая желтизна.
Людской поток, не иссякая,
Течет, а кажется – стоит.
Мать из далекого Китая,
Склонясь, глядит, глядит, глядит.
Под строгой сенью мавзолея,
Как будто в комнате простой,
Ильич сейчас ей все роднее
Лица привычной желтизной,
2
Выходим,
Догорает солнце.
Сынишка тихо говорит:
– Он спит сейчас.
И он проснется.
Я видел сам:
Он крепко спит.
Смывает синева сквозная
Заката алую кайму.
Сынишка верит
И не знает.
Как я завидую ему.
“РАЗЛИВ”
Разлив!
Рекой весенней бирюзовой,
Ночным дымком рыбачьего костра,
Подснежником, что вспыхнул лишь вчера,
И впредь всегда пусть пахнет это слово.
Но нам дороже запах в нем иной:
Металла орудийного “Авроры”,
Махорочки в дворцовых коридорах.
Шинелей, продырявленных войной,
Сапог, что прохудилися в походе.
Знамен, что пролетарии несли.
Разлив –
любви и гнева половодье,
Великой революции разлив!
Мы понимаем:
просто совпаденье.
Что это имя станции дано,
Но, может быть, поэтому оно
С особым произносится волненьем.
ПОЭМЫ
УРОКИ ПОЛИТГРАМОТЫ
1
Село на горке. Рядом – лес.
– В него и днем не заходи ты. –
Есть слово краткое “обрез”,
Есть слово жуткое “бандиты”.
Но я с мальчишками порой
Бываю все же на опушке.
Какие елки за рекой!
Сюда бы звезды и хлопушки!
Здесь все спокойно.
Но подчас
Вдруг загудит,
Вдруг грохнет что-то,
И страх метлою гонит нас
За речку,
В школьные ворота.
Проходит по двору отец,
Он в нашей школе главный самый,
– Ну нагулялся наконец? –
Щекочет щеки он усами.
Зима.
Мне только девять лет,
Учусь я только в третьем классе.
Есть слово светлое “комбед”,
Но смысл его не очень ясен.
Вот в класс заходят бедняки.
Две лампы светят ярко-ярко.
Клубятся синие дымки.
Шумит Андрей Кузьмич Поярков.
Он добрый:
Лично для меня,
Когда “чуть не сыграл я в ящик”,
Из чурки сделал он коня
С хвостом и гривой настоящей.
– Скачи вперед! Кричи “Ура!”
Топчи поганых белячишек! –
А я-то в ящик не играл
И об игре такой не слышал.
А конь хорош!
Отбросив книжки,
Скачу на войлочном седле
Один, – ведь засмеют мальчишки!
Сейчас Андрей Кузьмич сердит.
Не от обиды ль багровея,
О кулаках он говорит,
О деревенских богатеях.
Я знаю кой-кого из них.
Морщинистый, седобородый
Петр Колыванов ласков, тих.
Давал мне сотового меда.
Удодов Клим. Он ростом мал,
Но ходит с важною осанкой.
Меня на масляной катал
Он в легоньких ковровых санках.
* * *
Комбед…
Вот с трубкою сидит
Петр Саввич в вышитой сорочке.
Он – наш избач,
Он знаменит
И в самых дальних хуторочках,
Он был крестьянским ходоком.
Он на вагонных крышах ездил.
Был даже с Лениным знаком,
Встречался с ним в Москве на съезде.
Его люблю я больше всех.
Он нас, ребят, зовет друзьями.
Люблю я взгляд его и смех.
И эту складку меж бровями.
Он приохотил к книжкам нас.
Он знает сказки, и былины,
Удодова он Степку спас,
Когда малыш упал с плотины.
* * *
Проснулся. Ночь.
Отец и мать
Чуть слышно говорят:
– В Кульбите
Разграблен магазин.
– Опять!
– А в Сосняках убит учитель.
Мне страшно. В комнате темно.
– Все это дело рук Дудули.
– Он был, по слухам, у Махно.
– Когда же он дождется пули?,
Тревожно. Темнота и тишь.
Окно не скоро посереет
Спрошу-ка:
– Мама, ты не спишь?
– Спала. И ты усни, скорее.
Махно… Дудули… Снег… Ветряк…
Я падаю, теряю лыжу…
К рассвету засыпаю так,
Что гулких выстрелов не слышу.
* * *
Ни улице народ.
С утра
Гудят все избы, словно ульи.
У Колыванова Петра
Задержан атаман Дудуля
И два бандита.
В Желтый лог
Уйти б Дулуля мог.
Но в лозах
Его Поярков подстерег
И сшиб железною занозой.
А затемно сказали мне.
Один бандит
Из револьвера
На колывановском гумне
Поранил милиционера.
Петр Колыванов их клянет.
Кричит, что принял под угрозой.
Цветами липы пахнул мед,
А нынче пахнет день морозом.
* * *
И снова ночь. Но не темно:
Коптилочка мигает где-то.
Отец и мать глядят в окно,
Отец совсем уже одетый.
Уходит.
– Он сейчас придет.
Ты спи.
– Я спать не буду.
– Тише!
Нет, голос у нее не тот,
Каким баюкают детишек.
– Ты хочешь обмануть меня.
Прыжок, и вот – я с мамой рядом
Трясется красный сноп огня
Невдалеке – за школьным садом.
Деревья красные стоят.
И красные видны сугробы.
И кто то бьет уже в набат.
…На площади – три красных гроба.
Я, цепенея, подошел.
Да, мне все трое здесь знакомы.
Петр Саввич,
Митька – комсомол,
И Волгин – предволисполкома.
Их убивали топором,
А после поджигали хаты.
Я ждал:
Сейчас ударит гром,
И все узнают виноватых.
Полотнище из кумача.
Подрагивало еле-еле.
Усы Андрея Кузьмича
От изморози побелели.
Удодов Степка вдруг сказал,
Показывая на убитых:
– Гляди! У Саввича глаза
Прищурены, а не закрыты,
Он видит! –
Разве знал малец,
Как, расправляя плечи шире,
Удодов Клим, его отец
Бил Саввича пудовой гирей?
2
Шумели годы
Казалось детство былью дальней.
Я сам работал избачом
В другом селе, в другой читальне.
Вы знаете, как жил избач
Году, хотя б, в двадцать девятом?
Нет для читальни дров – не плачь,
Нет керосина – что ж, не плачь.
Зарплаты не дают – не плачь.
Так жил и я, друзья, когда-то.
В Заречном был я избачом
В уже не близкую ту пору.
Я много всяких книг
Стихов, поэм, романов – гору.
Прочитывал в газетах все:
Доклады и передовицы,
И сообщения из сел,
И новости из-за границы.
Мне нравилось, когда строка
За словом слово бьет по цели.
Но Ленина читать пока
Не начинал: был слишком зелен.
Дела валились на меня.
Я помню, как неукротимо
Крутил кино.
Распространял
Билеты в фонд Авиахима.
Как, не умея танцевать,
Организовывал я танцы.
Как мог три ночи я не спать
И всухомятку год питаться.
Ко всяким неудобствам глух,
На стол мигалку ставя справа,
Бородачам читал я вслух
“Железного потока” главы.
Я собирал металлолом,
Еще тряпье, золу и кости.
Размахивая кулаком,
Я кулаков громил со злостью.
* * *
Село.
Избенки и плетни.
Всегда кивающие клячи.
Идут, идут за днями дни
С трудами, радостями, плачем.
Детишки, здешние пока.
Играя в бабки возле тракта,
Не видели грузовика.
Не знают, как рокочет трактор,
Как электричество горит,
Как самолет блестит в зените,
Как без запинки говорит
По-русски громкоговоритель.
* * *
В избу-читальню он входил
Легко, не скрипнув половицей.
Когда я там бывал один,
Он не спешил со мной проститься.
Газетой новой шелестя,
Очки платочком протирая.
Речь заводил о новостях.
Об Англии и о Китае.
Он возражать пытался мне
Вначале,
Но не тут-то было:
Я припирал его к стене
Своим непримиримым пылом.
Сидел он будто на гвоздях,
А я все множил обвиненья.
Но, из читальни уходя,
Он говорил:
“Мое почтенье.
Благодарю от всей души.
Весьма приятная беседа”.
И я почти уже решил,
Что он, Фомин, моя победа.
Он соглашался нелегко.
Но до уборки урожая
Он рассчитал вдруг батраков,
И рассчитал, не обижая.
И, помня проповедь мою.
Сказал:
“Что ж, счастье не в богатстве.
Я крупорушку отдаю.
Родной советской нашей власти”.
* * *
По вечерам и по ночам
Слезой посолены и бранью.
Уже кипели, клокоча.
Повсюду сельские собранья.
Трещал рубах посконный холст
Кто горлом взять хотел, кто силой.
И слово новое “колхоза”
Слова привычные теснило.
Раскатом молодой грозы –
Не песнею сверчка за печкой –
Оно вошло в родной язык
В ту пору
Сразу и навечно.
* * *
Мы шли с собрания домой.
Кой-где еще светились окна.
Предсельсовета – спутник мой –
За грудь схватился,
Тихо охнул
И повалился.
Я один
Не смог поднять.
Людей звать надо.
И первым подбежал Фомин:
– Скорей! Моя хатенка рядом…
Плохой удел судьбой нам дан…
Наверно, кровь свернулась в жиле…
На желтый бархатный диван
Ефанова мы положили.
К врачу!
Но где же взять коня?
Фомин все понял с полуслова:
– Закован Козырь у меня.
Верхом? Так можно взять гнедого. –
Он на коня помог мне сесть
И настежь распахнул ворота
Пошел! Трех верст не будет здесь! –
…А в поле, возле поворота,
Конь встал нежданно на дыбы
И завертелся у откоса.
Я цепок был, без похвальбы.
Но скоро в снег уткнулся носом.
Привстав, я огляделся. Ждет.
Мне б только перекинуть ногу.
Опять двойной удар в живот,
Опять валюсь я на дорогу.
До помраченья обозлен,
Я думать перестал о боли
Я захромал к коню.
Но он
Мелькнул и скрылся в снежном поле.
Вот тут-то и вернулась боль.
И гнев. И стыд.
Куда мне деться?
Но заслонило все собой
Лицо
Оно знакомо с детства.
Лицо того, кто ходоком
Крестьянским
Был в Москве с котомкой.
Того, кто с Лениным знаком.
Того, кто верил нам,
Потомкам.
Шатаясь, ногу волоча.
Я шел.
Гудели глухо дали
Я дотащился до врача.
Но что сказать?
Мы опоздали.
* * *
Сидел один я у стола,
Распухшее колено трогал.
Несмело девушка вошла,
Остановилась у порога.
К лицу ль угрюмость избачу?
Я улыбнулся через силу.
– Вам книгу?
– Нет… Сказать хочу…
Конец платка жгутом скрутила
И быстро подошла к столу
Сгустилась тишина в читальне
Стучали ходики в углу,
Как молоты по наковальне.
Я видел боль в глаза больших,
Слеза катилась по веснушкам.
– Фомин… мой отчим придушил
Тогда Ефанова… подушкой.
* * *
Я после много дней болел.
Но не провел и дня в постели.
Хоть это было тяжелей
Всего, чем в детстве мы болели.
Меня послали в институт,
Как посылают в наступленье.
Приехал в город я.
И тут
Заговорил со мною
Ленин.
Первоисточников черед
Пришел.
Но, ни в какие сроки,
Уже ничто не зачеркнет –
За боем бой
за годом год –
Вас,
Политграмоты уроки.
ОДИННАДЦАТЬ
Поэма
1
Экскаватор запросто,
как воду,
Черпал землю кованым ковшом,
Самосвалы наддавали ходу.
Парни усмехались: поднажмем!
Шел октябрь,
но в нем светилось лето.
До чего ж погода хороша!
А в исходе дня случилось это…
Экскаватор
не набрал ковша…
До чего дотронулся,
что встретил,
Почему мгновенно замер он?
Далеко от стройки
в кабинете
Зазвенел негромко телефон.
Трубку к уху приложил полковник:
– У завода? В нескольких шагах?..
Выезжаем. –
И, о чем-то вспомнив,
Снова поднял трубку с рычага.
2
Рукой проведя по плану,
Круто взмахнув бровями,
Полковник сказал капитану:
– Слово за вами.
Взвода, пожалуй, хватит? –
Глаза нацелены строго.
Слишком вопрос понятен.
– Взвод – это много.
– Много? –
На сердце словно
Ослабевают клещи.
После ответа такого
Полковнику дышится легче.
– Сколько ж? В такой работе
Все надо точно взвесить.
– Я рассчитал. Пошлете,
Кроме меня, десять.
3
Стоит капитан
Перед строем саперов.
Приказ ему дан,
Ни к чему разговоры.
Он десять фамилий
Назвать бы мог сразу,
Но люди любили
Его без приказа.
Поэтому хлопцам
Сказал, как хотел он:
– Нужны добровольцы
На трудное дело. –
Вопрос ясен,
Время не ждет.
– Кто согласен,
Шаг вперед! –
Тут суть не в уставе.
Иной тут порядок.
Тебя не заставят.
Не хочешь – не надо.
Нет речи о бое.
Ни слова о славе,
И каждый собою
Командовать вправе.
Но, будто был отдан
Приказ долгожданный,
Шагнула вся рота
Вперед –
к капитану.
4
Венчик восхода узок.
Листья желтея, стынут.
Десять садятся в кузов.
А капитан – в кабину.
Все голубей, светлее
Неба простая вечность
Кто-то парней жалеет,
Только не вслух, конечно.
А кое-кто доволен
Тем, что не потревожен.
Но и ему до боли
Горько сегодня все же.
Он еще повзрослеет,
Честно таская скатку.
Он еще пожалеет,
Что не вошел в десятку.
Разве же он не видит –
Это ведь без обмана, –
Сколько людей в обиде
Нынче на капитана.
5
В это утро,
часам вопреки,
Подчиняясь иному порядку.
Не позвали рабочих гудки
Ни на гипсовый,
ни на шпагатку
И мальчишеских игр кутерьма
Во дворах и садах не кипела
Опустели заводы, дома, –
Вся окраина враз опустела
В оцеплении строгом она.
Стерегут все подходы солдаты
Не приснилось ли нам,
что война
Отгремела еще в сорок пятом?
6
Взрослые и дети, –
все ушли,
Фабрики замолкли и заводы,
Чтоб они –
одиннадцать –
могли
За свою работу взяться с ходу.
Если б ее можно облегчить!
Дали б им любые аппараты,
Сквозь металл летящие лучи
И силищу, что припрятал атом.
Только не поможет и она.
Не помочь ни током, ни лучами.
Здесь лопата даже не нужна, –
Режут грунт саперными ножами.
Как последний,
как бесценный хлеб
Резали бы те, кто голодает.
Осторожней, –
случай-то ведь слеп!
Осторожней, –
жизнь-то молодая!
Слышится дыханье в тишине.
Веет снизу земляной прохладой.
И на трехметровой глубине –
Первый штабель дьявольского клада.
Ржавчина изъела корпуса.
Вот – взрыватель.
Тут не жди удачи
Будничны саперов голоса:
– Проводок…
– Минировано, значит…
7
Обнажен взрыватель,
потому
Ошибись –
и все
огнем и дымом.
Он неприкасаем,
но к нему
Прикоснуться все ж необходимо
Кто же первый?
Имени его
Здесь назвать я не имею нрава.
Отделить от всех
хоть одного
Не могли,
не смели честь и слава.
Не сбиваясь в шаге,
как один,
Все идут с одною думой чистой:
Русский, украинец и грузин.
Беспартийные и коммунисты.
Но того,
кто захотел пойти,
И назвать-то беспартийным трудно.
Ни один не отстает в пути,
Ни один не ждет наград нагрудных.
Рядом все одиннадцать идут
Тем путем,
какого нет короче.
Разве важен первый,
если тут
Умереть нельзя поодиночке?
В этот день,
под солнцем октября
Пышущий червонной позолотой,
Думали они о матерях?
Думали, понятно.
До работы.
Поясные трогая ремни,
С виду и довольны, и беспечны,
О подругах думали они?
Как не думать!
Думали, конечно.
Думал даже тот
наверняка.
Кто и не вздыхал еще, тоскуя.
И о смерти думали,
пока
К смерти не приблизились вплотную
Думали, гадали…
А сейчас –
Ни о матери, ни о подруге.
Только бы не промахнулся глаз,
Только б, только б не ошиблись руки.
Никогда еще не отдавал
Капитан так мало приказаний,
Будто не нужны уже слова.
Будто хватит и одних желаний.
Видно, нету непосильных дел,
Видно, вовсе нету их на свете.
Кто-то вновь ловушку углядел.
Тайную механику приметил.
Вот они – саперные ножи.
Только что тут сделаешь ножами?
Нож теперь в сторонку отложи.
Пальцами работай,
рой ногтями.
Схватывай приметы на лету.
Ни рывка – отвинчивай неспешно.
К каждому
проклятому
винту
Прикасайся ласково
и нежно.
Проклянешь их после…
Тяжек зной.
Медленна работа круговая.
Не седьмой,
а семьдесят седьмой
Пот глаза ребятам заливает.
Нет, машины не помогут тут.
Чтобы это дело было верным.
Каменного века нужен труд.
Медленный,
ручной,
неимоверный…
Тихая вечерняя заря
Не спеша стекает с крыш покатых.
Все.
Последний подан вверх снаряд,
А по счету он –
двести тридцатый.
* * *
Вот они –
одиннадцать парней
В ясной красоте своей и силе.
Все сто тысяч курских
матерей
Каждого из них
усыновили.