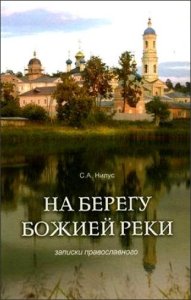
Книга С.А.Нилуса (1862 -1929) “На берегу Божией реки” включает в себя дневник, который автор вел в 1909 году, живя при Оптиной пустыни. Книга передает живую атмосферу тогдашней монастырской жизни – беседы с великими старцами и интересными людьми из братии, паломниками, а также содержит ряд других материалов, собранных и обработанных автором: они рассказывают о Саровском и Дивеевском монастырях. Как и все книги Нилуса, его дневник полон предчувствий катастрофы, надвигающейся на Россию.
Назначение и цель христианского писателя – быть служителем Слова, способствовать раскрытию в Нем заключенной единой истины в ее бесконечно-разнообразных проявлениях в земной жизни христианина и тем вести христианскую душу по пути Православия от жизни временной в жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашем.
С Покрова 1907 года (С Покрова 1917 года началось наше житие в Линовице под покровом храма в честь Покрова Пресвятый Богородицы. Храм, правда, освящен был не на Покров, а ранее десятого августа, седьмого – двадцать седьмого июля, но посвящение его именно этому празднику Богоматери. Он сооружен был Покровской игумениею Софиею) по день Святого Духа 1912 года Богу угодно было поселить меня со всей моей семьей на благословенной земле святой Оптиной пустыни. Отвели мне старцы усадьбу около монастырской ограды, с домом, со всеми угодьями, и сказали:
– Живи с Богом, до времени. Если соберемся издавать оптинские листки и книжки, ты нам в этом поможешь; а пока живи себе с Богом около нас: у нас хорошо, тихо!..
И зажили мы, с благословения старцев, тихою, пустынною жизнью, надеясь и кости свои сложить около угодников оптинских.
Господь судил иначе. Слава Богу за все!..
Велика и несравненно-прекрасна река Божья – святая Оптина! Течет река эта из источников жизни временной в море вечно-радостного бесконечного жития в царстве незаходимого Света и несет на себе она ладии и своих пустынножителей, и многих других многоскорбных, измученных, страдальческих душ, обретших правду жизни у ног великих оптинских старцев. Каких чудес, каких знамений милости Божией, а также и праведного Его гнева, не таят в себе прозрачно-глубокие, живительные воды этой величаво-прекрасной, таинственно-чудной реки! Сколько раз с живописного берега ее, покрытого шатром пышно-зеленых сосен и елей, обвеянного прохладой кудрявых дубов, кружевом берез, осин и кленов заповедного монастырского леса, спускался мой невод в чистые, как горный хрусталь, бездонные ее глубины, и – не тщетно…
О, благословенная Оптина!..
До новолетия 1909 года я был занят разбором старых скитских рукописей, ознакомлением с духом и строем жизни моих богоданных соседей, насельников святой обители. Плодом этого времени была книга моя “Святыня под спудом” и несколько меньших по объему очерков, нашедших себе приют в изданиях Троице-Сергиевой Лавры. С первого января 1909 года я положил себе за правило вести ежедневные, по возможности, записки своего пребывания в Оптиной, занося в них все, что в моей совместной с нею жизни представлялось мне выдающимся и достойным внимания.
Чего только не повидал я, чего не передумал, не переслушал я за все те незабвенные для меня годы, чего не перечувствовал! Всего не перескажешь, да многого и нельзя рассказать, до времени, по разным причинам слишком интимного свойства. Но многое само просится под перо, чтобы быть поведанным во славу Божию и на пользу душе христианской, братской мне по крови и по вере православной.
Откроем же, читатель дорогой, тетради дневников моих и проследим с тобою вместе, что занесло на их страницы благоговейно-внимательное мое воспоминание.
1 января
Встреча нового года. – Бабаевский блаженный, Василий Александрович. – Преподобный Елеазар Анзерский
Вот уже и год прошел, да еще с прибавком в три месяца, как мы живем под покровом Царицы Небесной в Ее обители Оптинской. Не видали, как пролетело это время.
Новорожденного младенца семьи вечности, – 1909 год, – встретили всенощным бдением в Казанской церкви благословенной Оптиной. Ходили всей семейкой, разросшейся, благодарение Богу, до одиннадцати душ. Отстояли всенощную до величания великого Святителя, Василия, приложились после Евангелия к его образу и после четвертой песни канона, около десяти часов вечера, пошли домой. Служба началась в половине седьмого, а конца первого часа и отпуста ранее половины одиннадцатого не дождаться: не всем моим под силу выстаивать до конца такие бдения, да и самому мне грех похвалиться выносливостью к монастырским стояниям, кроме тех, увы, редких случаев, когда, нежданная, негаданная, посетит нечувственное окаменелое сердце небесная гостья – молитвенная благодать Духа Святого, “немощная врачующая, оскудевающая восполняющая”. Ну, тогда стой хоть веки!..
К одиннадцати часам вечера пришел к нам иеромонах, отец Самуил с двумя клиросными, перекусили кое-чего с нами, выпили чайку и начали в моленной новогодний молебен. Была полночь, а в моленной мы и певчие пели “Бог Господь и явися нам”…
Идеальная встреча нового года! Как благодарить за нее Господа.
– Крестообразно! – сказал мне как-то, года три назад, в Hиколо-Бабаевском монастыре на подобный же вопрос один полублаженный, а может быть, и блаженный, некто Василий Александрович, проживавший в холодной трепаной одежонке и лето и зиму, в омете соломы около монастырского молотильного сарая.
– Как? – переспросил я.
– Да, так, очень просто, – ответил Василий Александрович и осенил себя крестным знамением.
– Так и благодарите! – добавил он с милой, детски-наивной улыбочкой.
Верстах в пяти от монастыря у Василия Александровича было что-то вроде поместья, – дом, надельная и наследственная, родителями благоприобретенная, земля, – но он, как говорили мне, до этого не касался, предоставив все во владение семейному своему брату; сам же он был бобыль и довольствовался, как жилищем, монастырским ометом. В омет этот он уединялся, там и ночевывал, не обращая внимания ни на какую погоду. Изредка, когда костромские морозы переваливали за тридцать градусов, Василий Александрович забегал в монастырскую гостиницу погреться у гостинника и попить у него чайку… Когда-то он был послушником в Николо-Бабаевском монастыре, а затем, кажется, вторым регентом в Троиие-Сергиевой Лавре. Лет двадцать назад, – сказывали мне, – у него был чудный голос – тенор, которым, бывало, заслушивались любители пения. Во времена моего с ним знакомства у него уже почти не оставалось голоса, но слух был на редкость верный, и мы с женой певали иногда с ним священные песнопения, поздним вечером, на крылечке монастырской гостиницы. Странный он был человек! Придет он, бывало, ко бдению в величественный Бабаевский собор, станет где попало и как попало, иногда даже полуоборотом к алтарю, поднимет голову кверху, воззрится в соборной расписной купол, да так и простоит, как изумленный, все бдение, не сходя с места и не пошевельнув ни одним мускулом. Внешней молитвенной настроенности в нем заметно не было. Была ли внутренняя? – Бог весть; но по жизни своей смиренной и скромной, исполненной всякой скудости и полнейшего нестяжания, он, все-таки, был человек не из здешних.
На том, видно, свете только и узнаем, кем был в Очах Божиих бабаевский Василий Александрович.
Приходил поздравить нас с новым годом наш духовный друг, отец Нектарин, и сообщил из жития Анзерского отшельника, преподобного Елеазара, драгоценное сказание о том, как надо благодарить Господа.
– Преподобный-то был родом из наших краев, – поведал нам отец Нектарий, – из мешан он происходил козельских (Уездный город Калужской губернии. Козельск от Оптиной отстоит всего в трех верстах). Богоугодными подвигами своими он достиг непрестанною благодатного умиления и дара слез. Вот, и вышел он как-то раз, – не то летнею, не то зимнею ночью, – на крыльцо своей кельи, глянул на краиму и безмолвие окружающей Анзерский скит природы, умилился до слез, и вырвался у него из раиворенного божественною любовью сердца молитвенный вздох:
– О, Господи, что за красота создания Твоего! И чем мне, и как, червю презренному, благодарить Тебя за все Твои великие и богатые ко мне милости?
И от силы молитвенного вздоха преподобного разверзлись небеса, и духовному его взору явились сонмы светоносных Ангелов, и пели они дивное славословие ангельское:
– Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!…
И голос незримый поведал преподобному:
– Этими словами и ты, Елеазар, благодари твоего Творца и Искупителя!
Осеним же и мы себя крестным знамением и возблагодарим Бога славословием ангельским:
“Слава в вышних Богу!”
Но не остается, по-видимому, на земле мира; по всему видно, что и благоволение отнимается от забывших Бога человеков.
Что-то будет, что-то будет? Хорошо в Оптиной, тихо!.. Надолго ли?
2 января
Друг из Елабуги. – Дар “на память” из рук почившего отца Иоанна Кронштадтского. – “Память” от праведного Иоанна Многострадального. Значение отца Иоанна. Мессина и С. Пьер. – Пророчества исполняются. – Угрозы будущего
Есть у нас в Елабуге сердечный друг, близкий нам по духу и вере человек, скромная учительница церковно-приходского училища Глафира Николаевна Любовикова. Близка она была любовию своею и верою к великому молитвеннику земли русской, отцу Иоанну Кронштадтскому. Не потому близка она была ему, что жила под одною с ним кровлею – она и виделась-то с батюшкой на всем своем веку раза два-три, не более – а по вере своей, по которой она имела от него, наверно, больше многих из тех, кто неотступно следовал за батюшкой в его всероссийских странствованиях. С этой рабой Божией наше знакомство долгое время было заочным, по переписке, вызванной интересом ее к моим книгам. Минувшим летом она из далекой своей Елабуги приехала на богомолье в Оптину, и здесь мы с нею и познакомились. Последним ее этапом перед Оптиной был Вауловский скит, недалеко от Ярославля, где в то лето начинала уже угасать святая жизнь великого Кронштадтского молитвенника. Из Оптиной, по пути в Елабугу, она хотела опять заехать в Баулов к батюшке.
– Будете у батюшки, – сказал я ей, – кланяйтесь ему от всех нас в ножки и попросите у него мне чего-нибудь из его вещей, или из старой его одежды, на память и благословение.
Какое имел для души моей значение Кронштадтский пастырь, видно из книги моей “Великое в малом”. Елабужскому другу просьба моя была понятна.
Десятого июня прошлого лета я получил от нее письмо, в котором она, между прочим, пишет так:
“Здравствуйте, мои дорогие! Спешу поделиться своею радостью и вкупе вашею. Первого июня, в восемь часов утра, пароход, на котором я уехала домой, не заставши батюшки в Ваулове, подошел к конторке. Я выхожу и узнаю, что отец Иоанн на Святом Ключе, в имении Стахеевых, в семнадцати верстах от Елабуги. Я сейчас же сдала багаж конторщику, а сама побежала на другую конторку, где стахеевский пароход ожидал гостей, которые были приглашены… Там все были рады, что я подоспела и еще увижу батюшку. К обедне мы уже не успели – батюшка уже отслужил. Когда меня батюшка благословил, то я ему говорю, что С.А. Нилус вам шлет земной поклон и просит вашего благословения. Батюшка говорит:
– Передай ему, что я глубоко-глубоко уважаю его, люблю его любовью брата о Христе.
Я говорю ему:
– Батюшка! ему что-нибудь хочется получить от вас на память.
Он ответил:
– К сожалению, ничего у меня нет здесь…
“Так и не пришлось мне, – пишет наш друг, – исполнить желание ваше, несмотря на видимое к вам расположение батюшки”.
Сегодня – день памяти преподобного Серафима Саровского. Мы с женой вдвоем ходили и к утрени, и к обедни. В этот знаменательный и любимый наш день мы получили из Петербурга от одного близкого родственника жены письмо и в нем небольшую веточку “буксуса” с несколькими листочками: во время заупокойного бдения, накануне погребения отца Иоанна, веточка эта была вложена в руку покойного и в ней лежала все время, пока шло бдение.
При жизни своей у батюшки не нашлось под руками что прислать мне на память, а по смерти эту “память” он прислал мне из собственных своих ручек, да еще через такое лицо, которое и знать-то ничего не могло о моем желании.
Еще замечательное совпадение: книга моя “Великое в малом”, посвященная отцу Иоанну Кронштадтскому, так много говорит о преподобном Серафиме Саровском, что повествованием о нем, можно сказать, наполнена едва ли не четвертая часть ее первого тома. И вот, в день преподобного шлется мне зеленая ветвь на память оттого, кому с такою любовию и верою был посвящен мой первый опыт посильного делания на пожелтевшей уже и близкой к жатве ниве Христовой. Я не признавал никогда и не признаю случайного во внешнем, видимом мире, тем менее – в мире духовном, где для внимательного и верующего все так целесообразно и стройно. Не отнесу и этого важного для меня события к нелепой и несуществующей области случайного.
Да не будет!
И, на подкрепу моей вере, из уходящего в вечность моего прошлого приходит мне на память случай, подобный этому, но, пожалуй, еще более поразительный.
Года за два или за три до прекращения моей деятельности в качестве помещика Орловской губернии, я, в летнюю пору, по окончании покоса, до начала жатвы, отправился на своих лошадях к отцу Егору Чекряковскому (О нем смотрите “Великое в малом”, ч. I). На душе накипело, сердце черстветь стало: надо было дать душе встряхнуться.
Приехал я к батюшке, вижу: его “правая рука” по детскому приюту, княжна Ольга Евгениевна Оболенская, собирается в путь.
– Куда это вы? – спрашиваю.
– Батюшка благословил отдохнуть, съездить к угодникам кмево-печерским. Завтра еду. Не будет ли от вас какого поручения к святыням киевским?
Вынул я из кармана кошелек, достал двугривенный и говорю:
– Когда будете в пещерах, помяните мое имя у преподобного Иоанна Многострадального и на его святые мощи положите, как дар моего к нему усердия, этот двугривенный.
Почему тогда у меня явилось усердие именно к этому Божиему угоднику из всего сонма остальных преподобных отцов киево-печерских, я до сих пор не знаю… Должно быть, так нужно было.
Княжна уехала; вернулся и я к рабочей поре в свое имение.
Прошло лето, настала осень; покончили с озимым посевом; управились с молотьбой… Пришла к нам на зимовку странница Матренушка, – она года два зимовать к нам приходила. Нанесла она мне в дар всякой святыни из разных святых мест, а из Киева – иконочку преподобного Иоанна Многострадального и шапочку с его святых мощей.
Очень мне это было трогательно, но особого внимания на этот дар между другими, ему равноценными, я не обратил.
В конце октября или начале ноября того же года приехал ко мне на денек со своей матушкой отец Егор Чекряковский. За беседой я, между прочим, спросил хорошо ли съездила в Киев княжна.
– Хорошо-то, хорошо, – ответил мне батюшка, – только не без горя: у нее в пещерах на первый же день вытащили из кармана кошелек, а в кошельке был золотой да ваш двугривенный. О золотом-то и о кошельке она и не скорбела, а вот что двугривенного вашего не донесла до мощей преподобного, то ей в скорбь было великую; хотя она и заменила его своим, да это по ней все не то – вышло, будто, она ваше поручение не верно исполнила.
Меня точно молнией озарило.
– Нет, не так думает, – с живостью возразил я, – донесен мой двугривенный до преподобного…
И я показал, что получил из Киева от странницы Матрены. Призвал ее при батюшке и спрашиваю:
– Почему ты мне из Киева принесла святыню от Иоанна Многострадального? Почему ты его выбрала?
– Да я, – отвечает, – и не выбирала. У нас, у странников, в обычае, как придет время уходить из Киева, мы и собираем в складчину заказать обедню о здравии и за упокой своих благодетелей в пещерской церкви. Так и этот раз было. После обедни, служивший иеромонах стал нас оделять разной святыней: мне досталась иконочка и шапочка с преподобного, а я их вам и отдала за хлеб да за соль ваши. А другого чего у меня и в уме не было.
До сих пор бережется у меня эта святыня. .Не то же ли произошло и с веточкой отца Иоанна Кронштадтского? По моей вере – то же.
Смерть отца Иоанна Кронштадтского, на убогий мой разум, представляется мне тоже знамением сокровенного и грозного значения: от земли живых отъят всероссийский молитвенник и утешитель, мало того, – чудотворец, да еще в такое время, когда на горизонте русской жизни все темнее и гуше собираются тучи… и одной ли только русской жизни? не мировой ли? Правда, “несть человек, иже поживет и не узрит смерти”; отец Иоанн болел долго, хотя почти до самой кончины своей был на ногах и служил Божественную Литургию, дней за двенадцать до перехода в вечность. Смерть его не была неожиданностью – к ней готовились верующие. Но за кого теперь миловать грешную землю? Кому за нее с такою силой и властью умолять Судию Праведного? “Седмь тысяш, не подклонивших выи Ваалу”, быть может, и соблюдает Себе Господь, но не для того ли, чтобы сказать этой последней Своей на земле Церкви, этому малому Своему стаду:
– Изыди отселе, народ Мой!
Наше время и плоды его похожи на то, что совершилось в Иерусалиме перед осадой его и разрушением. На Рождестве не погибла ли так же ужасно цветущая Мессина, во мгновение ока похоронив под своими развалинами более двухсот тысяч человек? Даже кладбище Мессины, устоящее при первом землетрясении, спустя несколько дней после катастрофы, новым подземным толчком было сметено с лица земли, так что и камня на камне не осталось от его пышных намогильных памятников.
Не башня ли это Силоамская? Не грозит ли и нам Бог гибелью, если не покаемся? А покаяния не только не видно, но люди, несмотря на тяжкие язвы, на них налагаемые, только еще более хулят Имя Божие. Максим Горький, например, выходец из недр русского народа, когда-то бывшего богоносцем, что пишет он, несчастный безумец, по поводу Мессинской катастрофы: “Такие страшные события, – вешает этот божок российской анархии, – могут еще иметь место, но только, пока силы человечества растрачиваются на борьбу человека с человеком. Наступает время окончания этой борьбы, и тогда-то мы одолеем и самые стихии и принудим их подчиниться человеку”…
Что это как не восстание на Бога падшего Денницы? Разве богохульными устами этого жалкого пошляка и кощунника не говорит апокалиптический зверь, которого еще нет, но чью близость уже предчувствует объятое трепетною жутью сердце человеческое: одних, и притом немногих, – как антихриста, близ грядущего в мир, других же, – и их большинство, – как “сверхчеловека”, мирового гения, который должен придти и устроить все, “перековав мечи на орала и копия на серпы? “…
На все мировые, современные нашему веку, события мой ум и сердце отказываются смотреть иначе, как с точки зрения совершенного исполнения пророчеств Св. Писания и, в частности, апокалипсических. Пятнадцать месяцев, проведенных мною в непрестанном общении с оптинскими преданиями как письменными, так и устными, совершенно убедили меня, что я не ошибаюсь в своей уверенности: только с этой точки зрения все бестолковое, безумное, взимающееся на Бога, что творится во всем мире и что заразило уже Россию, может найти себе объяснение и не довести веруюшего сердца до пределов крайнего отчаяния, за которыми – смерть души вечная. И до чего люди, отвергшиеся духа Писания, слепы! – и оком видят, и ухом слышат, и – не разумеют. Возьму на выдержку из газетных сообщений факты из того же Мессинского события. Сообщается, например, что в числе открытых нашими моряками жертв землетрясения была одна женщина, найденная под развалинами совершенно здоровой, только истощенной от голодовки и пережитого ужаса. В момент землетрясения она с мужем своим спала на одной кровати. Когда провалилась их спальня, и их засыпало обломками, то мужа ее около нее не оказалось. Она еще некоторое время слышала его голос из-за разделившей их груды мусора; стоило, казалось, протянуть ей руку и коснуться мужа, но это было невозможно. И вот, мужнин голос, вначале громкий, стал затихать и, наконец, совсем замер.
Умер муж, а жена осталась.
Разве это не точное исполнение слов Спасителя? – “Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмется, а другой оставится” (Лк. 17.34).
В той же Мессине, по словам тех же газет, от всеобщего разрушения сохранены были только два здания, и были эти здания: тюрьма и дом сумасшедших. Уцелели, стало быть, только осужденные и отверженные миром, а осудивший отвергнувший их мир погиб.
Это ли не знамение Промысла Божия?! Имеющий уши слышати да слышит!..
Всего знаменательнее, что такие подробности катастрофы, явно свидетельствующие истину и непререкаемость Божьего слова, исходят со столбцов таких органов печати и от таких людей, которых в клерикализме заподозрить отнюдь никто не может.
Когда на острове Мартинике разразилась над городом С.-Пьером подобная же, если не еще более ужасная, катастрофа, то там изо всего города в живых остался только один негр, заключенный в подземную темницу. На утро следующего дня его должны были казнить, а казнь свершилась над осудившими его.
Все это – знамения! Но кто им внимает?
3 января
Два знаменательных события в Оптикой пустыни. – Их значение, как знамения для православного мира. – Голый человек на престоле Введенского храма. – Что это знаменовало?
Немало знамений является и в нашей, пока еще богоспасаемой, пустыни!
В самый день Рождества Христова в ней совершилось два крупных по своему внутреннему значению события: во время торжественной литургии, совершаемой соборне самим отцом архимандритом, в самый момент великого входа, загорелся и сгорел до основания монастырский черепичный завод.
Это – событие первое.
В пятом часу того же дня, когда в храме началось чтением девятого часа повечерие, в келье своей, от разрыва сердца внезапно скончался монастырский благочинный, отец Илиодор, человек нестарый и, на вид, еще совсем бодрый.
Это – событие второе.
Таким образом, начало нового христианского года, который логично должен начинаться со дня Рождества Христова, ознаменовалось пожаром и смертью. Сгорел кровельный завод; умер благочинный. Не прообраз ли это от частного к общему того, что и в миру, по имени христианском, новый год откроется также пожаром (духовным – мы должны рассуждать обо всем духовно), который коснется чего-то покровного (не веры ли, подобной дереву, выросшему из горчичного семени?), и что в наступающем году наступит внезапный конец благочинию (церковному)? Касаясь самой Оптиной пустыни, где явлены были эти знамения, они не могут не отразиться и на всем православном мире. Оптина пустынь не есть какой-нибудь безвестный, затерявшийся на путях и распутиях мира, уголок, – она, со смертью отца Иоанна Кронштадтского, стала едва ли не важнейшим центром православно-русского духа: совершающееся в ней, как в центре, неминуемо должно отозваться так или иначе, как на периферии, и на всем организме русского, а с ним и вселенского. Православия. Сейсмические инструменты Пулковской обсерватории не показывают ли землетрясений, происходящих даже в другом полушарии?..
Последим за событиями: они укажут, правильна ли, или нет, эта точка зрения.
Перед всероссийским разгромом 1905 года, в августе 1904 года, в той же Оптиной, произошло событие, важность которого была по достоинству оценена внимательными.
Дело было так.
В начале каникул лета того года, в Оптину пустынь к настоятелю и старцам явился некий студент одной из Духовных Академий, кандидат прав университета (Сергей Яковлевич Смарагдов. Впоследствии, след его отыскался: он оказался священником сухумского собора. Ему принадлежит сомнительная честь разгрома Иверско-Алексиевской женской общины святителя Софрония, близ Туапсе). Привез он с собою от своего ректора письмо, в котором, рекомендуя подателя, отец ректор (преосвященный) просит начальство пустыни дать ему возможность и указания к деятельному прохождению монашеского послушания во все его каникулярное время.
Аспирант монашеского подвига был принят по-оптински, – радушно и ласково. Отвели ему номерок в гостинице, где странноприимная, а послушание дали то, через которое, как чрез начальный искус, оптинские старцы проводят всякого, кто бы ни пришел поступать к ним в обитель, какого бы звания или образования он ни был: на кухне чистить картошку и мыть посуду. Так как у нового добровольца-послушника оказался голос и некоторое умение петь, то ему было дано и еще послушание – петь на правом клиросе. Оптинские церковные службы очень продолжительны, и круг ежедневного монастырского богослужения обнимает собою и утро, и полдень, и вечер, и большую часть ночи (Утреня начинается в час ночи, оканчивается в начале пятого утра: ранняя обедня от половины шестого до семи утра: поздняя – от половины девятого до половины одиннадцатого в будни, и в праздники до половины двенадцатого: вечерня – от пяти до половины восьмого вечера: правило – от восьми до половины девятого вечера. Таково, приблизительно, ежедневное распределение оптннских служб): чистить картошку и посещать клиросное послушание – это такой труд, добросовестное исполнение которого под силу только молодому, крепкому организму и хорошо дисциплинированной воле, одушевленной к тому же ревностью служения и любви к Богу. Но этого труда ученому послушнику показалось недостаточно, и он самовольно (по-монастырски – самочинно) наложил на себя сугубый молитвенный подвиг: стал молиться по ночам в такое время, которое даже и совершенным положено для отдохновения утружденной плоти. Это было замечено гостиником той гостнницы, где была отведена келья академисту; пришел он к настоятелю и говорит:
– Академист-то, что-то, больно в подвиг ударился: по ночам не спит, все молится; а теперь так стал молиться, что, послушать, страшно становится; охает, вздыхает, об пол лбом колотится, в грудь себя бьет.
Призвали старцы академиста, говорят:
– Так нельзя самочинничать: этак и повредиться можно, в прелесть впасть вражескую. Исполняй, что тебе благословлено, а на большее не простирайся.
Но усердного не по разуму подвижника, да еще ученого, остановить уже было нельзя: что, мол, понимает монашеская серость? Я все лучше их знаю!
И, действительно, узнал, – дошел до таких степеней, до каких еще никто не доходил из коренных подвижников оптинских!..
Вскоре после старческого увещания, певчими правого клироса была замечена явная ненормальность поведения академиста: он что-то совершил во время церковного пения, такое, что его с клироса отправили в монастырскую больницу; а в больнице у него сразу обнаружилось буйное умопомешательство. Пришлось его связать и посадить в особое помещение, чтобы не мог повредить ни себе, ни людям. За железной решеткой в небольшом окне, за крепкой дверью и запором, и заключили, до времени, помешанного, а тем временем дали о нем знать в его академию.
Событие это произошло первого августа 1904 года, а второго августа оно разрешилось такой катастрофой, о какой не только Оптина пустынь, но и Церковь русская не слыхивала, кажется, от дней своего основания.
Во Введенском храме (летний оптинский собор) шла утреня. Служил иеромонах, отец Палладий, человек лет средних, высокой духовной настроенности и богатырской физической силы. На клиросах пели “Честнейшую Херувим”; отец Палладий ходил с каждением по церкви и находился в самом отдаленном от алтаря месте храма. Алтарь был пуст, даже очередной пономарь, и тот куда-то вышел. В церкви народу было много, так как большая часть братии говела, да было немало говельщиков и из мирских богомольцев… Вдруг, в раскрытые западные врата храма, степенно и важно, вошел некто совершенно голый. У самой входной двери этой, с левой стороны, стоит ктиторский ящик, и за ним находилось двое или трое полных силы, молодых монахов; в трапезной – монахи и мирские; тоже – и в самом храме. На всех нашел такой столбняк, что никто, как прикованный, не мог сдвинуться с места… Так же важно, тою же величественною походкой, голый человек прошел мимо всех богомольцев, подошел к иконе Казанской Божией Матери, что за правым клиросом, истово перекрестился, сделал перед нею поклон, направо и налево, по-монашески, отвесил поклоны молящимся и вступил на правый клирос.
И во все это время, занявшее не менее двух-трех минут, показавшихся очевидцам, вероятно, вечностью, никто в храме не пошевельнулся, точно силой какой удержанные на месте.
Не то было на клиросе, когда на него вступил голый: как осенние сухие листья под порывом вихря, клирошане – все взрослые монахи, – рассыпались в разные стороны, – один даже под скамейку забился, – гонимые паническим страхом. И тут, во мгновение ока, голый человек подскочил к царским вратам, сильным ударом распахнул обе их половинки, одним прыжком вскочил на престол, схватил с него крест и Евангелие, сбросил их на пол далеко в сторону и встал во весь рост на престоле, лицом к молящимся, подняв кверху обе руки, как некто, кто “в храме Божием сядет, как Бог, выдавая себя за Бога (2 Сол. 2.4)…”
Мудрые из оптинских подвижников так это и поняли.
Этот голый человек был тот самый академист, что, вопреки воле старцев и без их благословения, затеял самовольно подвижничать и впал в состояние омрачения души, которое духовно именуется прелестию…
Тут сразу, как точно кандалы спали с монахов – все разом бросились на новоявленного бога, и, не прошло секунды, как уже он лежал у подножия престола, связанный по рукам и ногам, с окровавленными руками от порезов стеклом, когда он выламывал железную решетку и стеклянную раму своего заключения, и с такой сатанинской, иронически злой усмешкой на устах, что нельзя было на него смотреть без тайного ужаса.
Одного монаха он чуть было не убил, хватив его по виску тяжелым крестом с мощами; но Господь отвел удар, и он только поверхностно скользнул, как контузия, по покрову височной кости. Он ударил того же монаха вторично кулаком по ребрам, и след этого удара, в виде углубления в боку, у монаха этого остался виден и доселе.
Когда прельщенного академиста вновь водворили в его келью, где, казалось, он был так крепко заперт, он сразу пришел в себя, заговорил, как здоровый…
– Что было с вами? – спросили его, – помните ли, что вы наделали?
– Помню, – ответил он, – все хорошо помню. Мне это надо было сделать: я слышал голос, который повелевал мне это совершить, и, горе было бы мне, если бы я не повиновался этому повелению… Когда, разломав раму и решетку в своем заключении и скинув с себя белье, я нагой как новый Адам, уже не стыдящийся наготы своей, шел исполнить послушание “невидимому”, я вновь услыхал тот же голос, мне говорящий: – “иди скорее, торопись, а то будет поздно!” – Я исполнил только долг свой перед пославшим меня.
Так объяснил свое деяние новейший Адам, сотворивший волю пославшего его отца лжи и духовной гордости.
Отправили прельщенного в Калугу, в “Хлюстинку” – больницу для душевнобольных, а оттуда его вскоре взял на свое попечение кто-то из его ближайших родственников. Дальнейшая судьба его в точности неизвестна. Слышно было, что он окончательно выздоровел, духовную академию оставил и служит где-то по судебному ведомству.
(Из “Прибавления к церковным ведомостям” №43: В настоящее время в Крестовой церкви в Екатеринбурге при архиерейских служениях большею частью проповедником выступает отца И. Сторожев. а в числе богомольцев стало не редкостью видеть прежних товарищей его. – людей большею частью давно отбившихся от церкви и богослужения. Через несколько дней после товарищ отца И. Сторожева. также екатеринбургский присяжный поверенный. С.Я. Смарагдов был рукоположен в священный сан преосвещеннейшнм Андреем Сухумским. В г. Екатеринбурге, да и в епархии знали присяжного поверенного Сергея Яковлевича Смарагдова. как честного защитника, хорошего оратора и скромного человека. Но едва ли многие знали его, как христианина. Едва ли многие из обращавших внимание на его скромность знали истинную основу ее. Да и кто мог подумать, что скромность этого, подававшего такие большие надежды, адвоката истекала из его христианской настроенности. А между тем это было так. Адвокат продолжал всегда быть христианином и верным сыном Святой Православной Церкви. Адвокатская практика не выработана из него себялюбивого “дельца”, не загасила горевший в нем пламень веры. Среди своих занятий С. Я. находил время для изучения священного писания и чтения святоотеческих писании. За несколько лет он, можно сказать, изучил нею библиотеку кафедрального собора. Клирос собора был его любимым местом в храме. Здесь, особенно в будние дни. он пел вместе с псаломшикамн. читал часы, щестопсалмне и проч., день ото дня становясь все более и более “церковным человеком”. И вот – свершилось. Поливавший блестящие надежды адвокат решил порвать карьеру, сулившую ему сланную будущность, и принять сан священника. К сожалению по семенным обстоятельствам вследствие болезни жены, нуждающейся в теплом климате, С.Я. не мог остаться в Екатеринбурге и вынужден был уехать на юг в г. Сухуми. Там он радушно встречен был преосвященным епископом Андреем и стал готовиться к посвящению. Двадцать девятого сентября г. Смарагдов прислал на имя преосвященного Мнтрофана. епископа Екатеринбургского и Ирбнтского. следующую телеграмму из Сухуми: “Милостивейший архипастырь. Первого октября 1911 года назначено рукоположение меня грешного во диакона, пятого – во пресвитера. Припадая к стопам вашего преосвященства усердно прошу вашего святительского молитвенного заступления”. Владыка прислал преосвященному Андрею телеграмму следующего содержания: “Прошу ваше преосвященство передать мои привет Смарагдову и молитвенное пожелание возмогать во благодати, яже о Христе Иисусе”. Теперь, когда печатаются эти строки бывший присяжный поверенный уже стал служителем алтаря Божия. благослови его. Господь. Пятого октября владыка получил следующую телеграмму: “Еше раз сердечно благодарим за любовь вашу, владыка; просим святых молитв. Епископ Андрей, священник Смарагдов”)
Когда произошло это страшное событие, повлекшее за собою временное закрытие соборного оптинского Введенского (Оптина пустынь именуется Введенской, и годовой праздник обители – Введение во храм Пресвятыя Богородицы) храма и малое его освящение, то и тогда уже наиболее одухотворенные из братии усматривали в нем прообраз грозного грядущего, провидя в нем все признаки предантихристова времени.
Через год с небольшим началось так называемое “освободительное движение” и дало собою яркое подтверждение тому, что в предположениях своих духоносные оптинские отцы и братия не ошибались, что движение это прикрывает собою не одну революцию против самодержавного помазанника Божия, а и войну против Творца и Самодержца вселенной и что близится тот роковой день, когда должен явиться “презренный” пророка Даниила, который при общем столбняке власть имущих и параличе власти, прекратит ежедневную жертву, поставит мерзость запустения на криле святилища и… окончательная, предопределенная гибель постигнет опустошителя…
Есть в Оптнной некий монах из священнослужителей, нравом препростый, благоговейный и богобоязненный (Отец Игнатий иеродиакон (прозвище – “Голосёна” за жалобный голос)). Сказывали мне про него кое-кто из братии, что за сколько-то времени до этого знаменательного события ему виделся в алтаре Введенского храма, на престоле, некто без малейшего признака на нем какого-либо одеяния.
– Вот, искушение-то, – говорил этот священнослужитель, – как только моя чреда, вхожу в алтарь, а там голый на престоле.
Мало только кто верил словам этого раба Божия…
Много ли найдется и из читателей моих таких, кто станет на мою точку зрения в рассуждении о значении того, что второго августа 1904 года произошло в святой Оптиной пустыни?..
Дай Бог, чтобы мое толкование оказалось неверным! А сердце тревожно, тревожно!..
9 января
Кипячение крещенской воды в Петербурге. – Монахиня Ольга и ее прорицания. – Случай с одним архиепископом. – Слухи о реставрации чудотворной иконы Божией Матери. – Мудрость старца. – Суд Божий
События, по-видимому, начинают оправдывать мое толкование совершившегося в Оптиной вдень Рождества Христова: покров веры отъемлется от стада Христова, в великую скорбь овцам и на радость торжествующей стае хищных волков, празднующих близость победы и одоления. В крещенский сочельник и в самый день Богоявления, по представлению санитарной комиссии, было сделано распоряжение совершить освящение великой агиасмы (Крещенской воды) в Петербурге на кипяченой воде. Ко всем соборам и церквам, а также на Иордань, на Неву, привезены были бочки с кипятком, и молитвы водоосвящения читались над кипятком, на кипяток призывалась всеосвящающая благодать Святого Духа. Это ли не погром веры?! Полену дров, нужному для кипячения воды и уничтожения микробов, было оказано больше веры, чем Богу…
Вот он “пожар покрова веры!”. К счастью, не все еще отступили от якоря нашего спасения, и в том же Петербурге Господь сохранил для избраных Своих одного епископа, не согласившегося поступиться своей верой ради мира с врагами Христовой Церкви. Если мои записки, когда-либо узрят свет, то пусть они и сохранят имя этого верного слуги Божия и архипастыря в подкрепление веры и благочестия изнемогающих моих братии. Кирилл Гдовский (Впоследствии Тамбовский) – имя этому епископу. Да будет благословенно имя его в род и род.
Мне прислали из Петербурга вырезку из седьмого номера “Петербургской” газеты и в ней статья – “Богоявленское водосвятие в Александро-Невской Лавре”.
Страшное по своему значению событие это в газете описывается так:
“…Вот что произошло в главном соборе Александро-Невской Лавры накануне Крещения, в сочельник.
Лаврские сторожа заблаговременно приготовили для водоосвящения громадный дубовый чан в несколько бочек воды, по обыкновению, некипяченой, прямо из-под крана. Полиция местного участка, через городового, от имени пристава, приказала приготовить пятьдесят ведер кипяченой воды местному трактирщику г. Евплову, для водосвятия в Александро-Невской Лавре. Кипяток был заказан к десяти часам утра и через час уже был готов, но он не потребовался.
Помощник пристава, узнав, что вода в чане некипяченая, потребовал, чтобы воду заменили кипяченой. Эконом Лавры, архимандрит Филарет, отправился к митрополиту Антонию (Митрополит Антоний, при попустительстве которого произошло это кощунство, умер вскоре, и смерть его была тяжелая: умирал без сознания в течение, помнится, десяти дней. Когда же после отпевания, тело его обносили в гробу (открытом) вокруг Лаврского Собора, неожиданно налетевший вихрь сорвал с его головы венчик и бросил в толпу, где он и исчез бесследно), но секретарь Тихомиров сказал, что владыку беспокоить нельзя, что он сильно занят. – “Не получив, таким образом, никакого распоряжения от владыки, – говорил мне архимандрит Филарет, – я своею властью приказал переменить воду У нас воды кипяченой было достаточно, но только мы ее не успели остудить. Брали прямо из кипятильников горячую”.
Эконом лавры выразил сожаление, что распоряжение о кипяченой воде сделано слишком поздно.
– В общем, все обошлось благополучно. Многие из публики даже благодарили за принятые предупредительные меры, – говорил нам архимандрит Филарет.
К сожалению, не то мы слышали от молящихся в церкви. Многие сильно роптали и выходили, когда, во время совершения литургии, воду приносили сторожа и выливали в чан. Пар от горячей воды распространился по всему собору… Энергичное требование полиции заменить немедленно сырую воду кипяченой произвело на богомольцев неблагоприятное впечатление. В самый день Крещения, требования полиции поставить чан с кипяченой водой на льду у Иордани лаврское духовенство отвергло. Вода была освящена епископом Кириллом Гдовским, в сослужении архимандритов Лавры, прямо в проруби Невы.
Местная полиция приняла меры и никого из публики за водой на Иордань не допустила”.
Ой, страшно!..
В недальнем от Оптиной женском монастыре есть раба Божия, по имени Ольга. На нее иногда “находит”, и в этом состоянии она имеет видения и прорекает. Кто ей верит, а кто не верит. Я сам не могу определить, каким духом пророчествует Ольга, но многое, как слышно, из ее слов сбывается.
Со дня кончины отца Иоанна Кронштадтского (20 декабря 1908 г.) на нее “нашло”. Она почти ничего не ест, не пьет, не спит даже. Сделала себе из бумаги трубу и трубит:
– Теперь настало антихристово время. Сам сатана вышел из ада. В аду теперь никого, кроме Иуды, не осталось: все сатанинское воинство со своим князем выступило из преисподней, чтобы соблазнять и губить последних христиан на земле. Горе людям, великое горе настало на земле!.. Там моры начнутся, там трусы – земля проваливаться станет: а там война будет страшная… А на восходе солнечном два коня, – один рыжий, другой вороной, – удила грызут, так и рвут, разорвать нас хотят; только еще не могут – удерживает их сила не здешняя… Но скоро, скоро они с цепей своих сорвутся и бросятся на нас!
На Ольгу, – рассказывали мне, – без слез смотреть нельзя: пальцы, руки, ноги, – вся она стала, как кость, и все тело ее приняло во время припадка совершенно неестественное положение…
– Вижу, – трубит Ольга, – вижу антихриста. Вот он ходит, руки потирает, слугами своими доволен, – хорошо дела его все исполняют. Только никто еще не знает, где он находится и когда явится. А уж скоро-скоро ему объявиться. Я его и дела обличать буду, когда в Иоанновский монастырь жить перейду. С Иоанновского и пойдет гонение на христиан от антихриста, а меня он велит казнить – голову мне отрубить…
Антихриста описывает, как человека уже взрослого, с усами, с бородой, красоты неизобразимой…
Характерно для переживаемого времени сопоставление отмеченных здесь двух событий – кипячения воды для великой агиасмы и прорицательств Ольги: внешней связи между ними, как будто нет, ну, а внутренней, на мой взгляд, сколько угодно!..
Каким духом внушаются Ольге ее прорицательства, покажет будущее. Кто доживет, тот увидит…
Сегодня прочел в “Колоколе”, что престарелый архиепископ одной из древнейших русских епархий, запутавшись ногами в ковре своего кабинета, упал, и так разбил себе голову и лицо, что все праздники не мог служить, да и теперь еще лежит с повязкой на лице и никого не принимает. (Архиепископ Новгородским Гурий)
В конце октября или в начале ноября прошлого года был из епархии этого архиепископа на богомолье в Оптиной один офицер; заходил он и ко мне и рассказал следующее:
– Незадолго перед отъездом моим в Оптину, я был на празднике одной обители, ближайшей к губернскому городу, где стоит мой полк, и был настоятелем ее приглашен к трапезе. Обитель эта богатая; приглашенных к трапезе было много, и возглавлял ее наш местный викарный епископ; он же и совершал в тот день литургию. В числе почетных посетителей был и некий штатский “генерал” из синодской канцелярии. Между ним и нашим викарным зашла речь о том, что получено благословение, откуда следует, по представлению архиепископа, на реставрацию лика одной чудотворной иконы Божией Матери, находящейся в монастыре нашей епархии. Иконе этой верует и поклоняется вся православная Россия, и она, по преданию, писана при жизни на земле Самой Царицы Небесной Св. Апостолом и Евангелистом Лукой. Нашло, – видите ли, – монастырское начальство, что лик иконы стал так темен, что и разобрать на нем ничего невозможно. Тут явились откуда-то реставраторы со своими услугами, с каким-то новым способом реставрации, и старенького нашего епархиального владыку уговорили дать благословение на возобновление апостольского письма новыми валами (Славян. – краски).
– Как же это? – перебил я, – неужели открыто, на глазах верующих?
– Нет, – ответил мне офицер, – реставрацию предположено было совершать по ночам, частями: выколупывать небольшими участками старые краски и на их место, как мозаику, вставлять новые под цвет старых, но так, чтобы восстанавливался постепенно древний рисунок.
– Да, ведь, это кощунство, – воскликнул я, – кощунство не меньшее, чем совершил воин царя-иконоборца, ударивший копнем в Пречистый Лик Иверской Божией Матери!
– Так на это дело, как выяснилось, смотрел и викарный епископ, но не такого о нем мнения был его собеседник, “генерал” из синодальных приказных. А между тем, слух об этой кощунственной реставрации уже теперь кое-где ходит по народу, смущая совесть последнего остатка верных… Не вступитесь ли вы, С. А., за обреченную на поругание святыню?
Я горько улыбнулся: кто меня послушает?!.
Тем не менее, по отъезде этого офицера, я собрался с духом и написал письмо тоже одному из синодских “генералов”, Скворцову, с которым мне некогда пришлось встретиться в Орле, во дни провозглашения Стаховичем на миссионерском съезде пресловутой “свободы совести”. Вслед за этим письмом, составленным в довольно энергичных выражениях, я написал большое письмо к викарному епископу той епархии Андронику, впоследствии замученному епископу Пермскому, где должна была совершиться “реставрация” св. иконы. Епископа этого я знал еще архимандритом, видел от него к себе знаки расположения и думал, что письмо мое будет принято во внимание и, во всяком случае, благожелательно. Тон письма был почтительный, а содержание исполнено теплоты сердечной, поскольку она доступна моему малочувственному сердцу. Написал я епископу и, вдруг, вспомнил, что, приступая к делу такой важности и живя в Оптиной, я не подумал посоветоваться со старцами. Обличил я себя в этом недомыслии, пожалел о том, что “генералу” письмо уже послано, и с письмом к епископу, отправился к своему духовнику и старцу отцу Варсонофию в скит. Пошел я к нему с женой в полной уверенности, что растрогаю сердце моего старца своей ревностью и уже, конечно, получу благословение выступить на защиту чудотворной иконы.
Батюшка-старец не задержал меня приемом.
– Мир вам, С.А.! Что скажете? – спросил меня батюшка. Я рассказал вкратце, зачем пришел, и попросил разрешения прочесть вслух мое письмо к епископу. Батюшка выслушал внимательно и вдруг задал мне такой вопрос:
– А вы получили на это письмо благословение Царицы Небесной?
Я смутился.
– Простите, – говорю, – батюшка, я вас не понимаю.
– Ну-да, – повторил он, – уполномочила разве вас Матерь Божия выступать на защиту Ее святой иконы?
– Конечно нет, – ответил я, – прямого Ее благословения на это дело я не имею, но мне кажется, что долг каждого ревностного христианина заключается в том, чтобы на всякий час быть готовым выступать на защиту поругаемой святыни его веры.
– Это так, – сказал отец Варсонофий, – но не в отношении к носителю верховной апостольской власти в Церкви Божией. Кто вы, чтобы восставать на епископа и указывать ему образ действия во вверенной его управлению Самим Богом поместной Церкви? Разве вы не знаете всей полноты власти архиерейской? …Нет, С. А., бросьте вашу затею и весь суд предоставьте Богу и Самой Царице Небесной – Они распорядятся, как Им Самим будет угодно. Исполните это за святое послушание, и Господь, целующий даже намерения человеческие, если они направлены на благое, дарует вам сугубую награду и за послушание, и за намерение; но только не идите войной на епископский сан, а то вас накажет Сама Царица Небесная.
Что оставалось делать? Пришлось покориться.
– А как же, батюшка, – спросил я, – быть с тем письмом, которое я уже отправил синодальному “генералу”?
– Ну, это уж ваше с ним частное дело: “генерал”, да еще синодальный, – это в Церкви Божией не богоучрежденная власть, это вам ровня, с которой обращаться можете, как хотите, в пределах, конечно, христианского миролюбия и доброжелательства.
“Предоставьте суд Богу!” – таков был совет старца. И суд этот совершился: не прошло со дня этого совета и полных двух месяцев, а уже архиепископ получил вразумление и за лик Пречистой ответил собственным ликом, лишившись счастья совершать в великие Рождественские дни Божественную литургию.
Призамолкли что-то и слухи о реставрации святой иконы. Хотел, было, я разразиться обличительными громами по поводу кипячения воды для великой агиасмы, но после старческого внушения решил и над этим суд предоставить Богу.
Икона Пресвятой Богородицы Тихвинской была, все-таки, реставрирована описанным способом при архимандрите Иоанникие. Результат реставрации оказался таков, что ничего от древней святой иконы не осталось и ее уже нельзя было выставлять для поклонения. Самого архимандрита тут же вслед разбила болезнь, и он не мог уже служить. Его удалили на покой в Валдайский Иверский монастырь, где его обокрал келейник тысяч на сорок или шестьдесят (стяжание настоятельское), нон умер с горя третьего июня 1913 года. “А был раньше здоров, как бык”, сказывал мне Валдайский архимандрит впоследствии епископ Иоанн.
10 января
Послушница без послушания. – Иерей Бога Вышнего, отец Егор Чекряковскнй (Георгий Алексеевич Коссов) и слова его о реформах духовной школы. – “Перевоплощение” Льва Толстого. – “Два полюса духа”
На нашем горизонте нередко появляется некая многоскорбная монашка-послушница одного большого монастыря Калужской епархии. Эта бедная раба Божия взялась слишком рьяно за подвиги монашеского аскетизма, не craia слушаться старцев и… надорвалась. Утрата ею душевного равновесия стала невыносима для монастырского общежития и ее, как неприукаженную, удалили из монастыря, кажется, даже силою. Теперь она скитается с места на место и нигде не находит себе успокоения… Сегодня она явилась к нам от отца Егора Чекряковского (См. о нем в книге моей “Великое в малом”. Священник села Спас-Чекряк. Орловской губ.. Волховского уезда. Ближайший к нему железнодорожный пункт – ст. Белев. Рязанско-Уральской ж.д. откуда до Спас-Чекряк 25 верст на лошадях), умиротворенная,успокоенная. Какая от Бога дана сила этому иерею Бога Вышнего, что может низводить мир даже и в такие немирные души, как наша бедная послушница! И псе наши старцы, начиная с отца архимандрита, относятся к нему, как к старцу, как к опытному наставнику и руководителю душ христианских на пути их к вечному спасению. Сколько и я сам от него видел добра себе духовного!.. Выберу время, запишу когда-нибудь в свои дневники кое-что из событий моей жизни, на которых легла печать духа старчества этого истинно-великого в своем смирении служителя и строителя тайн Божиих. Сегодня, по случаю толков о предстоящих реформах, в духовной школе, вычитанных мною в газетах, вспомнилось мне нечто из бесед по этому поводу с отцом Егором. Запишу, пока помнится, по возможности словами самого батюшки.
– Было это во дни архиерейства в нашей епархии епископа С., – так рассказывал мне батюшка, – в то время по всей России пошла мода на съезды. Вот и у нас в епархии вошло в обычай созывать съезды духовенства по всякому удобному случаю. На ступили, как раз во дни его архиерейства, времена тяжкие: забунтовал весь мир, с ним стали бастовать и наши духовные школы. Ну, конечно, сейчас же по усмирении был созван съезд епархиального духовенства рассудить о том, как быть, как реформировать училища духовного юношества на началах терпения и смирения, а не противления. Собралось нашего брата на съезде великое множество, возглавилось оно обоими нашими владыками, – епархиальным и викарным, – и стало обсуждать, как поднять дух будущих пастырей, как заставить семинаристов учиться и Богу молиться. Владыка, конечно, сказал слово, приличное случаю; другие тоже в грязь лицом не ударили: говорили, говорили – много чего наговорили… Сижу я себе да думаю: ну, чего ты, захолустный поп, сидишь тут? Народ здесь все ученый: кто твоего мнения спрашивать будет?.. Вдруг, слышу:
– А вы, отец Георгий, как о сем думаете?
И пришлось мне, захолустному попу, ответ держать. И сказалось, мой батюшка, С.А., тут такое слово, что я не рад был, что и сказал его… “Ваши преосвященства и вы, отцы святые, – начал я так ответ свой, – за всеми разговорами, что я здесь слышал, я что-то недослышал: велась ли здесь речь о Подвигоположнике нашем, Господе Иисусе Христе, и о нас самих, отцах тех школяров, которых мы никак не можем заставить ни учиться, ни Богу молиться? Говорили ли мы о том, какой в нашей общественной деятельности и, что всего важнее, в нашей домашней, семейной жизни, мы сами подаем пример сынам и дочерям нашим? Нет, не говорили. А какое присловье слышали мы от Господа? – “Врачу, исцелися сам”! – Не с нас ли. отцов, надлежит приняться за реформу? Что на этот вопрос мы скажем, чем отзовемся… А еще о ком мы в речах своих упомянуть забыли? Только – о Спасителе нашем, без Которого мы и творить-то ничего не можем! Только?!.. Да! не помянули ни разу, мало того, что ни помянули, но и в жизни-то своей, кажется, о Нем думать позабыли. Бывало прежде: Он всем нам хорошо был виден, потому что каждый из нас имел Его, Пастыреначальнпка своего, перед собою – Он шел впереди нас, и мы – кто на колеснице, кто пешком, кто бочком, а кто и вовсе ползком – шли за Ним. И был Он нам все: и путь, и истина, и жизнь!.. А после что? А вот что: на место единого Истинного Христа Бога, понаделали мы себе каждый своих христов, да и ведем их, самодельных позади себя на веревочке. Где ж тут нам столковаться”?!.
Сказал я эти дерзостные слова, Сергей Александрович, и уж не знал, куда деваться от страху… И что ж думаете вы: ведь никто мне слова не сказал в ответ на мои речи – все промолчали. Тягостная была минута молчания!.. На мое счастье, кто-то заговорил о чем-то; слова его подхватили, а я, тем временем, шапку в охапку да прямо со съезда – к себе в Чекряк: уноси, поп, пока цел, свои ноги!.. С тех пор, мой батюшка, на съезды меня уж не приглашали.
На прошлогоднем миссионерском съезде в Киеве Обер-Прокурор Извольский (после революции 1917 г. Извольский этот принял сан священства и назначен настоятелем русской церкви в Ницце. Женат на дочери цыганки, княжне Голицыной) заявил, что даже и “Синоду пришлось отдать дань переходному времени”.
Помилуй Бог, если это правда! Это будет значить, что Истинный Христос, а не самодельный, отступает Своею благодатью от места свята… Кипячение воды для великой агиасмы не предварение ли верным, чтобы они имели “чресла свои препоясаны и светильники горяши”, ибо близко пришествие Жениха, грядущего суднти живых и мертвых. Ведь, в притче о девах мудрых и юродивых, недаром сказал Господь, что воздремали и уснули не одни юродивые, но и мудрые девы.
События времени чередуются на наших глазах с головокружительной быстротой. Уступки духу времени, как малые пороховые взрывы, рвут щели во всех стенах христианской (увы – только по имени!) государственной и общественной жизни, постепенно образуя огромные провалы, откуда вырывается огонь едва ли не самой преисподней.
О, если бы пробудились наши мудрые девы!..
Странное событие совершилось в тайниках оптинской духовной жизни! Слышал я о нем из уст одного из оптинских духовников отца Феодосия (Впоследствии игумен и начальник Оптинского скита. Скончался девятого марта 1920 года), и сомнения в достоверности рассказа у меня не возникло ни на минуту: прошу и моего читателя отнестись к нему с таким же доверием, как и я.
В Оптиной, по благословению великих почивших старцев, Льва, Макария и Амвросия, издавна существует благочестивый и исполненный глубокого духовного разума обычай совершать над желающими, хотя бы телесно и здоровыми, таинство Елеосвящения, в просторечии известно под именем “соборования”. В миру это таинство совершается крайне редко и притом исключительно над тяжко больными, даже над такими, которые признаны безнадежными. Мне самому довелось слышать из уст священника, соборовавшего одного чахоточного, находившегося у порога агонии:
– Ты, милый мой, не думай, что особоруешься – выздоровеешь. Этого, братец мой, никогда не бывает.
Не то в Оптиной. Там основываются на точном разумении слов соборного послания Св. Апостола Иакова (5, 14-15), которое говорит: “болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во Имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему”. На основании этих слов, совершая таинство Елеосвящения над больными, оптинские старцы не отказывают в нем и, по виду, телесно здоровым богомольцам, ибо, говорят они, совершенно здоровых людей нет, потому что все повинны греху, а грех уже сам по себе есть болезнь души, влекущая за собою болезнь и тела. Независимо от этого, таинство Елеосвящения, – утверждают старцы, – имеет силу очищать душу не только от грехов сознанных, уже очищенных покаянием, но и от грехов “забвенных”, не сохраненных памятью кающегося, так как сказано: “если соделал грехи, простятся ему”. Обычно, к этому таинству в Оптиной приступают после исповеди и причащения, и совершается оно поочередно духовниками обители.
Великий это дар веры нашей!
В октябре, или ноябре прошлого года, к отцу Ф. собралась собороваться партия богомольцев, душ в четырнадцать, исключительно женщин. В числе их была одна, которая собороваться не пожелала, а попросила позволения присутствовать зрительницей при совершении таинства.
– Перед соборованием, – говорил мне отец Ф., – у меня в обычае сказать богомольцам по его поводу несколько слов, объяснить его значение для души и тела, рассказать, как к этому таинству относились великие наши старцы… По совершении таинства, смотрю, под ходит ко мне та женщина, отводит меня в сторону и говорит:
– Батюшка, я хочу поисповедоваться и, если разрешите, завтра причаститься и потом у вас пособороваться.
Я проводил ее товарок, которых особоровал, надел епитрахиль и приступил к исповеди. Женщина эта мне принесла покаяние в очень тяжком грехе, который ею был совершен уже давно, но в котором она из чувства ложного стыда не могла покаяться перед своими мирскими священниками. Я разрешил ее от греха, допустил к причастию на другой день и объяснил, чтобы она собороваться пришла в тот же день часам к двум пополудни… На следующий день женщина эта пришла ко мне несколько раньше назначенного часа, взволнованная и перепуганная.
– Батюшка! – говорит, – какой страх был со мною нынешнею ночью! Всю ночь меня промучил какой-то высокий, страшный старик; борода всклокоченная, брови нависли, а из-под бровей – такие острые глаза, что, как иглой, в мое сердце впивались. Как он вошел в мой номер, не понимаю: не иначе, это была нечистая сила…
– Ты думаешь, – шипел он на меня злобным шепотом, – что ты ушла от меня? Врешь, не уйдешь! По монахам стала шляться да каяться – я тебе покажу покаяние! Ты у меня не так еще завертишься: я тебя и в блуд введу, и в такой-то грех, и в этакий…
И всякими угрозами грозил ей страшный старик и не во сне, а въяве, так как бедная женщина до самого утреннего правила, – до трех часов утра, – глаз сомкнуть не могла от страха. Отступил он от нее только тогда, когда соседи ее по гостинице стали собираться идти к правилу.
– Да, кто ж ты такой? – спросила его, вне себя от страха женщина.
– Я – Лев Толстой! – ответил страшный и исчез.
– А разве ты знаешь, – спросил я, – кто такой Лев Толстой?
– Откуда мне знать? – я неграмотная.
– Может быть, слышала? – продолжал я допытываться, – не читали ли о нем чего при тебе в церкви?
– Да нигде, батюшка, ничего о таком человеке не слыхала, да и не знаю, человек ли он, или еще что другое.
Такой рассказ я слышал из уст духовника святой Оптиной пустыни, человека для меня совершенно достоверного. Что это? Неужели Толстой настолько стал “своим” в том страшном мире, которому служит своей антихристианской проповедью, что в его образ перевоплощается сила нечистая?..
Как бы ни было, а факт оптинского видения остается фактом. Что скрыто от премудрых и разумных, то открывается младенцам. Но и мнящие себя мудрыми иногда, против воли своей, обмолвливаются словом чуждой им истины. На днях, по поводу кончины отца Иоанна Кронштадтского, публицист газеты “Новое время”, проводя параллель между почившим праведником и здравствующим писателем, воскликнул:
“Отец Иоанн и Толстой – это два полюса!”
Отец Иоанн был строителем на земле тайн Божиих. Чей же слуга, антипод его – Толстой?
Несчастный старик! жалкий старик!..
12 января (Понедельник. День святой мученицы Татианы)
“Татьянки день” в Москве и в Оптикой. – Отголоски Мессинской катастрофы. – Письмо епископа к оптпнскнм старцам. Слухи в народе. – Знаменательные предсмертные сновидения умершего благочинного, отца Илиодора. – Моя последняя с ним встреча и прозорливость старца
Сегодня день святой мученицы Татианы – годовой праздник Московского университета. В нем, двадцать три года тому назад, я окончил курс юридического факультета. Чего только ни совершалось в мое время в Москве пьяным угаром былого студенчества! И сам я – подумать и вспомнить страшно! – принимал когда-то участие во всех его отвратительных оргиях, в которых человек не только теряет образ Божий, но и свой человеческий меняет на образ грязнейшего из животных…
А тут теперь, в моем благословенном затишьи, какой мир, какое благодушное спокойствие, какая непрестанно текущая тихая радость!.. Но и в это безмятежие доносятся извне глухие раскаты пока еще отдаленного грома праведного гнева Божия; и уже рябит зеркальная поверхность оптинской благодатной жизни, и даже в тиши ее священной ограды чувствуется, как потянуло холодным ужасом от надвигающейся грозовой тучи, насыщенной молниями Страшного Суда Господня над возлюбившим неправду человечеством… А там-то, в миру, за черным мраком разлившегося широким потоком отступничества, – там-то что? Подумать жутко!..
Двести тысяч жертв Мессинской катастрофы все еще возвращаются бледным, страх наводящим призраком. Но чему они научили нас здесь, на родине? Да ровно ничему, если не считать соревнования самолюбия и тщеславия устроителей балов, концертов и всяких, якобы благотворительных, увеселений в пользу пострадавших…
“Трудно подсчитать, – пишут из Рима в “Новое Время” (№ 11794, “5/18 Января”), – во сколько обошлась Италии роковая ночь двадцать восьмого декабря. Погибло более двухсот тысяч человек, и, по крайней мере, около ста тысяч из числа оставшихся в живых надо считать неспособными в будущем к настоящей работе… Потерю частного и национального богатства надо считать миллиардами… Италия в одну ночь понесла такие утраты людьми и деньгами, которые далеко превзошли потери России от ее последней войны… Немудрено, что общее настроение в стране подавленное, хотя внешним образом бодрость проявляется повсюду… Власти уже несколько дней прекратили раскопки, считая их бесполезными. А между тем каждый день находят лиц, оставшихся в живых даже по прошествии трех недель после катастрофы. Они принадлежат к небогатым семьям, жившим в нижних этажах, назначавшихся для торговых помещений и вместе нередко служивших для жилья… Большинство спасшихся людей, находящихся в Неаполе и Риме, принадлежат, именно, к беднякам Мессины и Реджио; зажиточных и достаточного класса людей между ними нет… Какие сиены повального безумия приходилось наблюдать тем, кто явился туда с помощью! Никогда самое живое воображение не могло бы нарисовать того, что представила действительность. Это нечто неописуемое”.
Некий г. Викентнй Куадо, редактор газеты “Мессинская Звезда”, обратился в редакцию “Coniere cTItalia” со следующим письмом:
“М. Г. Прошу опубликовать в газете вашей следующий факт. С некоторого времени Мессина находилась в руках богоотступников, и последние в воскресенье, предшествовавшее ужасной катастрофе, устроили собрание, на котором был постановлен резко-антирелигиозный порядок дня. Я не хочу делать какой-либо вывод из этого события, но полагаю, что мы должны отметить одно совпадение: газета “Il Tеlеphone”, выходившая в Мессине и отличившаяся грубо антирелигиозным направлением, опубликовала в своем рождественском номере позорную пародию на “молитву к Дитяти-Иисусу”, где, между прочим, находилась такая гнусная фраза:
О, мой милый мальчик.
Настоящий человек, настоящий Бог!
Ради любви к Твоему Кресту,
Ответь на наш голос:
Если Ты, поистине, не миф.
То раздави нас всех землетрясением!
Поучительно вспомнить теперь эти стихи. Других пояснений прибавлять не стану. Преданный ваш Внкентий Куадо, редактор “Мессинской Звезды”.
Итальянские газеты отмечают и другое “странное совпадение”: “в ночь перед Рождеством, во время торжественного богослужения, по улицам Мессины следовала религиозная процессия, обычно устраиваемая в полночь двадцать четвертого декабря в городах Южной Италии. Во главе процессии несли изображение Младенца-Иисуса (Bambino), за которым шли дети с факелами, в белых одеждах. Вдруг, как раз во время прохода процессии мимо одного из многочисленных клубов Мессины, из дверей его выскочила ватага проигравшихся игроков. Вероятно пьяные, они вырвали изображение Божественного Младенца из рук несших его, бросили его и растоптали. Сопровождавшие процессию в ужасе разбежались… Только прошли праздники, и небывалое землетрясение не оставило камня на камне”…
Такие вести идут к нам из Италии. Не по тому же ли пути, что и эта страна горячего солнца, зреющих апельсинов и лимонов, пошла наша когда-то Святая Русь? Из сердца моего не уходит память о петербургской агиасме… да об одной ли только агиасме?!..
Вот что пишет нашим старцам один епископ Православной Русской Церкви:
“…Желаю мира душевного и радости о Господе, той радости, которой и во дни скорби никто не может отнять. А дни скорби грядут, это чувствует сердце. Да и совесть свидетельствует, что милостей Божиих мы не заслужили. Шатаются даже столпы Церкви: что говорить о нас, грешных? Крепче молитесь Небесному Главе Церкви, да укрепит на камени веры Церковь Свою: если основание веры будет вынуто, то чего же нам ждать, грешным?.. Со страхом великим вступаю в новый год, а мы спим”…
Это пишет епископ. А вот что говорят в народе – говор-то его нам в нашем затишьи хорошо слышится.
Верстах в пятнадцати от Оптиной есть село Истик. Из этого села к нам частенько наезжают три богобоязненные брата-крестьянина. От них, стало быть, из самой глубины народного сердца, я только и слышу утверждение, что новому злу, водворившемуся в молодом поколении деревни, к старому добру обращения быть не может, что народ особенно после “свобод” 1905 года, развратился до крайности, что скоро в деревне даже своим деревенским жить будет нельзя и прочее – все в том же тоне, близком к крайнему отчаянию.
Вот от этих-то наших деревенских друзей и еще кое от кого из тех же недр деревенских до меня дошли слухи, что страх крестьянский начинает облекаться уже и в легендарные формы, начинает создаваться как бы народный эпос боязни и томительных предчувствий, облекающихся плотью полумифических сказаний. Из числа этих сказаний мне вспоминаются следующие.
Около села Истик, на крестьянском наделе, смежном с казенным лесом, крестьяне сводят свой лесной участок. Когда уже началась нынешняя зима, в казенном лесу, рядом с крестьянским сводом (Так в Полесье зовется участок, на котором рубится лес), среди бела дня, на опушке стал появляться какой-то, никому неизвестный, благообразный старец. Одет он по-крестьянски. Пройдет вблизи от работающих, приостановится невдалеке, постоит, точно прислушивается к разговорам православных между собою, и – пойдет себе опять в глубь казенного леса. Замечено было, что старец этот, при первом скверном слове между работающими, тотчас же удаляется, как бы не терпя сквернящего христианские уста слова… Пока это обстоятельство не было замечено, ходил себе старец, не слишком обращая на себя внимания, а как заметили, что он ругательств не любит, так сейчас же возбудилось к нему общее любопытство:
– И чего он тут шляется? Иль за нами досматривает? – И стали его мужики выслеживать, чтобы поймать и допросить, – кто он, и чего ему от них нужно? И в первый же раз, как только завидели крестьяне старца, так все и бросились за ним вдогонку, чтобы не дать ему уйти в чащу леса. И случилось тут диво-дивное, чудо-чудное: пошел от них старец в сторону казенной засеки (Так называется казенный лес) тихой стариковской походкой, а угнаться за ним не могли и молодые; так и ушел он у них из виду, словно, сквозь землю провалился. А что всего было чуднее, так это то, что на довольно уже глубоком, ровном и чистом снегу по старце том никаких следов не осталось. Так и не дознались, кто такой был этот старец.
Появлялся ли он истиковцам опять, того я не знаю; а вот что я еще слышал из тех же источников и тоже о каком-то старце.
По осени прошлого 1908 года, приблизительно в ту же пору, когда истиковцы начали рубить лес, ехал мужичок в Белев на базар и вез на продажу свиную тушу. Дорога ему шла лесом. Вдруг, из лесу ему навстречу выходит седенький старец, останавливает его и говорит:
– Куда едешь? Что везешь?
– Еду, – отвечает, – на базар, а везу тушу на продажу.
– Ладно, – говорит, – вези! Получишь за тушу четвертной билет (Двадцать пять рублей), купи мне рубашку, штаники и пиджачок.
Туше цена пятнадцать – восемнадцать рублей, а подарку – пара целковых; как тут не купить, если по старцеву слову сбудется?!.
– Ладно, – говорит. – дедушка, коли по твоему расторгуюсь тушей, то привезу тебе и рубашку, и штаники, и пиджачок.
Приехал мужик в Белев с тушей: не доехал еще и до базару, а уж его на дороге перехватили.
– Что везешь?
– Тушу.
– Покажь! Посмотрели…
– Хочешь четвертной?.. Ну вези ко мне на двор! С первого слова, значит, и сторговались.
Свез мужик тушу к покупателю, получил денежки и смекает: а старичок – от тот-то, видать, что не простой – не миновать покупать мне обновку! – Купил, что было нужно по старцеву заказу; едет обратно домой, глядь – на том же месте опять тот старец.
– Ну что, продал тушу?
– Продал дедушка.
– А – обещанное?
– Вот тебе и обещанное!
И пока сдавал мужик с рук на руки старцу обещанный подарок, тут же заметил, что под одной мышкой у старца – пук ржи, а под другой – чурка, как бы, гробик.
– Что это у тебя, – спрашивает, – дедушка?
– А это, – говорит, – что ты рожь видишь, значит – урожай ныне будет; а гроб – есть урожаю того некому будет: такая пойдет косить холера, такой мор на людях, что кучами будут валяться, и убирать некому будет.
Сказал и в след прибавил:
– Только ты не унывай!
И с этими словами скрылся в лесу…
Такие-то вот слухи ходят в народе, между теми, конечно, ктоеше не отбился от старинной правды. И как ни стараешься успокоить свое сердце, смятенное роковыми предчувствиями, как ни внушаешь ему, что образумятся-де, люди, принесут плоды, достойные покаяния, и что вновь во всей, уже сознательной, красоте великой своей Православной веры воскреснет Русь Святая, – нет! – куда укроешься, где притаишься ты, сердце, от всей этой грозной тучи зловещих знамений времени, предчувствий, предсказаний? Буквами, как железо раскаленными, на кровавом горизонте от века предопределенного, а теперь – увы – уже и близкого, будущего, видятся мне библейские грозные слова: “Мене, Текель, Упарсин!” (Дан. 5. 25-28)
Сегодня виделся с одним из близких к покойному отцу Илиодору монахов и от него узнал, что умерший благочинный за несколько дней до своей смерти был предварен о ней знаменательными сновидениями, которые я под свежим впечатлением здесь и записываю.
Отец Илиодор скончался вдень Рождества Христова, пришедшийся в истекшем году на четверг. В воскресенье, за четыре, стало быть, дня до смерти, отец Илиодор, после трапезы, прилег отдохнуть на диване в своей келье… Было это около полудня… Не успел он еще, как следует, заснуть, как видит в тонком сне, что дверь его кельи отворяется, и в нее входят – скитский монах Патрикий и с ним иеродиакон Георгий (Один из главных бунтовщиков против архимандрита Ксенофонта. Оба монаха и Патрикий и Георгий – ничего общего с оптинским духом не имеют, люди немирные, хитрые и плотские). У монаха Патрикия в руках был длинный нож.
– Давай нам деньги! – крикнул Патрикий.
– Что ты шутишь? – испуганно спросил его отец Илиодор: какие у меня деньги?
– А, тогда так, – закричал на него Патрикий, – так вот же тебе! – и вонзил ему по рукоятку нож в самое сердце.
Видение это было так живо, что отец Илиодор вскочил с своего ложа и, уклоняясь от ножа, сильно ударился затылком о спинку дивана. От боли он тотчас проснулся и кинулся смотреть, кто входил к нему в келью. Но ни в келье, ни за дверями кельи никого не было.
Это было одно видение.
За день до смерти, в таком же полусне, отец Илиодор увидал скончавшегося летом 1908 года иеромонаха Савву, бывшего одним из трех духовников Оптиной пустыни. Отец Савва явился ему благодушный и радостный.
– А что, брат, – спросил его отец Илиодор, – страшно тебе, небось, было, когда душа разлучалась с телом?
– Да, – ответил отец Савва, – было боязно; ну, а теперь, слава Богу, совсем хорошо!
Вслед за отцом Саввой, в том же видении, явился сперва почивший оптинский архимандрит Исаакий, и за отцом Исаакием – его преемник, тоже умерший, архимандрит Досифей. Отец Исаакий подошел к отцу Илиодору и дал ему в руку серебряный рубль, а отец Досифей – два.
– Неспроста мне это было, – говорил накануне своей смерти отец Илиодор, рассказывая свои сны одному монаху, – я, брат, должно быть, скоро умру.
В день смерти отец Илнодор был послан за послушание служить в одно село литургию; накануне у своего духовника, как служащий, исповедовался, а за литургией совершил Таинство и причастился.
Вернувшись в тот же день домой, отец Илиодор, по случаю великого праздника, был на так называемом “общем чае” у настоятеля, со всеми крайне был приветлив, более даже, как замечено, обыкновенного, и оттуда со всеми иеромонахами пошел в скит к старцам славить Христа. В это время мы с женой выходили от старцев и у самых скитских святых ворот встретили и его, и все оптинское иеромонашеское воинство. Отец Илиодор шел несколько позади и мне показался в лице чересчур красным.
– Вот, жарко что-то! – сказал он мне при встрече и засмеялся. На дворе стояли рождественские морозы.
Это была последняя моя с ним встреча в этом мире. Говорил мне после старец отец Варсонофий:
– У меня с отцом Илиодором никогда не было близких отношений, и все наше с ним общение, обычно, ограничивалось сухой официальностью и то только по делу. В день же его смерти, после славления, я, – не знаю почему, – обратился, вдруг, к нему с таким вопросом:
– А что, брат, приготовил ли ты себе что на путь? – Вопрос был так неожидан и для меня, и для него, что отец Илиодор даже смутился и не знал, что ответить. Я же захватил с подноса леденцов – праздничное монашеское утешение – и сунул ему в руку со словами:
– Это тебе на дорогу!
И подумайте, – какая вышла ему дорога!
Старец рассказывал мне это, как бы удивляясь, что сбылось по его слову. Но я не удивился: живя так близко от оптинской святыни, я многому перестал дивиться…
25 января
Рукопись неизвестной монахини. – “Двойная жизнь”
Сегодня видел одного из наших “премудрых” ( Отец Эраст (Вастротский), заведующий оптинской канцелярией и правая рука отца архимандрита Ксенофонта. Скончался семнадцатого июля 1913 года в мантии с именем Еразма, восьмидесяти пяти лет от роду).
– Может ли наша жизнь, – задает он мне вопрос, – находиться под непрестанным водительством из того мира, аможе вси земнороднии пойдем?
– Конечно, – отвечаю, – может.
– А как вы относитесь к снам?
Я, было, хотел ответить словами святых отцов Церкви, но “премудрый” меня остановил и подал мне довольно объемистую тетрадку, на пожелтевших страницах которой было написано:
“Письма одной сестры монашествующей к своему отцу духовному и старцу. Рассказ о своей жизни, начиная с двенадцати лет и до семидесяти трех, и далее…”
– Вот, – сказал мне “премудрый”, – возьмите эту рукопись себе и воспользуйтесь ею, как хотите.
Я выписал ее всю на страницы дневника своего, а теперь делюсь с моим читателем.
“Желаю вам, первое, описать, всемилостивейший батюшка, – так начинается рукопись, – как велико родительское благословение в жизни нашей, даже и по смерти их. Господь молитвами родителей, по милосердию Своему, не оставляет детей их, на земле оставшихся, предохраняет их во сне и наяву от всякой гибели.
Некоторые необыкновенные явления, случившиеся со мной, грешной, опишу я вам подробно, начиная с дненадцатилетнего моего возраста к до семьдесят третьего года, который минул мне первого февраля 1888 года. Желаю из разных записок и книг моих переписать в одну для соображения многих неверующих. Все видения, которые были мне вроде сна, исполнялись в совершенстве наяву. Сколько я ни старалась получить объяснения по этому поводу от достойных духовных лиц, но на все мои вопросы удовлетворительного ответа не получила, кроме того, что я снам верить не должна. Я вполне с этим согласна; но почему же этими снами я бываю, как будто, предохраняема или от погибели, или от греха? Чья же это рука меня предохраняет? – желаю знать я, многогрешная…
Я была выдана замуж двенадцати лет за пятидесятилетнего богатого, заслуженного воина. Великая была в этом человеке смесь добра и зла, хоть добра в нем было больше, чем зла; а какое и было в нем зло, то оно происходило больше от избалованного его характера; вообще же, он был чувств благородных, когда не находился в своей обыкновенной болезни, в которую впадал нередко. Меня любил он сильно, но от своего дурного характера и сам мучился, и меня мучил.
Мать моя меня любила страстно, более всех детей; и я была к ней сильно привязана, и у груди ее спала до самого замужества. Неудачного моего замужества мать не вынесла и, заболев чахоткою, вскоре переселилась в вечность. Выдать же меня замуж заставила родителей моих нужда, потому что муж мой хотел меня, все равно, увезти, украсть, и тогда бы родители мои расстались со мною навсегда. Но и выдавши меня замуж, мать моя, живя со мною в одной деревне, лишена была возможности меня видеть: муж мой, видя ее любовь ко мне, волновался ревностью и кончил тем, что запретил моей матери ездить к нам в дом. Мать бросила деревню и уехала в город. Через пять лет после моего замужества, мать моя, поручив меня милости Знамения Матери Божией, скончалась жертвою буйного характера моего мужа.
Болезнь моего мужа была запой. Но и в то время, когда муж мой подвергался припадкам этой страшной болезни, мне и тогда нельзя было видеться с моей матерью, потому что людям был отдан строжайший приказ меня караулить и не пускать к матери, а ее не принимать в дом. Но сильная любовь родительницы научила ее, что делать, как обнять дитя свое. Бывало, летнею порою, когда солнце на закате, возьмет она с собою сестру мою, девочку лет одиннадцати, и двенадцатилетнего брата, да девку-слугу, и пойдет с ними из города к нашей усадьбе. За ней несут – кто ковер, кто подушку, а дети несут печенье и разные лакомства. Расположится матушка моя в лесочке около нашей усадьбы на траве на отдых… О, горе было тогда нам с нею обеим великое!… Меня вызвать было дело хитрое, и на это дело отправлялся мой брат. Тихонько пробирался он через сад к стенке нашего дома и, зная, где я сплю, стучал мне в стену. Я выходила к нему тайком, и он провожал меня к матери. Я всегда заставала мою мать сидящей подгорюнившись на ковре. Как увидит она меня, бывало, как бросится ко мне, да так всю меня и обдаст слезами!.. Сколько я ни скрывала моих чувств, уговаривая ее быть покойной, но мудрено было скрыть от любящего материнского сердца желчь, сгонявшую румяней с моих юных щек… Так-то и виделись мы с нею летом, утешая скорбь свою красотой летней ночи и соловьиным пением. Досиживали мы с ней на ковре под кустиком до утренней зорьки, а там прощались, обливаясь слезами… Не вынесла мать моя зимней разлуки со мною, и двадцать пятого марта, на Благовещение, между утреней и обедней, умерла моя родимая, благословив меня иконой Знамения Божией Матери.
“С кончины моей матери, я во всех своих нуждах, во всех скорбях моих, стала припадать с молитвой к материнскому благословению – к Знамению Божией Матери, и с тех пор жизнь моя вся пошла под руководством чудесных видений.
Вскоре после смерти моей матери, я вижу, однажды, во сне, что пришла ко мне мать моя и говорит:
– Ты милуша моя, не пугайся, но воду, которая в кружке твоей стоит, не пей! Посмотри, что в кружке! А впредь на ночь себе в кружку воду наливай сама.
После этих слов я тотчас же проснулась. Посидела на постели, подумала: что бы это значило, что мать моя ко мне явилась? Грустно мне стало, и я горько, горько заплакала; а воды, все-таки, из кружки пить не стала. Эта кружка была серебряная… Утром сняла я с нее крышку и увидела, что как сама кружка, так и вода в ней, позеленели. Стали разбирать дело и добрались до сути: меня, оказывается, хотела отравить одна женщина, близкая моему мужу. С тех пор я сама себе стала наливать воду на ночь в стеклянную кружку.
Это было первое охранение меня в сонном видении.
После этого я была раз сильно огорчена дерзостью моего мужа. Муж мой по-своему очень меня любил, но в болезни своей, которая у него возобновлялась ежемесячно, он невольно причинял мне много горя, да еще горя-то такого, что его ни сердце, ни благородное чувство изобразить не могут… И в этот раз, когда он меня сильно оскорбил, я ушла в свою комнату и стала молиться, прося Господа, чтобы Он умилосердился надо мною, грешной, и взял к Себе от такого мученья.
С горькими слезами и с чувством скорби я заснула. И вижу я во сне: иду я лугом, покрытым густой, зеленой травой и цветами; а вдали – лес. На дворе, будто бы, несмотря на это, стоит холодная осень. Я бегу в этот лес раздетой, но мне не холодно, а легко и весело… По лесу дорога широкая и гладкая, и я бегу по ней… Вдруг, откуда-то взялась собака длинной цепью и преградила мне дорогу. Я испугалась и стала молиться. В это мгновение, смотрю, выходит из лесу молодой человек красоты необыкновенной, в каске и вооруженный, как воин, и спрашивает меня:
– Куда ты бежишь?
Я остановилась и молчу. Он взял меня за руку и стал говорить так тихо и нежно:
– Я сколько раз к тебе приходил, а ты от меня все убегаешь. Ты, ведь, моя и знай, что я тебя никому не отдам!
Я стала просить его поскорей меня отпустить. Он оставил мою руку и сказал:
– Помни ж, что ты моя!
Я бросилась бежать от него по лесу и прибежала к какому-то большому дому, и в доме этом двери сами собою предо мною растворились. Людей я никого не видела. Я вошла в дом. Смотрю: большая, великолепно убранная комната, и в ней лежит множество прекрасных вещей, и положено много разной одежды. Я все это рассмотрела и говорю сама с собой:
– Господи! Кому все это приготовлено?
И с этими словами я хочу уйти обратно к себе домой. Но тут двери, вдруг с большим шумом сами собой затворились, и я оказалась запутанной в каких-то решетках. И вижу я, что мне спасения нет и не выбраться мне из этих решеток. И начала я плакать и просить Господа, чтобы Он помог мне освободиться. В то же мгновение внезапно явился ранее мною виденный юноша. Я стала просить его освободить меня и отпустить домой.
– Меня, – говорю, – дома муж ждет. Пустите меня домой, освободите, меня!
Видя, что в этом юноше мое избавление, я стала несколько смелее и спросила его:
– Чей это дом? Куда я зашла? И юноша ответил мне:
– Дом это мой, а все, что в нем, принадлежит тебе. Хочешь ли не хочешь, а будешь жить со мною неразлучно. Помни, что я тебя никому не отдам.
И тут юноша этот освободил меня и выпустил из дома. Я бросилась бежать изо всей мочи и была уже от своего дома близко, как вдруг, откуда ни возьмись, опять на меня выскочила собака и преградила дорогу к дому. И опять явился мне тот дивный юноша.
– Куда ты так бежишь? – спрашивает, – ведь, ты без меня зазябнешь!
Тут он подал мне большую турецкую шаль, закутал ею и сказал:
– Помни же, ты никому, кроме меня, принадлежать не должна! Я везде буду с тобою.
На этом я проснулась.
После этого сна, через некоторое время, приходит к моему мужу целовальник и предлагает ему купить у него образ Спасителя благословляющего, в серебряной ризе. Образ этот был ему заложен, да так и остался невыкупленным. Находясь под впечатлением сна, я упросила мужа купить мне этот образ… Не могу я, грешная, изобразить словами, с какими чувствами приняла я на руки этого Спасителя! Облила я Его слезами, отслужила перед Ним молебен, поставила Его в киот и молилась Ему с необыкновенным чувством и умилением.
Вскоре после этого, сижу я в сумерках у себя в комнате, куда я имею обыкновение уединяться на молитву, и только что хотела, заперши дверь, молиться, как в дверь ко мне постучал муж.
– Поди, – кличет, – ко мне!
Я отперла дверь, а он мне и говорит:
– Укладывайся и сейчас собирайся ехать в Тулу! Почему? Зачем? – с такими вопросами нечего было к нему и обращаться: таков уж был у него характер – надо было безмолвно исполнять его желания.
Когда мы приехали в Тулу, муж объявил мне, что он желает мне продать деревню, в которой мы живем. У меня никакой собственности не было. Была я бедная девочка, и всего моего достояния было что одни розовые щеки, длинная русая коса да большие черные глаза.
В одну неделю дело с продажей мне деревни было в Туле покончено, и мы благополучно вернулись домой.
На другой день все крестьяне, с бурмистром во главе, явились ко мне на поклон с разными приношениями. Трогательно было видеть, как все они бросились на колени, упали моему мужу в ноги и благодарили его за то, что он их отдал мне, а не другим наследникам, к которым они боялись попасть в руки после его смерти. Мой старик прослезился при виде их чувств к нему и ко мне. Отпустив крестьян, он остановил бурмистра и велел ему немедленно выпроводить из деревни ту женщину, которая меня, было, хотела отравить, дать ей паспорт и строго наблюсти за тем, чтобы и духу ее близ дома не было.
Однажды я сильно простудилась; в ногах появился ревматизм; боль была невыносимая; ноги свело, и на них сделались точно бугры. Восемь недель я не вставала с постели. Лечили меня доктора, но пользы от лечения никакой не было.
Во время этой болезни я видела сон: будто, я в каком-то незнакомом городе лежу больная и слышу в городе этом какое-то смятение; в то же время мне слышится духовное пение, которое приближается ко мне все ближе и ближе… Вижу я и народ какой-то.
– Что это за смятение и пение? – спрашиваю. M не отвечают:
– Образа несут!
Я горько заплакала, что не могу видеть крестного хода, и со слезами взмолилась:
– Господи! хоть бы мне кто-нибудь дверь отворил, чтобы мне посмотреть на это!
В то же мгновение крыша надо мною исчезла, и я очутилась на открытом воздухе. Пение же, слышу, все приближается. И стала я с умилением молиться. Вижу: вносят ко мне хоругви, а за ними – образ Спаса Нерукотворенного, Которому меня поручила на смертном одре моя покойная мать. Я спрашиваю:
– Какой нынче праздник?
Ко мне подходит какая-то женщина в покрывале и говорит:
– Спас Преображения!
И вслед за этими словами женщина села мне на больные ноги и крепко в них уперлась руками. Я закричала:
– Голубушка, что ты? У меня ноги больные!
– Полно тебе лежать! – сказала мне эта женщина, – я тебе твои ноги вылечу.
– Кто ты? – спросила я ее.
– Я – “Взыскание погибших!” – ответила Она и скрылась.
Эту ночь я спала очень покойно и, проснувшись, почувствовала совершенное облегчение от своей болезни.
После этого чудесного видения, я отслужила молебен Матери Божией, написала икону “Взыскание погибших” и поставила ее в зимней оранжерее, между цветущими деревьями. В эту оранжерею ход был прямо из моего кабинета, и я всякий день, при захождении солнца, хаживала туда молиться и всегда получала великое утешение…
И еще видела я сон: будто, стою я у окна в своем доме, и передо мною с неба спала какая-то длинная картина… Чей-то голос сказал мне:
– Эта картина с неба спала к тебе.
Я стала ее рассматривать и вижу, что на ней красками нарисовано пылающее в огне сердце.
И после этого, я увидала себя в доме умершей моей матери, а кругом дома – пожар страшный, и я с этого пожара таскала огненные бревна. И опять я вижу, что с этого пожара я в испуге вбегаю в дом к матери, но мать меня встречает и в дом не впускает. А их одной комнаты этого дома я слышу стон моего мужа…
И спрашиваю я мать:
– Что это значит, что вы меня не впускаете?
– Здесь – муж твой! – ответила мне мать, – ты его уже больше не увидишь.
Я рвусь к мужу, плачу… И, вдруг вижу: ко мне подходит откуда-то мой умерший брат, подает мне черный креп и велит мне им убирать мою спальню.
– Господи! – закричала я, – куда мне теперь себя девать? Куда бежать?
И вбежала я в какую-то большую пустую комнату. В комнате этой, смотрю, стоит большой, длинный стол, покрытый белой скатертью, а на нем множество ночников, доверху наполненных маслом, и в них – белые фитильки. И вижу я: сидит за этим столом какое-то духовное лицо – старец, убеленный сединами. Я боюсь взглянуть на этого старца и издали вопию к нему:
– Господи! Да, что же это со мною делается? Когда же мне будет лучше?
– Когда зажжешь ты все эти семь светильников, – ответил мне старец, – тогда тебе будет хорошо!
Вскоре после этого сна, мне было что-то вроде видения, необычайного и страшного.
Ездила я в город, в женский монастырь, где имела обыкновение часто молиться перед чудотворной иконой Ченстоховской Божией Матери. Вернулась я из города в сумерках и прилегла у себя на диване. Я не заснула, потому что ясно слышала в соседней комнате разговор мужа с моим братом, но внезапно впала в какое-то необычайное состояние. И вижу я: сижу я у себя в кабинете, и, вдруг, поднялась страшная буря. В мгновение ока крышу с дома сорвало, а меня подняло на воздух. А буря, смотрю, несет по воздуху леса, дома, скот, людей… Я пришла в неописуемый ужас, закрыла лицо руками и кричу:
– Господи, прости мои прегрешения!.. Господи, что же это делается?
И какой-то голос ответил мне:
– Конец миру – Господь идет! Брось грешить, беги к Нему навстречу!
Я подняла голову и вижу: сходит Господь с воинством небесным… И тут раздалось такое пение, что я, грешная, ни описать, ни выразить не могу… И поднялась я на воздух навстречу к Нему, и со мною – многое множество людей вознеслось на облаках воздушных… И нижу я: какие-то светлые мужи стали расставлять, как бы, столы.
– Что это, – спрашиваю, – батюшки?
– Господь судить будет весь народ! – ответили мне эти светлые мужи.
От страха я очнулась, вскочила с дивана и в ужасе бросилась к образам молиться.
После этого грозного сновидения я стала более обращать внимания на свою духовную жизнь: танцевать бросила, хотя мне было еще только двадцать пять лет; прекратила есть скоромное по постам и постным дням…
Видно, этим образом угодно было Господу обратить меня на путь истинный.
В скором времени я опять вижу сон; кто-то повелевает мне строить дом. Голос говорящего я слышу, а самого его не вижу. Я, будто, спешу начинать закладывать постройку; занесла огромное строение, и сама удивляюсь, как скоро у меня идет эта постройка. Через несколько дней у меня уже и фундамент был выложен… В постройке этой мне помогали какие-то духовные лица. Когда же стало выводиться самое здание, то оно оказалось красоты неимоверной. Работала я над зданием этим с великою тяжестью и усталостью, но душа моя испытывала восторг неописуемый. И вот, когда я ходила около возведенной мною постройки, ко мне, вдруг, вошел тот же юноша, который когда-то, в сонном видении, одел меня шалью. Подошел он ко мне и стал любоваться постройкой, а затем говорит мне:
– Поди, посмотри у себя на дворе: что там делается?
Я взглянула на двор и вижу: половина двора у меня засеяна рожью, и рожь эта уже поспела. И дивлюсь я, какая это и откуда взялась рожь? Растет она, смотрю, кустами и такая, какой я никогда не видывала. Посреди же ржи этой стоит один колос выше всех, и на этом колосе еще несколько колосьев.
– Что это за рожь? Что это за колос удивительный? – спрашиваю я юношу.
– Этот колос, – отвечает он мне, – имеет в себе семь колосьев, и каждый колос принесет семь колосьев плода, – и все житницы твои засыплются хлебом.
Никого я не могла найти, кто бы мог мне растолковать это сновидение. А, между тем, вскоре после него, мужу моему пришла в голову мысль, что он может внезапно умереть во время одного из припадков своей несчастной болезни и оставить меня на произвол наследников, которых у него было много. Муж сделал на мое имя векселей на сто пятьдесят тысяч рублей, а имения его было восемьсот душ, которые и должны были после его смерти перейти ко мне по этим векселям. Таким образом, в мое распоряжение попала и та женщина, которая покушалась на мою жизнь.
Получив паспорт, она, оказалось, не ушла в Москву, но перешла жить в другую деревню. Как стала она Moeii крепостной, то стала проситься меня видеть; но я, грешница, долго не решалась допустить ее до себя, пока внутренне не примирилась с нею. Но и примирившись сердцем, я не хотела видеться с нею с глазу на глаз, а когда позволила ей придти, то пригласила к себе священника, нашего духовного отца, при котором и должно было состояться наше свидание. Когда она вошла ко мне, то прямо бросилась мне в ноги, схватила их обеими руками, стала их целовать, каясь в своем грехе и заливаясь горькими слезами. Говорила она, что на жизнь мою она покушалась несколько раз и, кроме того, мужу моему подкладывала фальшивые письма, будто бы, писанные ко мне моими любезными; но, к ее удивлению, ни одно из этих писем до мужа моего не доходило, а куда-то они пропадали, хотя она их иногда ухитрялась положить ему в карман…
Я слушала эти признания с болью сердечной.
– Простите ее, – сказал священник, – и Бог грешников прошает.
– Ну, милая, – сказала я. – Господь да простит тебя за мои многолетние мучения, а я тебя прощаю. Напиши себе вольную, а я ее подпишу.
Так я проводила ее и с тех пор больше не видала.
Эта история, однако, не прошла мне даром: я заболела и во время болезни порвала все векселя, выданные мне в обеспечение моим мужем. Причиной тому была развившаяся во мне во время болезни мнительность: мне казалось, что я умру, а мои наследники возьмут да и выгонят старика-мужа и не дадут ему умереть спокойно. Но вскоре Господь помиловал меня – я выздоровела, и мы с мужем спокойно стали жить, предоставив свое будущее воле Божией.
Один год выдался тревожный в нашей тихой помещичьей жизни. В этот год какие-то люди стали поджигать помещиков. Что это были за люди, осталось в точности неизвестным. Говорили про поляков, которые, будто бы, бродили под видом иностранцев по селам и городам, оставляя по себе следы в виде дымящихся пожарищ. Правда это была или нет, того мы не знали, но пожары начались и у наших соседей.
Мы связали все свое добро в узлы, просиживали ночи, не ложась спать, и караулили. Так продолжалось довольно долго. Мы все измучились, каждую ночь и каждый вечер ожидая, что, вот-вот, и над нами разразится несчастие.
Матерь Божия, видимо, сжалилась над моими страданиями и явилась мне во сне. Приснилось мне: будто, я бегу куда-то вон из дому по большой дороге, – а на дворе тьма непроглядная и туман страшный, – и я не знаю, куда бегу. Подбежала я к какому-то лесу, и стал туман расходиться. Тут я увидала: стоит какой-то большой образ, но, за туманом, лика его я разглядеть не могу. Я начала молиться и плакать и во сне говорю со слезами:
– Господи, чей это образ? – угодник ли каком, или Матерь Божия? Спаси меня, грешную, погибаю!
Вдруг, туман предо мною рассеялся, и я увидала образ Божией Матери, и от образа я услыхала такие слова:
– Ежели желаешь, можешь иметь Меня у себя. Я стою в городе, в зале такой-то госпожи.
И мне было вызвано имя этой госпожи.
Я упала на колени пред иконой, плакала, плакала и проснулась вся в слезах.
Я рассказала сон мужу, и он мне посоветовал съездить к этой госпоже в город.
С барыней этой я знакома не была, но когда к ней приехала, то была ею принята очень приветливо. В зале у нее я, действительно, увидала тот же образ Божией Матери, который мне явился во сне, и я узнала, что он именуется “Споручница грешных”. Я попросила отслужить перед ним молебен, а затем и разрешение с этого образа снять копию, что и было мне дозволено.
После этого молебна я стала духом много покойнее; а когда мне доставили копию с этого образа, то надо ли говорить, какую я возымела к нему веру?..
Тем не менее, и у нас начались пожары; сгорел овин; через два дня подожгли ригу. Муж мой заболел своей несчастной болезнью. Скорбь и страх у меня усилились больше прежнего. К счастью, на всю эту скорбь Матерь Божия послала мне в утешение и подкрепление мою сестру и еще одного знакомого с женой, которые при ехали погостить ко мне. С ними я несколько поуспокоилась.
В тот день, когда ко мне приехали эти гости, в соседнем селе был престольный праздник, и все наши были отпущены мною на праздник. В доме оставался один мальчик и брат мой родной, да в кухне – повар и приказчик с женой. Гости мои приехали под вечер, и мы с сестрой и с гостями засиделись до позднего часа.
Когда разошлись, я прошла в свою, спальню и крепко заснула. Заснула и вижу во сне: у меня, будто, на дворе пожар. Я велю собрать дворовых, поднять образа и служить молебен, а сама горько плачу, умоляя Господа показать мне, кто мой злодей. Вдруг, вижу на воздухе показалась кисть, как бы, огромной человеческой руки, и рука эта опустилась и стоит передо мною. Я испугалась.
– Господи! – взмолилась я во сне, – чья это рука стоит передо мною?
– Это – рука Божия! – ответил мне чей-то голос.
И я, в благоговейном ужасе, с трепетом приложилась к этой руке; а рука эта стала подниматься все выше и выше и, вдруг, внезапно опустилась на головы моего приказчика и повара, стоявших неподалеку от меня, рядом друг с другом.
Тут я проснулась в изумлении и страхе, недоумевая, что бы мог значить этот сон.
В эту ночь, пока я спала, поднялась на дворе такая буря, что мои люди, отпущенные на праздник, не могли вернуться домой, и в ту же ночь у нас подожгли кухню, разложивши на ее чердаке целый костер. Я этого не видала, а узнала после, так как брат, увидевши пожар, запер ставни в моей спальне. На пожар выскочили брат с гостем и мальчик-слуга, а сестра взяла образ “Споручницы грешных” в руки и стала молиться. Сбежались на пожар мужики и быстро его затушили, не дав разгореться.
Всего этого я не видала, потому что спала, и когда я проснулась, то все уже было кончено.
Проснулась я, лежу и со скорбью думаю, что значит мой сон. Грустно мне стало. Я кликнула свою девушку, которая тоже на праздник не ходила, и велела ей отпереть ставни. Ко мне вошли брат и сестра и спрашивают:
– Здорова ты?
– А у нас, – спрашиваю, – все ли здоровы? Все ли у нас благополучно? Я какой-то сон необыкновенный видела.
Сестра бросилась меня целовать, заплакала да и говорит:
– Благодари Господа и Божию Матерь “Споручницу”: Они тебя помиловали и спасли!
Тут я узнала, что произошло ночью у нас на усадьбе.
Приехал староста, понаехало много наших крестьян. Я послал за священником, чтобы поднял образа, отслужил молебен и привел бы всех дворовых к присяге. Старосте же я велела наблюдать за лицами: кто как будет присягать? К присяге я и сама вышла. Смотрю: все присягают просто, но когда дошла очередь до приказчика и повара, то с ними невесть что сделалось: они затряслись, как в лихорадке, и, как смерть, побледнели. Это было замечено всеми.
Отслужили молебен, а после молебна староста приступил к приказчику с поваром и ста! их опрашивать порознь, где были эту ночь, что делати. Кончилось тем, что их сковали и отправили в другую деревню, под крепкий караул, до выздоровления мужа. Когда муж выздоровел, и дело разобрали, то одного из них отдали в солдаты, а другого сослали на поселение.
И на этом, благодарение Богу, покончились все пожары, как у нас, так и у наших соседей.
Напала на меня одно время такая грусть, такая тоска, что я не знала, куда мне от нее деваться. Время было зимнее, и я поехала кататься в санках; но и это не помогло. Я вернулась с теми же чувствами, с какими и выехала. Велела я в своей оранжерее зажечь все разноцветные фонарики и пошла любоваться красотой ярко освещенного зимнего сада. Цвела в то время камелия, цвели и многие другие деревья и между ними – огромная датура, на которой было тридцать семь цветков. Что за удивительный был тогда аромат в этой оранжерее!.. Походила я по аллее из камелий и села в своей беседочке на диванчик, на котором обыкновенно сиживала.
Взяла я в руки образ “Взыскание погибших” и стала с умилением смотреть на него; и чем дольше я на него смотрела, тем в большее приходила умиление. Я не могу сказать, молилась ли я тогда, или сидела в полузабытьи, но только не спала. И в этом состоянии умиления я ясно увидела, что пришла я, будто бы, в Белевский женский монастырь, перед вечерней. В церкви никого нет. Я стала возле клироса и начала молиться. И вижу я: из северных дверей алтаря выходит какая-то белокурая девушка в подряснике, проходит тихо мимо меня и пристально на меня смотрит.
– Голубушка, – спрашиваю я ее, – скажи мне: вечерня еще не кончилась?
– Нет, – ответила мне девушка, – не начиналась!.. А ты что – иль пришла сюда местечка себе искать? – спросила она меня и, не дожидаясь ответа, сказала, – вот, и я себе местечка ищу.
И с этими словами девушка эта вошла в северные двери другого алтаря. Потом, вижу, выходит она опять из тех же дверей и говорит мне:
– А много нужно нам тобою места! Указала мне рукой на уголок и промолвила:
– Вот, здесь и займем мы с тобою немного местечка и будем с тобою жить.
Тут меня разбудил голос моего мужа, звавшего меня к себе, и видение кончилось.
Мое забытье продолжалось только одно мгновение, но так знаменательным показалось мне виденное, что я рассказала его своей тетушке, у нас тогда гостившей.
– Долго ли коротко ли, – сказала мне тетушка, – а, видно, быть тебе в монастыре!
Да так мне и самой тогда показалось.
В ту же ночь, когда я уже легла спать, я увидела во сне: пришла я, будто, в какой-то неизвестный мне дом и вижу в нем покойную мать, которая очень хлопочет, убирает дом и готовит кушанья, а на меня никакого внимания не обращает… Я долго на нее глядела, да и говорю:
– Маменька, что же это вы меня не приласкаете?
Мать мне ничего не ответила, и я горько заплакала. Но и на слезы мать не обратила внимания, а продолжала заниматься уборкою дома.
Когда она кончила этим заниматься, то обратилась ко мне и говорит:
– Ну, теперь я все покончила и более к тебе возвращаться не буду. Ты думаешь, мне легко было приходить к тебе такую даль?
Сказав это, мать моя подошла ко мне, поцеловала меня, перекрестила и покрыла чем-то голубым, обшитым золотой бахромой.
– Чем это вы меня, маменька, покрыли? – спросила я.
– Омофором, – ответила она и стала подниматься на воздух.
Высоко поднялась она и скрылась на небе.
С тех пор, действительно, я уже не видела во сне своей матери, тогда как прежде она мне являлась часто, предостерегая меня и наставляя в разных случаях моей жизни. Вместо явлений матери, я с этого времени стала слышать чей-то голос, руководящий мною.
Не более месяца прошло с этого сна, как мне вновь приснился все тот же юноша, который мне и раньше являлся в сонном видении. В этот раз он, будто бы, с какой-то особой властью явился в мой дом и стал все ломать в доме: сломал часы, мебель, рояль и стал все выкидывать вон из дома; затем схватил моего мужа и запер в комнату, приставив к ней караул и запретив пускать к нему кого бы то ни было… Я стала плакать и просить этого юношу не мучить моего мужа, но он грозно мне сказал:
– Помнишь ли, что я несколько раз к тебе являлся и говорил, что ты никому не должна принадлежать, кроме меня? Ты меня все гнала от себя; теперь я сам к тебе пришел и уже без тебя не уйду и везде буду с тобою.
На другой день после этого, сна, вечером, сели мы все чай пить. Вдруг, муж мой стал хрипеть и покатился без сознания со стула на пол. Бросились за священником, поскакали за доктором. Привезли доктора, пустили кровь и привели мужа в чувство; но ног муж мой лишился – их разбил паралич. После удара он прожил две недели и умер.
Когда похоронили моего мужа, я не в силах была оставаться в нашем доме и уехала на время в Бе-левский монастырь, где наняла себе келью и жила в ней, пока велось дело с наследниками мужа, от которых мне много было скорби; но Господь послал мне добрых людей, которые меня избавили от всех забот и хлопот по наследству.
Еще сорока дней не вышло покойному мужу моему, – пришла я, от всенощной в свою монастырскую келью и легла спать… В деревне своей я все еще жить не могла и, по милости матушки игумений, принявшей во мне сердечное участие, проживала в монастыре… Только я легла в постель и стала засыпать, как увидела во сне, что меня кто-то будит и говорит:
– Что ты спишь? У мужа твоего добрых дел недостает!
Я, будто, повернулась на этот голос и вижу: стоят перед моей постелью два светлых юноши в белых одеждах и держат в руках весы…
– Видишь, – говорят, – весы перевернулись? Добавляй скорее!
Я проснулась в трепете, бросилась к Матери Божией и стала Ей молиться, прося Ее научить меня, что делать, чтобы спасти душу мужа. И напала тут на меня такая тоска, что я уже заснуть не могла и всю ночь провела в страшной душевной тревоге.
Утром я пошла к матушке игумений, рассказала ей все подробно и просила совета, как поступить мне, что делать. Игумения посоветовала удвоить милостыню, и я, сколько было можно, всюду рассылала и раздавала; но, видно, всего это было, к моему горю, мало, потому что непокойно было мое сердце. Тут приехала ко мне тетушка, и тоска моя стала меньше меня тревожить; но, все-таки, сердце не было покойно…
И приснился мне уже сам покойник. Иду, будто, я в нашей деревне по улице, недалеко от церкви, и вижу, что мне навстречу идет какой-то человек, по походке – мой муж, но верно узнать не могу, потому что лицо его чем-то закрыто. Я спрашиваю его:
– Кто ты?
Он мне ответил:
– Это я.
– Что ж у тебя, – спрашиваю, – лицо-то закрыто?
– Я свету не вижу, – отвечает, – и никто мне его открыть не может, кроме Матери Божией. Попроси Ее обо мне!.. Да, еще есть у тебя мешочек с деньгами – раздай его! Он лежит у тебя в деревне, в комоде, во втором ящике.
Я проснулась и долго думала об этом сне.
Усилила я молитву о муже, но денег, знаю, у меня нет не только в деревне, но и при мне: после смерти мужа я осталась без гроша, и добрые люди помогли мне его похоронить, дав взаймы денег. Но, все-таки, сон этот не выходил у меня из головы: а времени до сорокового дня уже мало оставалось.
Я рассказала сон своей тетушке, а она мне и говорит:
– Ты веришь снам – поверь и теперь: съезди в деревню, погляди в том комоде, где он тебе велел!
Послушалась я тетушкиного совета и поехала в деревню. Велела отворить дом, открыть ставни… В деревне, во флигеле, жил мой брат. Я взяла с собой брата и вошла в дом, в ту комнату, где стоял красный комод. Отворила я второй яшик и, действительно, нашла мешочек с деньгами. И тут я вспомнила, откуда он у меня взялся: у меня одно время завелась страстишка копить серебряные пятачки и гривеннички, и я их собирала в этот мешочек, а потом о нем забыла. Стала я считать деньги, и оказалось, что в мешочке этом набралось пятьдесят рублей.
В сороковой день я все деньги раздала.
Через три дня после сорокового дня мне во сне опять явился мой муж, но уже с лицом открытым и очень веселым. Подал он мне тот же мешочек и говорит:
– Ну, теперь возьми его! Спасибо тебе, теперь он мне больше не нужен – довольно с меня.
И с этих пор я мужа своего уже более не видала.
Прошло со смерти мужа несколько времени; наступила весна; я стала ездить в деревню наблюдать за хозяйством; наступал праздник великого дня Пасхи… Опять увидела я знаменательный сон; сижу я, будто, в каком-то доме и слышу громкий голос, который повелительно говорит мне:
– Иди за мной!
Не видя никого, я пошла за этим голосом и шла куда-то далеко полем. Вижу вдали церковь. Подхожу к ней ближе, смотрю: церковь старая, без окон и без дверей, грязная, неоштукатуренная.
– Созижди мне ее! – говорит неизвестный голос.
Я отвечаю:
– Господи, денег нет у меня и не знаю, как за нее приняться!
– Созижди мне ее непременно! – повторил настойчиво и повелительно тот же голос.
Проснулась я и думаю, к чему мне привиделся этот странный сон. Подумала, подумала, да и бросила думать: не всякому же сну верить!
Через неделю опять вижу тот же сон, и тот же голос мне повелительно говорит:
– Иди за мной!
И опять я пошла за этим голосом, и вновь пришла к тому же месту и к той же церкви; но на этот раз около этой церкви, оказалось, лежала громадная груда камня, так что близко нельзя было подойти к церкви. И опять голос сказал мне:
– Созижди мне церковь!
– Господи, – отвечаю, – страшно взглянуть на эту громаду камня!
Повелительно и грозно, в ответ на мои слова, сказал мне голос:
– Перетаскай все эти камни и созижди мне церковь! Да, смотри, непременно устрой!
После того как сон этот повторился, я послала за своим священником, рассказала ему, что видела, и спросила:
– Что, батюшка, эти слова означают?
– Надо, – говорит, – матушка, пригласить отца благочинного: он человек умный и жизни духовной.
Священник привез благочинного. Много мы толковали, и благочинный сказал:
– Может быть, матушка, Господу угодно, чтобы вы обновили вашу церковь: она действительно грязная, неоштукатуренная, да к тому ж и построена она вашими предками, и прах многих из них лежит около нее; теперь прах этот попирается всякой крестьянской скотиной. Обновите храм, приведите в порядок семейные склепы – так-то вот и созиждите ту церковь, о которой вы получили повеление.
По общему совету отслужили мы молебен Спасителю и Божией Матери, а благочинный отправил к архиерею прошение о разрешении мне обновить свой приходской храм. Я заказала кирпич, наняла разного рода мастеровых; пришло разрешение от владыки – и с ранней весны работа закипела. Стали штукатурить церковь внутри и снаружи, печники ломать склеп и вновь класть. Образа из церкви перенесли в одну половину моего дома. Навезли тысяч десять кирпича. Работы невидимой рукой подвигались быстро вперед. Явились жертвователи. Тридцать тысяч кирпича пожертвовал кирпичник, у которого я покупала кирпич. Один господин, узнавши, что я обновляю церковь, прислат мне десять золотых… Когда я начала переделывать храм, у меня в платке был завязан один пятиалтынный, – только и было у меня наличного капиталу, – а работ в церкви было произведено на восемь тысяч семьсот рублей.
К первому октября, ко дню нашего престольного праздника, все работы были уже окончены, заново отделан грозивший падением иконостас, – и на самый престольный праздник наша церковь была освящена, а на мне не осталось за работу ни копейки долгу.
Когда были покончены церковные работы, я в скором времени увидела опять сон: будто, я стою в нашей церкви, смотрю и любуюсь, как она стала хороша. Гляжу: из северных дверей подходит ко мне какое-то духовное лицо и говорит:
– Ты думаешь, что ты тут все окончила? Нет! Подает мне маленький образок, показывает в церкви для него место и говорит:
– Воздвигни мне этот образ здесь, укрась его всеми твоими брилиантами и драгоценными каменьями!
И вижу я, что в углу этого образа написан лик Божией Матери.
Сон этот я видела, спустя некоторое время, и второй раз.
Я испугалась, что сразу не послушалась приказания. Послала опять за священником.
– Если так Господу угодно, – сказал мне священник, – то вы этот сон увидите и в третий раз.
Прошла неделя. Опять я вижу во сне, что я стою в нашей церкви, и то же духовное лицо подходит ко мне и спрашивает:
– Что ж ты не делаешь того, что я тебе велел?
– Нигде такого образа не отыщу! – отвечаю ему я.
– Да, сама-то ты помнишь ли его? – спрашивает и с этими словами вынимает и показывает мне три образка.
– Который же я тебе показывал? – спрашивает. Я указала.
– Так воздвигни ж его на этом месте! – сказал он мне и ушел от меня в алтарь, из которого вышел опять и с ним другое духовное лицо… Вижу: несут золотую парчу, а на парче – множество золотой бахромы. Подали они мне эту парчу и говорят:
– Это тебе на образ, в чего недостанет продай свои веши, бриллиантами же своими укрась Матерь Божию.
Я с этим проснулась, и в памяти моей живо запечатлелся виденный образ какого-то святителя и в углу образа – Лик Божией Матери.
Ни у себя, ни в церкви я этого образа не нашла. Искала у соседей, была в городе, во многих домах смотрела, смотрела и по всем церквам, но нигде не нашла. Наконец, после продолжительных поисков, я нашла виденную во сне икону на чердаке нашей церкви между старыми образами. Когда я отмыла эту икону, то на ней оказалась надпись – “Святитель Димитрии, Ростовский чудотворец”. И как же я обрадовалась Угодничку Божиему!.. Обложила я образ этот серебряною ризою, обновила его, сделала на него киот и поставила в церкви на указанном месте, но украсить своими бриллиантами не решилась: боялась, чтобы бабы не выковыряли их своими пальцами, да и жаль мне было расстаться с моим фермуаром, браслетом и серьгами, в которых я лю.била ездить по собраниям. Спрятала я свои драгоценные веши, – носить их, все-таки, не решалась: совестно было, – а расстаться с ними было жаль.
Прости, Господи, мое согрешение!
Несколько времени я берегла у себя свои драгоценности, но совесть моя не была покойна, упрекая меня в том, что я их пожалела для Царицы Небесной. Под конец, я даже не стала держать их у себя, я отдала их спрятать сестре, не сказавши, однако, ей причины, почему не хочу их хранить у себя.
Еще я видела такой сон: будто, я у себя дома задумчиво хожу по комнате. Подняла я голову и увидала, что на диване в этой комнате сидит молодой человек, а на встречу мне идет старичок, по виду духовный. Я ему поклонилась в землю и подошла под благословение, а он мне показывает на этого молодого человека и говорит:
– Не ходи за него, пожалуйста, замуж: еще зима не пройдет, как его не будет.
А я говорю ему:
– Батюшка! я ни за кого не пойду замуж: меня Господь от этого помилует.
Старичок мне показал на балкон и говорит:
– Посмотри, как Матерь Божия молится за тебя!
Я взглянула на балкон, а на балконе, смотрю, стоит Женщина в белом покрывале, поднявши руки к небу.
Я бросилась к двери и закричала:
– Матерь Божия, спаси меня! И с этим проснулась.
Сон этот очень скоро сбылся наяву. Через два дня после него ко мне приехал тот молодой человек, которого я видела во сне, стал мне объясняться в любви и просить моей руки. Я ответила, что я для него стара, но он не унялся и продолжал объясняться в любви, говорил, как давно меня любит, что он влюбился в меня, когда я еще была замужем, а он был юнкером; что с той минуты, как он меня встретил, он не разлучался со мною мысленно… Этот молодой человек так был красив, так хорош собою, что трудно было встретить красоту, подобную его; но характера он был такого буйного и страшного, что я в ужас пришла от его предложения. Можно сказать, что я поневоле вспомнила свой сон и успокоилась при мысли, что меня защитят от этого жениха молитвы Царицы Небесной.
Но он долго меня не оставлял в покое, и я много страдала от его ухаживайья. Отказывать ему напрямик было опасно, и приходилось действовать с большой осторожностью, чтобы не навлечь на себя его необузданной ярости в случае отказа. Все родные и знакомые боялись за мою жизнь, так как он всегда с собою носил кинжал, и ему ничего не стоило лишить меня жизни. Наконец, помолившись Царице Небесной, я собралась с духом и решилась прямо ему отказать. Отказала я ему ласково и прибавила, что я дала клятву ни за кого не выходить замуж. К удивлению моему, он принял отказ мой спокойно и стал редко ко мне ездить.
Вскоре после этой истории отвергнутого сватовства, я сидела в сумерках на диване и задремала. Вижу во сне, что я где-то еду, и на меня напали разбойники, и всю меня изранили. Я долго с ними боролась, но не могла справиться, пока не явилась какая-то женщина, которая и спасла меня от них.
– Поди в мою комнату! – сказала мне эта женщина, ввела в комнату и заперла меня в ней.
В этой комнате я увидала большой, полинялый образ Божией Матери, похожий на тот, который мне велено было украсить моими бриллиантами. Я стою, будто, перед ним и плачу. Из дверей выходит старичок, похожий на священника, и берет от меня этот образ. Я говорю ему:
– Батюшка, зачем ты его от меня берешь?
– Тебе, – ответил он сердито, – было велено его убрать, а ты его бросила!
И он взял и унес от меня этот образ.
Очнулась я от этого видения и стала просить Царицу Небесную простить мне мой грех. Тотчас же я этот грех открыла своей сестре, а затем и духовному своему отцу. Вскоре после этого я всеми своими бриллиантами и драгоценными каменьями украсила запрестольный образ Божней Матери, но только не в своей, а в другой церкви.
С этого времени я духом совершенно успокоилась. Молодой человек, которому я отказала, прожил по соседству со мною до осени, потом уехал в Москву и там, в начале зимы, кончил жизнь свою ударом.
В письме моем к сестре, вскоре после смерти отвергнутого искателя моей руки, я писала так: “сегодня я видела во сне: будто я – у себя в деревне, хожу в доме по комнатам: и в доме все пусто и ничего нет. Вхожу к себе в кабинет, остановилась у окна, подняла глаза к небу и с умилением стала благодарить Господа за то, что я вдова, и что мне так легко стало жить вдовою… Вдруг, слышу голос:
– Ты скоро должна выйти замуж!
Я оглянулась на звук этого голоса и испугалась: у стола, вижу, сидит тот молодой воин, который мне несколько раз уже являлся во сне.
– Нет, – говорю я ему, – я никогда замуж не пойду: меня от этого помилует Господь.
– Нет, – возражает он, – пойдешь!
Я стала плакать и просить его, чтобы он избавил меня от нового замужества. Когда я его просила об этом, ко мне вошел какой-то незнакомый офицер.
– Вот, твой жених! – сказал мне воин, взял его и мою руку и надел нам обоим венчальные кольца.
– Смотри же, – говорит он моему жениху, – береги ее, она моя, я тебе ее не совсем отдаю!
А мне сказал:
– Не бойся, иди за него: я везде с тобою буду! И скрылся от меня.
Я проснулась и думаю: что это такое, Господи, мне приснилось?..
На другую ночь я опять вижу сон: будто, я в деревне со своею тетушкой. Опять я стою у окна и смотрю на небо. И вижу я на небе большую звезду. Я кличу тетушку посмотреть на нее… И, вдруг, эта звезда стала тихо катиться по небу…
– Смотри, – говорит мне чей-то голос, – это звезда твоя и катится к тебе!
И скатилась эта звезда с неба в растворенное окно прямо ко мне на колени.
– Смотри же, – говорит мне тот же голос, – держи ее крепче!
Куда потом звезда эта делась, я не помню… Тут я увидала себя на постели, и кто-то подошел ко мне, толкнул меня в бок и говорит:
– Полно тебе спать! Через две недели ты увидишь, как судьба твоя решится!
Я мгновенно проснулась, разбудила тетушку и рассказала ей весь сон. Отметила я этот день и стала ждать, что случится со мною через две недели.
Через две недели и два дня приехал ко мне офицер точно такой, какого я видела во сне. Приехал он в свою деревню из Петербурга, где всегда служил, и пожелал, как сосед, познакомиться со мною. Ему я, видимо, очень понравилась, и он стал часто ездить ко мне из деревни в город, где я тогда жила, а в один из своих приездов сделал мне предложение, которое я и приняла. Мы скоро перевенчались и переехали на житье в деревню.
Три года я была очень счастлива в замужестве: муж мой, что называется, не мог на меня наглядеться, даже сам меня причесывал, а когда я, бывало, приоденусь, то сам наблюдал, чтобы я была одета, как можно более к лицу. Но после, остальные пять лет нашей супружеской жизни всего было – и сладкого, и горького. Было ли так угодно Господу, или злым людям, которые завидовали моему счастью, то Бог весть…
Слава Богу за все!
Последний год моей жизни с мужем мне все необыкновенные сны виделись, а жизнь наяву исполнена была скорбей немалых. Видно, ими угодно было Господу вести всю жизнь мою.
Один раз вижу я во сне: бегу я каким-то полем и прибежала в свой дом в полном изнеможении. От усталости я упала на постель совсем больная, а на мне, чувствую, лежит какая-то ужасная тяжесть. Приподняла я голову, и вижу, что я лежу вся в крестах, и около моей кровати стоят тоже большие кресты… Я заплакала и говорю:
– Господи, что же это? когда же будет конец этим крестам? прими от меня хоть один большой!
И какой-то голос мне сказал:
– Все кресты отниму от тебя, но один оставлю! И все кресты отступили от меня. И тот же голос сказал мне:
– Один крест на груди твоей с тобою останется навсегда!
Взглянула я на себя, а у меня распятие на всю грудь разрисовано разными красками. Я стала его смывать, а оно все ярче делается, и под ним надпись – “Христос на кресте”. И сколько я ни старалась отмыть его с груди моей, но смыть не могла, так и оставила.
Мое второе замужество было, действительно, исполнено крестов любви страстной и крестоносной, и отняты были они только тогда, когда окончилось, через восемь лет супружеской жизни, мое испытание этой любовью. Теперь только один крест остался на груди моей, и этот крест я должна донести безропотно до самой могилы.
Один раз вижу: хожу я, будто, по комнате у себя в доме, а в нем – ни людей, ни мебели – все пусто, а в другой половине дома, точно музыка какая-то играет, и слышится духовное пение красоты необыкновенной. Я долго слушала с невыразимым наслаждением это пение, и стало мне почему-то так грустно, грустно… И сказала я себе: пойду, посмотрю, что там делается. Вошла я в девичью и стала, прислонившись к столу. Слышу чей-то повелительный голос кричит:
– Вон отсюдова! Все – вон!
И вижу я со страхом, что из дому по воздуху пролетела вон вся мебель… Смотрю, из спальни моей выходит кто-то, точно священник, в золотой ризе, а лицо белой дымкой покрыто, и все рукой машет:
– Вон, – кричит, – все вон!
Обратился ко мне, грозит пальцем и говорит:
– А тебе Иоанн Креститель покажет путь, по которому ты должна идти!
С этим я проснулась.
После этого, в непродолжительном времени, я вижу опять сон: стою я у себя на балконе и с грустью, точно осиротевшая, смотрю на небо. Вдруг, вижу, летит через балкон огромная птица и ударила меня больно в лоб, да так, что я покатилась. Постояла я немного и вошла в комнаты. В гостиной, смотрю, сидит мой муж и с ним много мужчин, которые все уже давно умерли. Увидев меня, они все вдруг с испугом вскочили, а муж и говорит мне:
– Что это у тебя за звезда большая? Она нас сожгла!
Я ничего не ответила, молча ушла опять на балкон и стала на то же место, где раньше стояла. Гляжу: летит опять та же птица, и из клюва падает записка, на которой крупными буквами были написаны слова:
“Матерь Божия – твоя Заступница”.
Я подняла записку, положила ее к себе на грудь за платье и пошла в спальню. Стала я у окна, и чувствую грусть неимоверную… А на небе, вижу, поднимается страшная буря, и над землей низко понеслись черные, клубящиеся тучи… В ужасном страхе упала я на колени и стала молиться, а с неба глаз не свожу. И вижу: среди волнующихся туч надвигающейся бури показался лучезарный Ангел и стал бороться с ними, останавливая бурю. И услыхала я голос, громко взывающий:
– Где она, где она?
И тут ко мне в спальню вбежала моя давно умершая двоюродная сестра, схватила меня за руку и увела в другую комнату со словами:
– Этому так должно быть. Успокойся: Архангел Михаил унимает твою бурю!
И тут я увидела мою мать: она готовит кушанья, а я ее спрашиваю:
– Что это вы, маменька, делаете?
– Скоро ко мне гость, – отвечает она, – для него и готовлю. – И в это время я слышу в другой комнате какой-то гул и крик, и в нем различаю голос моего мужа. Я бросаюсь в комнату и вижу, что какой-то необыкновенный человек с бледным лицом тащит моего мужа и запирается с ним в комнату. Я плачу, кричу:
– Пустите, выпустите моего мужа!
И тут, вижу, выходит мой муж: лицо бледное, руки опушены, на себя не похож и еле переступает. Я страшно перепугалась и проснулась. Заблаговестили к заутрени. Это был день св. великомученицы Варвары. Я стала собираться в церковь. Муж спрашивает меня:
– Что ты, как будто расстроена? Иль что во сне видела?
Я ничего ему на это не ответила, сказала только:
– Иду в церковь.
– И я, – говорит, – с тобою.
Сердце мое было наполнено такою горестью, что я глядеть не могла на мужа, боясь разрыдаться. Меня так поразил этот сон, что я, как будто, уже совсем рассталась с мужем моим навеки.
Сон этот я видела в ночь под четвертое декабря, а шестого был праздник Святителю Николаю. В этот день мы с мужем отправились к обедне. От обедни вернулись, сели пить чай. К нам пришла гостья-старушка, коротко нам знакомая. Мы втроем мирно беседовали за самоварчиком. Муж зачем-то пошел в другую комнату, и что-то, гляжу, долго не возвращается. Я и говорю гостье:
– Что это он так долго нейдет?
Встаю, чтобы идти к нему, а он в это время сам приотворяет дверь и идет как-то особенно, а сам бледный, точь в точь, каким я видела его во сне. Он только успел мне сказать:
– За доктором! И упал на диван.
Помчались за доктором, побежали за священником на село, за братом моим, за людьми… Приехал доктор, пустил мужу кровь, уверял меня, что он останется жив, но, к несчастью, мои сны вернее докторов узнают будущее… Оборвалось мое бедное сердце…
К вечеру муж пришел в память и попросил супу. Я подала ему сама, и пока держала тарелку, с ним сделался вторичный удар, он вскрикнул, и четверо суток был без памяти. Доктора от него не отходили, но жизни ему не вернули. Через четверо суток он пришел в себя и пролежал больной еще две недели. Господь сподобил его совершить переход к вечной жизни в полной памяти: он причастился, особоровался и ушел туда, откуда не бывает возврата.
Меня, как мертвую, увезли из дома.
Несколько месяцев я была, как помешанная, и долго еще потом нигде не могла я найти себе места, несчастная!..
Когда Господу было угодно меня помиловать и прекратить мои страдания, я увидела во сне, что будто бы, я у себя в деревне хожу по комнатам. Дверь на балкон открыта. День ясный. Из сада, вижу, идут по аллее две женщины в белых покрывалах; в руках одной – дароносица, у другой – потир. Я вышла к ним навстречу и говорю им:
– Кто вы? Что вам нужно? Что вы несете? Женщина с потиром, которая шла впереди, говорит мне:
– Приступи – исцелишься!.. Посмотри, кто пришел к тебе!
И с этими словами сняла с потира воздух, и я увидала, что в хрустальном потире сидит крошечный младенец, кудрявенький, красоты неземной, и на меня смотрит. Я упала на колени и поклонилась тому Младенцу в землю.
С этим я проснулась, объятая неизреченной радостью.
До сих пор я не могу об этом сне вспомнить без слез…
…Сон этот я рассказала своему духовнику. Он меня поисповедовал и причастил Святых Тайн.
С этого дня я исцелилась от своей болезни. Меня перевезли в деревню, и я стала опять жить в своем доме, о котором раньше мне было страшно даже и подумать.
Вскоре после переезда моего в деревню я опять увидела сон: хожу я, будто, в каком-то чудном саду, и в этом саду стоит огромное дерево с крупными, белыми и черными плодами. Кто-то меня посадил под это дерево и велел мне раздавать плоды, кому захочу. И, вижу я, идет ко мне мой второй муж и подходит такой грустный… Подаю ему один плоде дерева, под которым сидела и говорю:
– Съешь его, прохлади свои уста! Это хорошие плоды, я их берегу для тебя.
А он мне с грустью отвечает:
– Смотри же, не забудь меня!
На другой день я опять вижу сон, что я бегу какими-то лугами и сама не знаю, куда бегу. Прибежала я к какому-то большому дому, вошла в него; прохожу комнату, другую, третью… нет никого в доме. Куда ж это, думаю, я попала?.. Да! – соображаю я, – это, я к архиерею попала… Слава Богу, – думаю, – никто меня не видал!.. Оглянулась я в сторону и вижу: стоит в углу старичок на коленях и молится. Я испугалась и хотела, было, тихонько переступить через порог и удалиться, но меня этот старичок остановил.
– Куда ты бросаешься и мечешься? – спрашивает.
Я упала ему в ноги и говорю:
– Не знаю я куда себя деть?
Проговорила я эти слова, а старичок этот уже, смотрю, стоит на амвоне. Я опять упала ему в ноги и говорю:
– Простите, что я к вам забежала! Он благословил меня и сказал:
– Не мечись из стороны в сторону! – все устроится.
Проснулась я, и взяла меня скорбь: как устроится? что устроится? Да, может ли что меня устроить?..
Рассказала я свои сны кое-кому из близких, и они мне дали совет съездить к старцам в Оптину пустынь.
И решилась я последовать их совету.
Оптиной я не знала, о старцах не имела понятия, не знала, что с ними говорить, даже и помыслить о беседах с ними боялась; но когда услыхала рассказы про великого старца отца Амвросия Оптинского, про любовь его к страждущему человечеству, – я бросилась к нему, под его покровительство, с растерзанным сердцем и измученной душой, с разбитым здоровьем, с жуткой боязнью сойти с ума в тоске по страстно-любимом муже…
С этими чувствами я наскоро собралась и поехала в Оптину пустынь, к старцу Амвросию.
Приехала я в Оптину и тотчас же пошла в скит, где, – сказали мне – живет старец.
Не могу изобразить волновавших меня чувств, когда я подходила к этому святому месту…
Скит во имя святого Пророка и Предтечи Господня, Крестителя Иоанна!..
“Тебе Иоанн Креститель покажет путь, по которому ты должна идти!”
Вспомнились мне знаменательные слова, сказанные мне во сне неизвестным, облаченным в золотую ризу и с лицом, покрытым белой дымкой. Сказаны они мне были еще перед кончиной моего горячо любимого мужа… Неужели здесь совершиться должно их исполнение?.. Сердце во мне билось, как голубь…
Долго я стояла около кельи старца, чтобы хоть сколько-нибудь собрать свой рассеянный ум. Наконец, перекрестилась и вошла в келью.
В келье старца сидело много народа: были монахини, были мирские разного сословия. Я помолилась Богу и поклонилась всем.
Выразить я не могу, какой страх испытывала я, когда сидела в ожидании выхода старца. Меня трясло, как в лихорадке. Я не смела глаз поднять на присутствовавших, думая и чувствуя, что страшней и грешней меня нет никого на свете. Не раз порывалась я уйти вовсе из кельи и даже выходила из нее с намерением более в нее не возвращаться; но точно какая-то невидимая сила меня обратно вталкивала в келью, и я, против воли своей, возвращалась.
Вдруг, в келье зашумели, засуетились; монашенки стали закрывать окошки… Я догадалась, что идет старец. Жутко мне с чего-то стало. Я бросилась в самый отдаленный уголок кельи и села, как преступница какая, дрожа всем телом.
Отворилась дверь внутренней кельи, и в ней показался старец. Все бросились к его ногам, а я не помню, что в это время сделала, помню только, что старец подошел ко мне и спросил, из какой я губернии и уезда. В это мгновение я увидела, что он в мантии, а в руках у него палочка. На голове старца была шапочка, вроде мягкой камилавки. Лицо его было худое, изможденное и очень бледное, и весь он мне показался каким-то неземным видением…
Я была вне себя и продолжала дрожать всем телом.
Тут батюшка обратился ко всем и велел им выйти в другую келью, а мне сказал:
– А ты останься со мною!
И с этими словами запер дверь на крючок.
Сел батюшка на диван и тихо, с кроткой ласкою спросил меня:
– Ну, теперь, раба Божия, сказывай, что тебе нужно от меня!
Голос батюшки проник мне в самую душу. Я упала к ногам его и зарыдала, но выговорить слова не могла. Он положил мою голову на свою руку, а другой рукой накрыл ее, как самая нежная, любящая мать; и долго, долго держал он так свои руки, не отнимая их от бедной головы моей. Старец молчал, и, вероятно, в безмолвии молился обо мне, давая волю моим слезам, пока не иссяк сам собою их невыплаканный источник. Потом батюшка поднял мою голову и стал расспрашивать меня, как я осталась без мужа, каких я лет вышла замуж… Я отвечала, что этого мужа я похоронила второго, что за первого меня родители отдали на тринадцатом году и я с ним прожила двадцать семь лет. Потом я вышла замуж, уже по своему выбору, и со вторым мужем жила восемь лет. Была я немолода, но наружность имела несчастную, которая могла нравиться так, что мне не трудно было утаить мои годы… Батюшка слушал меня внимательно.
– Ну, – сказал он, – пожила ты, А. Н., в свете довольно, повидала всего – хорошего и плохого, радостного и горького, – а теперь пора подумать и о душе своей.
Я опять заплакала, упала старцу в ноги и сказала:
– Батюшка, примите мою душу на покаяние! Я совершенно предаюсь во всем воле вашей.
Батюшка много меня утешал и велел готовиться к исповеди и к святому Причащению.
– Погости, – говорит он мне, – погости у нас в пустыни: тебе спешить некуда, да и не к кому. Будь покойна – я тебя не оставлю. Поди теперь в гостиницу, отдохни!
Приласкал меня батюшка, благословил… И ушла я от него, не помня себя от радости.
Пока я говела, я каждый день ходила к старцу на благословение. Батюшка меня принимал милостиво, но я всякий раз подходила к нему со страхом.
Наступил день исповеди.
Когда старец взял меня на исповедь, то сказал:
– Исповедуй мне все свои грехи. Припомни от самых юных лет и до сей минуты!
Великое и страшное это было для меня испытание! Ох, как тяжко жить на земле грешному человеку!.. Я тяжело вздохнула. Не утаился мой вздох от прозорливого батюшки. Он молча на меня взглянул и стал надевать епитрахиль и поручи… Что было тут со мною, что творилось в душе моей в эти минуты, того словами и передать трудно. Мне казалось, что я сгорю со стыда.
Несчастная, горькая была доля моя в юности! Тринадцатилетняя девочка замужем за пятидесятилетним! Тяжел и страшен был мне крест этот, и я в семнадцатилетнем возрасте без памяти влюбилась в молодого соседа, полковника, который, выйдя в отставку, поселился жить вблизи от нас, в своей деревне. Красивый, ловкий, образованный был он человек, и с первой же встречи в нашем доме мы без памяти полюбили друг друга. Он умер прежде моего мужа.
Ох, как было трудно рассказать это старцу!
Но батюшка уже все провидел и помог мне освободить душу от тяготевшего на ней греха: он сам мне предложил роковой вопрос и затем сам же и промолвил вопросительно:
– Да?
Я закрыла лицо руками и, сгорая от волнения и стыда, бросилась к его ногам и сказала едва слышным шепотом:
– Да!
– Ну, – сказал он, – теперь ты моя дочь духовная, и я тебя никогда не оставлю.
Батюшка обошелся со мною с такою лаской, с такою милостью, что с этой первой моей встречи я привязалась к нему всею моею душою, всем существом моим, и на сердце моем не осталось у меня от него ни одной сокровенной тайны: я видела в нем от Бога посланного мне Ангела-Хранителя, спасающего душу мою многогрешную.
С этого времени я стала часто ездить в Оптину пустынь. Добрый старец понемногу начал меня знакомить с духовной жизнью и, за его святыми молитвами, я постепенно приучилась отставать от суетной, светской жизни, оставляя ее навыки и привычки.
Однажды, принимая меня в своей келье, батюшка услыхал от меня табачный запах.
– Ты куришь! – спросил он меня.
– Простите, батюшка, – сконфуженно ответила ему я, – курю, и не могу с папироской расстаться.
– Курить – беда невелика, – сказал мне старец, – а можешь ли ты добровольно не курить своих папиросок?
– Не могу: без них меня тоска мучает.
– Вот и беда! – сказал батюшка, – в этом-то и грех состоит, девочка! В страсти – грех, а не в куреньи.
Помолчав немного, старец улыбнулся и прибавил:
– Ну, Бог даст, мы с тобою эту страсть победим! Оставшись вдовой, я переехала жить в деревню. Была уже весна. Со мною в соседстве жила моя двоюродная сестра, которая меня очень любила. Зная мою страсть к цветам, она стала уговаривать меня строить вновь оранжерею, чтобы ею привязать меня к месту, и тем заставить меня навсегда остаться жить в ее соседстве. Я склонилась на ее уговоры, купила лесу, наняла подрядчика, и моя постройка пошла скорою рукою.
И вижу я сон: будто, я где-то иду лугами, на которых растут превосходные цветы, а вдали стоит дом. Подхожу я к этому дому, но людей около него не вижу. Вхожу в комнату, в другую – тоже никого нет. Вошла в третью, вижу: стоит большой стол, накрытый белой скатертью, и за ним сидят три лица, а перед ними на столе лежит раскрытая большая книга. Одеты лица эти в монашеском одеянии. Посреди стола – точно игумения, а по бокам – две монахини. Увидев их, я остановилась у дверей.
– Иди сюда! – сказала мне игумения. Я подошла и поклонилась.
– Чего ты скорбишь? – говорит она, – оттого и скорбишь ты, что живешь не на своем месте. Чего ты не идешь в монастырь?
– Состояния не имею такого, матушка, – отвечаю, – чтобы жить в монастыре.
– А какое у тебя состояние? – спрашивает, – видишь ты эту книгу? В книге этой на одну сторону вносят, а на другой записывают, а там и распоряжаются. Сколько можешь, столько и внеси! Не строй оранжереи, брось все!
Тут я проснулась.
Рассказала я свой сон моему духовному отцу. Он посоветовал мне идти в монастырь. Попросилась я у Белевской игумений, но она меня не приняла, и осталась я жить по-прежнему. Приостановила я, было постройку оранжереи; а прошло с этого сна несколько недель, опять начала ее строить… И вот, во сне я услыхала чей-то грозный голос:
– Не строй! – говорит.
Я остановила постройку, и этим вызвала негодование и насмешки своей двоюродной сестры.
Но я на ее насмешки ответила просто и твердо: “Верю я своим снам”!
А тут и подрядчик мои запил и ушел.
Прошло две или три недели. Вернулся мой подрядчик, и я вновь соблазнилась и стала доканчивать постройку оранжереи. Опять слышу голос, говорящий мне во сне:
– Тебе говорю – брось строить! Вот, тебе и экипаж уже готов, чтобы ехать.
Под крыльцом, вижу стоит экипаж, без лошадей, а каких-то два мальчика в белых рубашках, прочищают мне дорогу к экипажу…
Я проснулась и думаю: что это значит, Господи? Что будет со мною?..
Работу я, однако, остановила, и подрядчика разочла.
Двух недель не прошло с этого сна, – явился ко мне покупатель на имение, и я его продала, а сама переехала на житье в город.
Когда я стала жить в городе, то стала чаще ездить в Оптину пустынь, к отцу Амвросию. Узнав, что я еще не бывала по святым местам, он посоветовал мне съездить в Москву, помолиться у всех угодников и чудотворцев московских, приложиться к их святым мощам, а затем побывать в Троице-Сергиевой, в Новом Иерусалиме, в Вифании… Я с радостию ухватилась за этот совет и тот час же решилась ехать. После тяжелой моей жизни эта поездка подействовала на меня так благотворно, что я стала совершенно оживляться.
Когда я была в Вифании, то, мне сказали, что там в лесу живет великий старец, Филаретушка, что к нему ходит много народу, и что даже сам митрополит бывает у него, очень его любит и часто с ним беседует. Со мною были две товарки, с которыми я вместе совершала свое паломничество. Во время путешествия я одевалась по-бедному и всюду, где мы бывали вместе, я их пускала впереди себя, а сама шла за ними сзади. Так было и при посещении нами Филаретушки.
Пришли мы к нему, поклонились ему в ножки и приняли его благословение. Вдруг Филаретушка взглянул на меня, да как закричит:
– Ты зачем живешь в миру?
Я перепугалась. Он посадил моих спутниц, а сам стоит передо мною и кричит:
– Зачем ты живешь в миру? Что ты в своем богатстве валяешься, как свинья в грязи? Все продавай, все тащи на базар! Чтоб у тебя ничего не было!
Потом он стал шутить со мною, обласкал меня, благословил (Может быть, отечески перекрестил; он не имел священного сана) и, отпуская от себя, опять сказал мне серьезно и внушительно:
– Слышала? Все – на базар! Чтоб у тебя ничего не было.
Подал он мне черный крест и прибавил:
– Неси его домой! Будет с тебя и этого, а прочее все – на базар!.. Вблизи от меня живет затворник: поди к нему под окошко, – он скажет, что тебе делать!
Товаркам моим Филаретушка ничего не указывал, а только их благословил.
К затворнику идти я побоялась, потому что час был поздний, а место незнакомое; и расположилась я на волю Божию: что будет со мною, то пусть и будет!
Переселившись на житье в город, я видела сон необыкновенный. Вижу я себя в своем деревенском доме. Входит ко мне какое-то духовное лицо и говорит:
– Идите – вас требуют!
Мне показалось – точно на суд. Я пошла. Вхожу в переднюю и вижу: стоит в ней от потолка до полу большое зеркало, и в этом зеркале я вижу себя, роста большого, красоты невообразимой; платье на мне парчевое, а на голове – венец. И я смотрю на себя и удивляюсь своей красоте. Схожу с крыльца, а на крыльце уже меня дожидаются какие-то двое, чтобы проводить меня, и я вступаю в длинный, темный коридор. По сторонам коридора стоят дети в белых рубашечках и просят у меня милостыни, а я иду и раздаю направо и налево милостыню, пока вижу, что у меня и раздавать-то уже ничего не осталось. И вынула я грудь свою, и стала детей тех кормить своим молоком. И так я прошла весь коридор, а затем вышла на луг очаровательной красоты. По лугу этому, вижу, течет река. Я села на берегу. Смотрю: нет на мне моей парчевой одежды, а взамен ее – рубище. Дети опять тут, сидят со мною рядом и просят есть, а мне им дать нечего. И горько мне стало, что дать мне им нечего. Раскрыла я тут на себе свое рубище, и вижу, что все в ранах тело мое, а дети, увидев мои раны, припали к ним и стали их лизать…
Тут я проснулась.
На другой день опять вижу сон: лежу я, будто, у себя на постели, и подходит ко мне какой-то послушник.
– Что же это ты, – говорит он, – все еще до сих пор не готова? Потребует тебя царь, а у тебя одежды нет, всю черви поели!
С этими словами он подошел к комоду, выбрал из него все, что там было, и унес.
После этого сна, через два дня я заболела горячкой и несколько недель находилась между жизнью и смертью.
Когда я уже стала понемногу оправляться, то опять увидела знаменательный сон: подхожу я, будто, к своему образному киоту и начинаю перед ним молиться с необычайным умилением. И когда я, помолившись, стала прикладываться к образу Божией Матери, то Она стала вдруг как живая, сняла с Себя ризу и ею меня покрыла. Сколько времени я под нею лежала, не помню. После того я увидала себя в каком-то незнакомом доме, разделенном на две комнаты. В одной из этих комнат я вижу своего мужа. Подходит он ко мне п говорит:
– Полно тебе здесь горе мыкать: пойдем к нам! И в ответ на эти слова мужа чей-то голос возразил:
– Нет, она к тебе не пойдет: ей еще надо дом достроить, который она начала уже много лет тому назад!
– Да, я его уже кончила, – ответила я.
– Нет, – сказал голос, – не кончила! Пойдем, я тебе его покажу!
Я пошла и вижу: стоит дом и не достроен; но я его узнала, узнала и то, что строить его я начала еще при первом муже. Удивило меня, что тот же сон я видела уже раз, после смерти своего второго мужа. Тогда я видела, что дом этот доведен до крыши, но крыши еще нет; а теперь уже он стоял совсем оконченным вчерне, только без окон и без дверей, которые надо было доделать. И такой красоты был дом этот, что я воскликнула в восторге:
– Господи! Дострою я его непременно и перейду в него жить.
Мой муж, вижу, стоит поодаль и говорит:
– Что, что ты делаешь? На что тебе столько домов?
– Зимой, – отвечаю ему, – буду жить в одном, летом – в другом, а третий забью.
Тут я оглянулась и увидала, что мой белевский дом стоит с закрытыми ставнями и заколочен… И опять я увидела иной дом, разделенный на две половины. Заглянула я в его стеклянную дверь, и за ней вижу большую комнату, а в ней много народу, и какой-то чудной красоты юноша ходит и учит народ… И говорит мне чей-то голос:
– Этот юноша – Тихон Задонский. Он еще юношей в семинарии проповедывал слово Божие.
Ушел юноша, а народ все стоит. Вдруг, выходит к народу архиерей, в полном облачении. Я спрашиваю:
– Кто это?
– Он же! – ответил мне голос. Подошел архиерей ко мне и говорит:
– Иди ко мне – я тебя вылечу!
Я протянула к нему свои руки для принятия благословения. Он благословил меня и повторил:
– Не забудь же, приходи ко мне!
Я ушла в другую комнату, где не было народу, и горько заплакала. Опять ко мне подходит мой муж и говорит:
– О чем ты плачешь? Я ему отвечаю:
– Как мне не плакать? Святитель Тихон Задонский велит мне к нему ехать, а у меня денег нету.
– Все будет, – говорит мне муж, – мы тебя сами проводим.
Я проснулась. И стало мне грустно, что нет у меня денег на поездку к Тихону Задонскому, и что не может, таким образом, поправиться мое здоровье.
Я написала батюшке Амвросию о моем сне и о своей скорби, и вслед получила от его имени ответное письмо: “Батюшка благословляет, не отлагая, ехать в Задонск”. – “Как тут быть? – подумала я, – а ехать мне все равно не с чем”.
Прошло два дня. Сижу я в сумерках у себя одна дома и размышляю: ежели угоднику Божиему угодно будет принять к себе меня, грешную, то он даст мне возможность ехать… Вдруг, слышу, колокольчик!.. Входит ко мне один знакомый и говорит:
– Я слышал, что вы собираетесь в Задонск, и скорбите, что нет денег. Я вам их привез.
И дал мне, сколько было нужно, на поездку. А человек он был маленький, сам жил только на небольшую пенсию.
Я сейчас же наняла лошадей, а на другое утро полубольная, еще не оправившаяся от перенесенной горячки, уехала к Святителю.
Невозможно передать, с какими чувствами припала я, по приезде своем в Задонск, к мощам великого угодника Божия! Как к живому, я бросилась к нему, излила перед ним всю свою скорбь, точно внутренность мою всю перед ним вывернула. Я так плакала у его раки, что гробовой иеромонах обратил на меня внимание, снял пелену, покрывающую мощи угодника, и покрыл меня ею.
В Задонске я совершенно выздоровела и душою, и телом…”
На этом рукопись “монашествующей сестры” прерывается. Кто была эта раба Божия? Имя ее не убавит и не прибавит ничего к тому человеческому документу, который я только что занес на страницы своих записок. Двойная жизнь!.. Как удивительно сплелось в ней зримое и незримое, потустороннее и здешнее! Сама составительница этой рукописи не могла бы определить, какой она больше жила жизнью – той ли, которая продолжается за гранью, именуемой смертью, или той, которая начинается здесь, на земле, служит подготовлением к смерти…
– Ну что? – спросил меня “премудрый”, – прочли вы мою рукопись?
– Прочел.
– Что вы скажете о ней?
– А вы?
– Умрем – узнаем! Так думаю и я…
А ты как думаешь о ней, мой читатель?
1 марта
Блаженная кончина оптннской жилички. – Отец Амвросий и его утешение скорбящему монаху
Сегодня окончила дни своей земной жизни одна из оптинских жиличек, Татьяна Герасимовна Ананская, кроткое и благоговейное создание Божие, истинная послушница и преданная дочка наших старцев. Происхождение ее мне неизвестно. Знаю, что она и сестра ее, Елена Герасимовна, давние оптинки, выселившиеся из миру и, по любви к монастырскому безмолвию, укрывшиеся под святой покров Оптиной пустыни. Со дней установления в Оптиной старчества такие старческие дочки никогда не переводились в старческих хибарках, пользуясь гостеприимством обители то в ее в гостиницах, то в отдельных, принадлежащих ей, жилых флигелях за монастырской оградой. Поселялись сперва на время, а там и жизнь кончали, прожив ее незаметно, как день один, на святой земле Оптинской.
Перед кончиной Татиану Герасимовну постригли в схиму.
– Танюшка, матушка! – говорит умирающей сестра, – помолись обо мне, не забудь меня, когда предстанешь пред Престолом Божиим.
– Если стяжу дерзновение, – ответила та, – не только о тебе, но и о всех знаемых буду молиться. Кланяйся всем и проси у всех молитв за меня, грешную!
С молитвой на устах и перешла в жизнь вечную оптинская праведница. Умерла, как уснула…
Как удивительно просто свершается здесь переход от временной жизни в небесную вечность! – ни слез безутешных, ни жгучего горя: точно переезд с одной квартиры на другую. Пожил себе человек, сколько Бог положил сроку, и – с Богом: нечего тут заживаться! Там много лучше…
“Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его” (I Кор. 2, 9).
– И что это за прекрасная страна, из которой никто назад вернуться не хочет? – С таким полувопросом обратился раз ко мне один из старейших оптинских монахов отец Нафанаил ((Жураковский) скончался четырнадцатого декабря 1917 года), помнящий еще великого старца Макария (Скончался седьмого сентября 1860 года) и не менее великого архимандрита Моисея.
– Ах! – продолжал он со вздохом, – какая это прекрасная должна быть страна! Только как угодить-то туда нам, грешным? Задумаешься так-то иной раз и заскорбишь, чувствуя свою недостаточность: жил, жил монах всю жизнь, а что нажил? С чем предстанешь пред Судией – Искупителем? Одни грехи и никакого исправления!..И вспоминается мне, мой батюшка, как я однажды пришел с такими мыслями к покойному старцу Амвросию, расстроенный и огорченный ими до крайности…
– Ну, – спрашивает меня старец: сказывай, отец Нафанаил, как живешь, как храмину свою духовную воздвигаешь?
– Что, – говорю, – батюшка, одно горе! Кирпич один заложишь, а два вытащишь; камень вмажешь, а три вывалятся: какая это постройка – мусор один! впору только плакать!
– А ты не скорби, – говорит батюшка, – не отчаивайся! Послушай-ка, что я тебе расскажу! – Жила-была одна барыня – помещица, и очень она чистоту на своем дворе любила. Как встанет утром, так прямо к окошку: на двор и смотрит, все ли на дворе у нее чисто. Дворня привычку эту ее уже знала, и уж, конечно, потрафляла… И вот, братец ты мой, случись раз такая беда: заболела барыня и что-то долго проболела, а холопы-то ее за это время возьми да и запусти чистоту дворовую: и посреди двора воздвиглась немалая мусорная куча… Как встала с одра болезни барыня, так сейчас к окошку…
– Это, – кричит, – что? Прибрать сейчас, убрать, чтобы глаза, – говорит, – мои не видали этого безобразия! Сейчас все свезти под гору в яму!
Стали барынино приказание выполнять, а старик-приказчик, человек опытный, и говорит рабочим:
– Вы кучу-то мусорную поаккуратней убирайте: что тоже, отбирайте к сторонке, а что негоже, то только и везите под гору…
– И что ж ты, отец Нафанаил, думаешь? – сказал мне батюшка Амвросий, – как взялись за кучу-то, так мало чего и под гору пришлось свезти: то тоже, это тоже, а мусору-то почти что ни чего и не оказалось… Видишь, братец ты мой, – добавил батюшка, – и тебе о твоем мусоре нечего отчаиваться: посмотреть на тебя – мусор мусором; а начнешь тебя разбирать, глядь, гожее-то что-нибудь и отберется… – Так-то, С. А., умели старцы наши утешать и ободрять отчаивающегося человека!
Этот отец Нафанаил – один из столпов оптинского благочестия, живая хроника оптинская за сорок с лишним лет ее жизни, – от конца шестидесятых годов до дней текущих, но погружаться в воспоминания при посторонних не очень любит. И то мне в честь, что он обронил для меня одну из жемчужин с неписанных страниц своей сердечной летописи.
Погребение оптинскон жилички. – Смерть Николая-золотаря. Надежды, сю вызванные
Бренные останки схимонахини Татианы сегодня предали земле. “Земля еси, и в землю отыдеши”! И мы все пойдем туда же…
Страшно усталый вернулся я домой с погребения: часы, литургия Преждеосвященных Даров, отпевание… Служба началась в восемь с половиной часов утра, а окончилась в час пополудни.
Дверь на парадном крыльце открыл мне наш мальчик, служащий на побегушках.
– А завтра, – объявил он мне радостно, – у нас опять похороны!
– Кого хоронят?
– А нашего золотаря, Николая. Николай-золотарь, крестьянин соседней с Оптиной деревни Стениной, оптинский ассенизатор. Все время он был на ногах и работал, и только вчера вечером, хотя уже и больной, но без посторонней помощи, пришел из своей деревни и попросился лечь в оптинскую больницу.
Сегодня в пять часов утра его уже не стало. Хоронить его будут рядом с нашей усадьбой, на кладбище “Всех Святых”. Тяжела была его работа, но за то и удостоена великой награды: кости трудника лягут рядом с мощами многочисленных оптинских праведников, почивающих на этом кладбище в ожидании последней трубы архангельской.
За великое счастье, за честь безмерную считаем и мы, оптинские гости, такое для нас благодатное соседство. Придет время, пробьет смертный час, и, если изволит Господь, пойдешь стучаться во врата небесного чертога, уготованного оптинской праведности…
– Кто там? спросит небесный привратник.
– Ваш, – ответит душа моя, – около вас на земле жил я, питаясь от крох, падавших со стола господий моих.
Неужели ж не признают меня тогда за своего оптинские небожители?..
4 марта
“Спиритуалист-догматик”
Не успел я напиться чаю, как прислуга мне доложила:
– Вас какой-то господин спрашивает.
– Какой господин?
– Не знаю. Он сказывает, что его к вам прислал отец Анатолий. Он желает лично вас видеть.
– Где он?
– На кухне.
Отец Анатолий, иеромонах нашей пустыни, был последние годы жизни старца отца Амвросия его келейником. Теперь он старчествует сам, как один их духовников обители и, по вере народной, как законный и естественный преемник старческой благодати почившего великого оптннского старца.
Очень не хотелось мне принимать этого незнакомого господина, но упоминание имени отца Анатолия заставило меня пойти к нему и узнать, чем я могу быть ему полезным.
Я вышел в кухню. У притолоки входной двери в кухню, смотрю, стоит какой-то средних лет человек. Одет по-городскому, до вольно прилично, хотя и не совсем опрятно: крахмальный стоячий воротник более чем сомнительной свежести; яркий цветной галстук, грязноватый, но не без претензии на щеголеватость; довольно поношенное пальто; в руках шапка под барашек… Лицо как будто нерусское; худощавый, скорее худой; под нижней губой тощая рыжеватенькая бородёнка с полубачками на щеках; глазки небольшие, востренькие, беспокойные – так и бегают во все стороны, избегая взгляда собеседника. Общий вид “господина” – не то лакея, не то разъездного приказчика, что на еврейско-русском жаргоне кличут теперь “вояжерами”.
– Что вам угодно? – спрашиваю.
– Меня к вам прислал отец Анатолий. Не можете ли вы мне помочь в одном деле?
Я подумал было: проситель пособия на выезд из Оптиной. Потянулся в карман за кошельком. Он заметил мое движение…
– Нет-с, не то-с: я в деньгах нужды не имею-с, – заявил мне незнакомец, – я нуждаюсь в вашей помощи совсем для другого.
– Для чего же, именно?
Он оглянулся на народ в кухне, как бы стесняясь при нем говорить, а затем, как в воду кинулся, выпалил в упор всей компании:
– Мне житья нет от бесов!
Я даже отшатнулся: не сумасшедший ли?..
– Вы не извольте сомневаться, – успокоил он меня, – я в здравом уме-с и в твердой памяти и истинную правду вам говорю-с. Вот, теперь я живу в Белеве, а полиция приказывает выезжать. Приходится выезжать; а куда выезжать? в Козельск? Но и из Козельска меня полиция выпроводит, если вы мне не изволите оказать просвещенного покрови-тельства-с.
– Позвольте, – возразил я, – по словам вашим, выходит, что житья вам нет не от бесов, а от полиции: при чем же в злоключениях ваших бесы?
– А притом-с… впрочем, я еще не имел чести вам отрекомендоваться; дозвольте представиться: спиритуалист-догматик, Смольянинов, исцеляю всякую болезнь наложением рук и молитвою, а, главным образом, изгоняю бесов из бесноватых. Вот эта-то моя специальность и сделала меня ненавистным полиции, которая меня считает нарушителем общественной тишины и спокойствия. Войду ли я в церковь, – мне в церкви не стоять, если там находится хоть один бесноватый: бес меня сразу учует и такой подымет скандал, что мне приходится выходить вон из церкви. Займу ли квартиру, чтобы обзавестись оседлостью, – меня с квартиры гонят, потому что даже с улицы, сквозь стены меня чуют бесы и скандалят на улице в тех бесноватых, которые проходят или проезжают случайно мимо моего жилища. Все это полиции не нравится, и мне приходится от нее страдать больше, чем какому-нибудь злодею.
Смольянннов говорил речисто и за словом в карман не лазил. В кухне все насторожились, даже про кушанье забыли. Я перебил целителя.
– В полиции у меня протекции нет, и помочь я вам ничем не могу, разве только добрым советом.
– Каким-с?
– Обратитесь к врачу духовному, чтобы он вас самих исцелил от тяжкого душевного недуга.
– От какого-с?
– От прелести.
– От прелести? – протянул он с негодованием, – меня, по слову Спасителя, возложением рук исцеляющего всякие недуги, бесов изгоняющего именем Христовым, меня исцелять от прелести? Да что это вы? Как вам это только в голову могло прийти?
– Видите, – пришло. А причащаетесь ли вы, говеете ли, ходите ли на исповедь?
– Неужели же я – язычник?
– Что ж вам духовники говорят по поводу силы вашей?
– А что говорить им, когда я действую именем Христа?
– Но, ведь, и пастыри Церкви именем Христовым действуют, однако, редкие из них достигают такой духовной силы, которая исцеляла бы недуги и изгоняла бесов, а им в таинстве Священства даруется апостольская благодать, которой вы не имеете.
– Не так действуют. Я не пью, не курю, провожу жизнь девственную.
– Вы не женаты?
– Женат-с, и имею восемнадцатилетнего сына, огромной психической силы.
– И жена ваша жива?
– Жива-с.
– Сколько вам лет?
– Сорок четыре года.
– Хотите другого моего совета послушаться?
– С истинным удовольствием-с, только помо-гите-с!
– Пейте и курите в меру и с женой по закону живите: тогда бесы в союзе с полицией гнать и преследовать вас не будут, и вы освободитесь от того состояния духовной гордости и самообольщения, в котором теперь находитесь.
Господин Смольянинов метнул на меня молниеносный взгляд и хотел, было, удалиться, но я его остановил: мне захотелось поближе узнать, как дошел он до жизни такой.
– Постойте, – сказал я, – не обижайтесь! Тут не место нам с вами разговаривать. Раздевайтесь, пойдемте ко мне и расскажите мне жизнь вашу поподробнее: к чему-нибудь, в самом деле, прислал же вас ко мне отец Анатолий. Пойдемте!
Я велел подать чаю; и вот что, за чаем, поведал мне о себе “спиритуалист-догматик”, г. Смольянинов.
– Я – уроженец г. Лихвина и происхожу из бедной семьи. Отец мой – мещанин г. Лихвина, по ремеслу кровельщик и маляр, а по душевной склонности – горький пьяница; мать – простая, благочестивая женщина, знаете ли-с, из тех, что без всяких религиозных понятнее (он так и сказал – “понятнее”) веруют в Троицу-Богородицу да в Миколу Чудотворца…
Господин Смольянинов, рассказывая речисто и цветисто, повесть своей жизни, видимо, рад был сам себя послушать и искоса поглядывал на меня, как бы желая уловить на моем лице впечатление от его беседы…
– Так, вот-с воспитываясь в этакой-то некультурной семье, я достиг, наконец, того возраста, когда от всякого гражданина требуется вносить в сокровищницу семейного труда долю и своего посильного участия-с. К этому времени я уже успел достаточно твердо-с научиться грамоте, но, увы, иного, более достойного по моим дарованиям, дела, кроме родительского кровельно-малярного, для меня в Лихвинском захолустье не оказалось, и мне пришлось некоторое время тянуть эту грязную лямку вкупе с папашей. К прискорбию, однако, наша совместная с родителем работа не шла нам впрок, ибо что ни заработаем мы, бывало с ним вместе, то родитель возьмет и пропьет-с, оставляя нас с родительницею в самом, можно сказать, горестном-с положении. Такая ненормальность жизни продолжалась до дня сочетания меня законным браком-с с некоей достойной мещанской девицей, когда таковый режим мне показался уже предовольно солон. Родитель мой подался куда-то на юг, на заработки, а я – на простор вселенной, куда глаза глядят. Прихватил я с собою и супругу, в надежде, по выезде из такого необразованного угла, как Лихвин, найти более достойное применение своим дарованиям. И вот-с, по некотором странствовании, неоднократно переменив род профессий и побывав во многих городах обширного нашего отечества, я в городе Одессе обрел и себе, и супруге постоянное и весьма выгодное место у известнейшего-с всему образованному миру профессора черной магии и престидижитатора, господина Беккера… Вы его, наверно, изволили знать?.. – перебил он свою речь и вопросительно впился в меня своими глазками.
– Не имел чести, – ответил я довольно сухо.
– Ну, так слыхали..! Да не в этом дело-с, а дело в том-с, что господин профессор Беккер явился для меня как бы свыше ниспосланным откровением-с. Ныне он уже перешел в иной мир, а, может быть, уже и перевоплотился, – это мне пока еще не открыто, – но тогда он с великою славой еще принадлежал к составу жителей планеты земли, как драгоценнейшее ее украшение и гордость… Вот, к этому-то светилу высшей науки, неизвестной грубому материализму профанов, я и поступил-с вместе с моею супругой: супруга в качестве экономки, а я – в слуги и помощники при особе господина профессора. И тут-с духовному моему взору неожиданно открылся целый неведомый мне дотоле мир высочайшей жизни, о которой невежественные люди не могут иметь даже и самомалейшего представления-с. Короче сказать-с, вы, как человек хотя и не вполне просвещенный светом эзотерического, истинно духовного Евангельского учения, но по своему образованию, меня понять будете в состоянии с нескольких слов: в библиотеке господина профессора я прочел и обучился, под непосредственным его руководством, всем тайнам древне-халдейской магии, передо мною открылись все мистерии Дельфов, Элевзина, Египта; я обрел ключ к вратам загробного мира… Спиритизм и его чудеса – не только моя личная сфера, но и всей моей семьи, так что даже мой восемнадцатилетний сын находится в непрестанном общении с великими мудрецами древности, с духами света и истины. Вообще говоря, для меня уже нет никаких тайн в оккультном мире, и тем я столь страшен стал бесам что, при одном имени моем, нечистый дух, сотрясая им одержимого, выходит из него и уже более не возвращается в больного… К рекламе я не прибегаю, напротив того, удаляюсь от человеческой славы, стараюсь укрыться от всяких посещений, но меня находят, ибо бесы открывают мое пребывание, где бы я ни находился. А полиция меня гонит, как нарушителя обывательского покоя. Войдите же в мое положение, помогите мне! . Жалко мне стало прельщенного беднягу…
– Бросьте, – говорю ему, – ваши оккультные науки: ведь, это же явное общение с бесами, хорошо известное христианам по житиям святых, осужденное и проклятое святыми отцами вселенской Церкви. Теперь, возлагая руки на больного, вы его исцеляете, а затем и мертвых воскрешать будете…
Он перебил меня:
– Я это и теперь могу делать.
– Тогда, говорю ему, – уходите от меня, потому что я – человек грешный, и с таким святым, как вы, общаться недостоин.
– Вы, кажется, шутить изволите?
– Понимайте, как хотите, но только я в последний раз вам говорю: бросьте занятие бесовским оккультизмом, кайтесь и просите у Господа Бога прощения за то, что вы Его святыню оскорбили общением с нечистой силой.
– Не говорите, не говорите так, – прервал меня несчастный прельщенный, – не смейте так говорить! в ваших словах – хула на Духа: не хулите Духа Божия!
– Не Божиего Духа хулю я, – возразил я, – а духа вражия, духа прелести, духа лжи, обмана и обольщения, который влечет и вас, и всех с вами общающихся, к вечной погибели.
– Тогда, по вашему, я бесов изгоняю силою вельзевула, бесов бесами изгоняю; с чем это сообразно? Вы, стало быть, не знаете Писания?
– Вы, – возразил я ему, – по-видимому, считаете себя во всем равным Христу. Писание нас, православных, о таких, как вы, предупредило без малого 1900 лет тому назад, и потому, простите, нам с вами беседовать больше не о чем.
– Прощайте, – ответил мне гордо ученик Беккера, – но берегитесь быть хулителем Духа и помните, что “посвященные” меня хорошо знают, знает меня и московское общество спиритуалистов-догматиков, с которым шутить не советую.
На этом мы простились с этим “игралищем и посмешищем бесов”.
Как ясны теперь стали Евангельские слова: “Многие скажут Мне в тот день: Господи, Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие (Мф. 7, 22, 23).
Заходил к отцу Анатолию.
– Батюшка, вы послали ко мне Смольянинова?
– И не думал. Он проситься вздумал в скит, а я его послал к отцу скитоначальнику. Зачем он к вам забрел, не знаю, только я его к вам не посылал.
Зачем я понадобился “отцу лжи”, налгавшему на отца Анатолия устами “спиритуалиста-догматика и чудотворца”?
Увидим.
Ходил к одному из наших “премудрых”. Рассказал о посещении меня “спиритуалистом”.
– Это – антихристианское религиозное извращенство, служение духу тьмы, принимаемому за ангела света. Князь мира знает, что времени ему осталось немного: он и действует теперь со всею силою и властью над теми, кому кажется тесной церковная ограда. Спиритуализм, спиритизм и простонародное хлыстовство, проникающее, говорят, ныне и в великосветские салоны, как было то в дни лжемистицизма эпохи Александра I, – все это явления одного антихристова духа фальсификации христианства.
12 марта
Черты из жизни старца иеромонаха Клеопы и оптинского архимандрита Моисея
Ходил к “премудрому”. Говорю ему:
– Как тут спастись неопытным в духовной жизни? Род человеческий все знамений и чудес ищет, а знамения-то и чудеса теперь больше с шуей страны, чем с десной подаются: недаром же так усиливается хлыстовство, и даже в высшем обществе, не говоря уже о разных оккультных мерзостях, возведенных теперь даже на степень науки. Где найти мерку для определения того, что от Бога, а что от известного льстеца-диавола?
– Ах, милый мой! Да разве же вы не улавливаете основной разницы между деятелями и делами с одной стороны Божиими, а с другой – сатанинскими? Смирение и послушание; гордость и самочиние – вот вам два противопоставления, характеризующие дух обеих сторон. Если вы желаете приникнуть к раскрытию этой тайны во всей доступной христианину полноте, то обратитесь к изучению великой книги, именуемой “Добротолюбие”: в ней вы все найдете, что может удовлетворить вашу любознательность. Но помните, что для духовного подвига потребно руководство опытных, каковых вне ограды церковного пастырства и учительства вы не найдете, ибо вне этой ограды все тати суть и разбойницы… Вот, вы напугались примером ученика “профессора” черной магии, Беккера, который изгоняет, будто бы, бесов. Противопоставьте ему другой пример, ну, вот, хотя бы одного из сотаинников основателя, вернее, восстановителя православного старчества, архимандрита Паисня Величковского; под сотаинником этим я разумею старца иеромонаха Клеопу. Послушайте, что я расскажу вам про него: когда Клеопа вернулся с Афона в Россию, то его близко узнал преосвященный Сильвестр (Старогородский по фамилии); а этот преосвященный, в свою очередь, был лично известен великолепному князю Потемкину. При встрече князь и говорит епископу Сильвестру (он тогда был епископом Переяславским и Дмитровским):
– В Молдавии какие отцы! высокой жизни, почтенные! здесь таких нет.
Преосвященный отвечает: “Нет, и здесь есть, да только они невидны”.
– Кто такой?
– А вот – Клеопа!
Светлейший говорит: “Представьте мне!” Преосвященный сказал ему, где искать: у купца Матвеева квартирует. У Матвеева стол был открытый для всех странников. Светлейший и карету свою послал. Застали за обедом. Спрашивают: “Который тут из вас Клеопа?”
– Я. На что?
– Да, светлейший прислал за вами. Удивляется, почему узнал светлейший.
– Хорошо, – говорит, – я приеду – у меня есть тут своя повозочка.
– Нет, без вас не велено приезжать. Принужден был ехать в карете. Увидел преосвященного.
– Это вы меня, ваше преосвященство, затащили сюда старика?
Начали говорить. Понравился Потемкину. Светлейший хотел его представить Государыне; а он поскорее убрался в свою Введенскую пустынь (Введенская Островская пустынь в трех верстах от города Покрова Владимирском епархии, в девяноста верстах от Москны. В ней девятого марта 1778 г. скончался отец Клеопа. шестидесяти четырех лет от роду). На дороге, когда он ехал туда, за что-то напал на него солдат и жестоко избил. Офицер, знакомый Клеопе, увидел это и хотел наказать солдата, но отец Клеопа упросил его:
– Не троньте: Бог приказал! Клеопа, не тщеславься! Ездил в карете! Был во дворце!
Этот же Клеопа одно время в лесу жил. Было с ним двое учеников: один – Лука, а другой – Матфей. Недостало хлеба. Стали проситься ученики:
– Батюшка, отпусти нас в деревню попросить хлеба!
– Подождите!
День прошел, другой; третий настал. Просят опять, чтобы отпустить их: животы подвело.
– Подождите! завтра отпущу вас.
На третий день, ввечеру приезжает на паре человек, и спрашивает: “Где это, Клеопа?”
Всего навез: и пшеничной муки, и ржаной, и масла коровьего, и постного, и крупы…. Смотрят, – каким образом проехал? Дорог-то нет: лес превеличайший, частый. По зарубам ходили…
А вот вам еще характерные черточки из его же жизни. Был отец Клеопа настоятелем, – где? – точно не припомню, – и был у него один иеромонах, нравом простейший. Поехал этот иеромонах в Москву за покупками, лошадей-то у него и увели. Укатили на них воры из Москвы, да дорогою и остановились, не знаючи, в Клеопином монастыре, дать отдохнуть лошадям.
Увидели, узнали лошадей, и спрашивают:
– Где вы их взяли? Ведь, это монастырские лошади!
Привели их к отцу Клеопе.
– Где вы их взяли? – спрашивает отец Клеопа.
– Виноваты: увели!
– Ведь, вас надобно теперь под суд отдать… Да, что вы нуждные что ли?
– Недостаточные!
– Ну, так возьмите одну себе. А то вот еще два случая.
Воронцов, генерал-губернатор, присылал спрашивать отца Клеопу: “чего ему надобно? земли, рыбных ловлей?”
– Кланяйтесь господину генерал-губернатору. Благодарю за усердие. Скажите, что для меня нужно земли три аршина – более не надобно: так у нас столько-то есть; а рыбу мы у мужиков покупаем.
Хотел один купец строить им каменную ограду, тридцать тысяч денег давал.
– Кланяйтесь. Благодарю за усердие. Ежели ему угодно, пускай строит.
Тому показалось это обидно: в Саровскую пустынь и отдал. Отец Клеопа тогда в Санаксаре был.
Однажды у него в обители случилось вот что: один послушник сказал, что он видел очевидное чудесное видение. Отец Клеопа велел искусить его, – поругать со стороны. Тот смутился, и не понес оскорбления. Пришел к отцу Клеопе и говорит: “Я не могу жить: меня оскорбляют!”
– Как же ты говоришь, что удостоился видения, а не можешь терпеть? Ты, брате, стаю быть, в прелести. В голову камень класть, поститься, на голой земле спать – это пустое. “Научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем”, – сказан Господь, а чудеса и явления – это необязательно.
Вот чему поучился я сегодня у “премудрого”. Просто, всякому пониманию доступно и умилительно!
Вот она, монастырская наука-то, на которой воспитывалось все царство Русское, от времен Антония и Феодосия Киево-Печерских! вот оно “единое на потребу”!..
И как очевидна на этом примере разница между слугами сатаны и сынами Света истинного!..
Как нарочно, точно в дополнение к записанному, приходил сегодня к нам иеромонах отец Ф. (тот, что рассказывал мне о видении одною женщиною беса в образе Льва Толстого) и принес тетрадку записей из жития Оптинского великого архимандрита Моисея…
– Просмотрите: годятся ли для печати?
Не знаю, поплачет ли кто над теми чертами из этого жития, а я, признаться, умилился над ними до слез. Записано со слов схимонаха Антония (ныне уже покойного):
“Прислали к нам одного мирского священника. Человек он был весьма слабый, да непокойный. В какой-то праздник старец (архимандрит Моисей) служил литургию. А у нас во время проскомидии братия входят в алтарь, разбирают с жертвенника поминанья и тут же в алтаре и на левом клиросе прочитывают их. И подначальный священник вошел вместе с другими в алтарь и тоже взял с жертвенника поминанье; но вместе с книжкой взял с жертвенника двугривенный – известно на что – и спрятал его в карман. Мало ли бывает каких несчастных! Иеродиакон заметил это. Кончается литургия. Идет он к архимандриту и рассказывает, что вот что сделал священник.
– Да долго ли ж, – говорит, – батюшка, мы будем терпеть это? Сколько раз мы замечали это за ним! Сколько раз я вам докладывал про него! Не важны деньги, а важен соблазн. Готовишься приступить к таинству, а тут вдруг видишь такой соблазн!..
– Да, уж! – говорит… А у покойного это была поговорка такая: начнет говорить, а сам все рука об руку потирает и, что бы ни стал говорить, всегда начнет: “да, уж”…
– Вот и хорошо, – говорит, – что ты начал. Я давно хотел поговорить об этом… Затвори-ка двери-то!
И начал:
– Я уж говорил с этим несчастным о его немощи, говорил и отечески, но он не вразумляется; говорил и со властию, как начальник, и это не действует на него: так уж тут, брат, надо усматривать нечто другое. Ты что в этом усматриваешь?.. Не знаю, как ты, а я здесь вижу вот что: обитель наша в славе; начальство благоволит к нам; на нужды наши Господь посылает нам и не только на нужды, но посылает еще и на то, чтобы и нашему ближнему оказать помощь. Терпеть, стало быть, как ты изволишь видеть, мы ничего и ни от кого не терпим. Но, ведь, помнишь: Господь заповедал нести Его иго. Иго, стало быть, человеку непременно нужно, иначе, мы не будем последователями нашего Господа, иначе, за что же Он будет венчать нас? Вот, Он и посылает нам иго в подобных людях: мы и должны понести это иго ради Самого Господа, ради Его милостей к нам, – должны потерпеть немощи нашего брата. Сам Господь терпит его. Как же мы-то его не потерпим? Он, ведь, нам не чужой: он – наш брат. Помни ты это! А на немощи его взирать нечего, потому – Господь силен: Он завтра же может восставить его и сотворить из него пророка. Помнишь апостола Павла-то? Из гонителей да сотворил первоверховным Своим Апостолом. Так, ты, брат, падшего не презирай. Это он в твоих глазах падший, а, по Господнему избранию, он, может быть, первое зерно в Его житнице. А мы допустим погибнуть душе его?..
А то прислали к нам одного архимандрита в число братии, и служение ему было запрещено. Архимандрит этот является к нашему. Обласкал его наш, успокоил, принял по-братски. Потом говорит:
– Вы, конечно, уже знаете содержание указа, по которому присланы сюда?
– Как же, – говорит, – знаю.
Лотом этот архимандрит говорит, что для него тяжело было бы оглашение запрещения ему священнодействия.
– Хорошо, – говорит наш, – так мы, вот как сделаем это: придет смена седмицы, я пришлю к вам сказать, чтобы следующую седмицу служили вы, а вы откажетесь под предлогом болезни.
Приходит время начинать новую седмицу. Является пономарь за благословением, и спрашивает: кому благословит он служить?
– Да, чья седмица-то следует? – спрашивает наш-то.
– Да, вот, такого-то!
– Так!.. Но, вот, прислали к нам архимандрита. Он, ведь, на жительство к нам прислан: пусть же и в трудах наших поучаствуете нами. Сходи-ка к нему и попроси отслужить!
Пономарь отправляется и передает просьбу настоятеля. Тот отвечает: “С удовольствием бы, никак бы не посмел отказаться. Но доложите отцу архимандриту, что я страдаю грудною болезнью, лечусь и никак не могу служить”.
Таким образом, и самолюбие было пощажено, и тайна соблюдена. Уже после кончины нашего отца Моисея, при разборе письмоводителем его секретных бумаг, открылась эта тайна.
Когда подначальный был уже освобожден из нашего монастыря и услышал о смерти покойного, он нарочно приезжал к нам в Оптину служить панихиду и плакал, как по родном.
Был у нас здесь иеромонах М., из ученых, учителем был в духовном училище. Хороший, умный, духовного разума был человек, но попустил врагу одолеть себя известной несчастной слабостью. А слабость эта бывает неразлучна и с другими падениями. Такое-то, вот бедствие постигло и отца М… Придя в себя, он пошел к духовнику, а тот ему:
– Вон из монастыря!
Отец М. впал в отчаяние и еще больше предался своей слабости.
Приходит он к отцу Моисею, растворил дверь и говорит:
– Настоятель! Входят ли к тебе грешники? Покойный вышел к нему; видит, что он явился к нему в таком потерянном виде, и говорит:
– Да – входят, если грешник верует и раскаивается. А ты веруешь ли, раскаиваешься ли?
– Верую и раскаиваюсь! – ответил отец М.
– А если веруешь, становись со мною и молись!
Сам прослезился, стал перед иконами на колени, поставил отца М. возле себя, и начали они молиться. И такую сильную молитву он произнес, что отец М. так и упал, залившись слезами.
– Ну, теперь иди с миром, – говорит настоятель.
– А как же служить? – спрашивает отец М.
– Иди, говорю, с миром и служить служи!
– А как же? грех-то?
– Принимаю твой грех на себя. Иди и служи!
И девственник – а отец Моисей был девственником – поднял на рамена своей совести тяжкий грех падшего брата, чтобы спасти его душу.
С той поры отец М. совершенно исправился.
С этим же отцом М., до этого дня, положившего начало его исправлению, был такой случай: ушел он в город; денег не хватило на слабость: он занял, и в ручательство уплаты заложил свой параман (Или – параманд. что значит “прибавление к мантии”. Четырехугольный плат с изображением креста Христова с тростию, копием и надписью “аз язвы Господа моего на теле ношу”). А заложить параман все равно, что заложить кресте шеи. Нищие узнали об этом и сказали архимандриту Моисею. Он дал им денег и велел выручить параман и принести ему. Параман принесли, но отцу М. про него отец Моисей ни слова. И долго он держал этот параман у себя и молчал.
Присылают потом покойному для раздачи достойным иеромонахам бронзовые кресты в память Крымской кампании. Всем, кому следовало, отец Моисей роздал, а отца М. обошел.
Отец М. подходит к нашему батюшке и начинает роптать, за что обошел он его крестом.
– Да уж, подожди! – говорит, – я сейчас тебя пожалую крестом.
И вынес ему его параман.
– Твой?
– Мой!
И больше у них разговора и не было. Отец М. получил свой параман и отошел с миром.
Архимандрит Моисей не любил, чтобы братия жаловались друг на друга, и умел отучать от жалоб, желая водворить мир между братией.
Был в Оптиной монах, хороший, тихий, но подверженный той же слабости, что и отец М. Дали этому брату мальчика из певчих. По времени, приходит этот монах к отцу архимандриту и жалуется, что мальчик испортился, шалит: в его отсутствие перебирает его веши, зажигает огонь, что-то разбил; в церковь не всегда ходит, грубит, не слушается.
Отец Моисей ходит по залу и слушает.
– Что ж он еще делает? – спрашивает.
Тот еще что-то припомнил.
– Ну, а еще что?
Монах припомнил еще какую-то детскую шалость.
– Ну, а к тебе поступил, хорош был, ты говоришь?
– Ничего, сначала хороший был мальчик! – ответил монах.
– Да, вот дело-то какое! – как бы в недоумении, говорит отец Моисей сам с собою; а сам ходит по комнате и не глядит на монаха.
– Жаль мальчика! – продолжает он, – детская душа – ангельская… Великое дело – душа детская! “Если не обратитеся и не будете, как дети, не внидете в Царство Небесное”. “Кто примет хоть одно дитя во имя Мое, тот Меня принимает”. “А кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы ему повесили мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской”… Господи, слова-то какие! И слова-то чьи? Самого Бога!… Так ты говоришь: к тебе поступил, хорош был; а у тебя пожил, и нехорош стал? Отчего ж он у тебя, именно, и нехорош стал? С кого ж он взял дурные примеры?..
Монаха даже в жар бросило.
– Да, вот что, брат, – продолжал настоятель, – что-то я замечаю, что и у заутрени тогда-то я тебя, как будто, не видал, и в трапезу-то ты не всегда тоже ходишь…
И начал высчитывать его неисправности. Тот и не рад был, что пошел жаловаться на мальчика. Он ясно увидел, что он-то сам, своей неисправностью, и был виновником порчи мальчика.
– Ну, а насчет мальчика ты уж не беспокойся, – заключил отец Моисей, – если он тебе так неудобен, я переведу его к такому брату, который может понести шалости мальчика и озаботится его исправлением. И хорошо, что ты сказал: нельзя ж его так оставлять: ребенок – что молодое деревцо, как смолоду его направить, так и пойдет расти.
И передал мальчика к другому, более к себе строгому, брату.
13 марта
Ходил гулять. Встретил отца Феодосия.
– Ну, что, – спрашивает, – читали, что я дат вам про отца Моисея?
– Не только читал, но и умилялся.
– А, вот, некоторые у нас думают, что этих рассказов печатать не следует: не следует-де, обнажать грехов брата своего.
– А по-моему, говорю, – батюшка, тут не в грехах суть, а в христианском отношении к грехопадению братскому. Все мы греху повинники, не исключая и духовенства, но мало кто из нас умеет не посмеяться греху брата своего, а покрыть его наготу своей одеждой. Вот, этой-то христианской премудрости с великой показательной силой и учат примеры из жизни вашего великого настоятеля Моисея.
– Вы так думаете?
– Не только думаю, но и себе в назидание эти примеры выписал с особым умилением.
Кажется, и отец Феодосии согласен с моим мнением.
На этих днях, в Москве наблюдалось днем редкое небесное явление: три солнца одинаковой яркости сияли на небе. Посредине было настоящее солнце, а по сторонам – два ложных. Из настоящего выходил огненный столб. Ночью были видимы три луны. Газеты, сообщающие об этом, явлении, называют его, хотя и редким, но все же объяснимым, “известным” физическим явлением, “ложных солнц и лун”. Это и мне, еще с гимназии, известно. Но хотя явление это и известно, и физически, как будто, объяснимо, но сколько в нем остается необъяснимым, неразгаданным… Почему явление это наблюдалось только в Москве и нигде более?
Не знамение ли это Божие перед чем-нибудь угрожающим отступающему от Бога человечеству?..
“И будут знамения на солнце, на луне, и звездах” (Лк.21,25)…
И на горизонте политического неба народов мира не без великих знамений: чего один “обновляющийся” Китай стоит?!
16 марта
Старец Иосиф. – Видение в Шамордино. – Революционер и святой Архистратиг Михаил. – “Хорошо живут в Шамординой!”
Сегодня был в скиту у наших богомудрых старцев. На мужской половине у старца Иосифа народу было немного. Слабеет телом наш батюшка; телом слабеет, но не духом: духом точно вчера рожден великий смиренномудрием старец…
– Что-то давно у нас не бывали? – с легкой укоризной в голосе спросил меня приветливый келейник батюшки.
– А как давно? – переспросил я, – и недели нет, как я был на благословении у батюшки. Старец слабеет, а я его буду беспокоить без особой надобности, отнимать его время от истинно нуждающихся и обремененных? Это было бы мне в грех, отец Зосима я, ведь, свой, постоянно на ваших глазах, мотаюсь, а к батюшке со своими скорбями люди ездят, Бог весть, из какой дали: можно ли от них понапрасну отвлекать старца?
– Так-то, так, – возразил мне отец Зосима. – А все-таки, и ради одного благословения – великое дело почаще ходить к старцам: сами знаете, что значит старческое благословение.
Вскоре меня позвали к старцу.
– Ну, что скажешь хорошего? – спросил меня отец. Иосиф, преподавая мне благословение.
– Я, родимый, за хорошим-то к вам пришел, а своего доброго у меня нет ничего – чист молодец! – ответил я батюшке.
– Ну, вот тебе и хорошее: померла в Шамордине (Ныне Казанско-Амвросиева женская пустынь, основанная преподобным Амвросием Оптинскнм при деревне Шаморлнно. Перемышльского уезда Калужской губернии) недавно клиросная послушница. К сороковому по ней дню, товарка ее по послушанию видит ее во сне. Приходит, будто бы, покойница к ней, а та и говорит ей:
– Да, ведь, ты умерла! Как же ты здесь?
– Разве у Бога мертвые есть? – отвечает ей покойница, – я пришла попросить прошения у такой-то, – и имя ее сказывает. – Я ей должна осталась десять копеек. На то, чтобы исправить это, я и отпущена, да и то на короткое время.
– А что хорошо там, где ты теперь? – спросила ее товарка.
– Уж так-то, – ответила она, – хорошо, что и высказать невозможно!
– Ну, расскажи, пожалуйста!
– Нельзя – не велено!
Сон на этом кончился… Дело это было ночью. А днем к другой послушнице пришла из деревни Шаморднноп та самая женщина, чье имя во сне назвала покойница, и спрашивает:
– Умерла у вас, никак, такая-то?
– Да, – говорит, – померла! А что?
– Вишь, – говорит, – грех-то какой вышел: она мне десять копеек должна осталась. С кого ж мне их искать теперь?
На разговор этот подошла та сестра, что сон видела. Дело-то тут и выяснилось. Сложились сестры, и заплатили за покойницу…
– Вот тебе и хорошее! – промолвил, улыбаясь старец.
– Батюшка! – сказал я, умиленный этой простой и чудной повестью, – вот-то хорошее, а у нас-то все плохое.
– Ну, сказывай про плохое!
– В Москве, – да и не в одной Москве, – знамения стали являться на небе. Не к добру это, особенно, как станешь вникать в глубину современной мирской жизни: ведь, в этой глубине не чудятся ли уж те “глубины сатанинские”, о которых прикровенно говорит Священное Писание?
– Плохо стали жить люди православные, – ответил старец, – плохо, что и говорить! Но, знай, пока стоит престол Царя Самодержавного в России, пока жив Государь, до тех пор, значит, милость Господня не отъята от России, и знамения эти, что ты или люди видят, еще угроза только, но не суд и конечный приговор.
– Батюшка! и Царю, и Самодержавию со всех сторон угрожают беды великие.
– Э, милый! И сердце Царево, и престол Его, и сама Его драгоценная жизнь – все в руках Божинх. И может ли на эту русскую святыню посягнуть какая бы то ни было человеческая дрянь, как бы она ни называлась, если только грехи наши не переполнят выше краев фиала гнева Божия? А что он пока еще не переполнен, я тебе по этому случаю вот что скажу: позапрошлым летом был у меня один молодой человек и каялся в том, что ему у революционеров жребий выпал убить нашего Государя. – “Все, – говорит, – у нас было для этого приготовлено, и мне доступ был открыт к самому Государю. Ночь одна оставалась до покушения. Всю ночь я не спал и волновался, а под утро едва забылся… И вижу: стоит Государь. Я бросаюсь к Нему, чтобы поразить Его… И, вдруг передо мною, как молния с неба, предстал с огненным мечом сам Архангел Михаил. Я пал ниц перед ним в смертном страхе. Очнулся от ужаса, и с первым отходящим поездом бежал вон из Петербурга, и теперь скрываюсь от мести своих соумышленников. Меня они, – говорит, – найдут, но лучше тысяча самых жестоких смертей, чем видение грозного Архистратига и вечное проклятие за Помазанника Божия”…
– Вот, друг, тебе мой сказ: пока Господь Своим Архистратигом и Небесным Воинством Своим хранит Своего помазанника, до тех пор – жив Господь! – нечего ни за мир, ни за Россию опасаться. Это ты твердо запомни… Да шамординский мой сказ не забывай: он – залог того, что еще есть по монастырям русским, да и в миру, кое-кто, ради кого еще щадит Господь наши Содом и Гоморру.
О, премудрость и благость Божия!
О, красота и глубина моей Божьей реки!..
А в Шамординой, видно, еще есть подвижницы духа, сердцем чистые, которым открываются тайны Божий. Припоминается мне из сокровенной шамординской жизни еще нечто, о чем я, в октябре 1904 года, слышал в скитской келье отца Анатолия отоптинского иеромонаха Дорофея (Он был один из духовников сестер Шамордннскои обители), ныне покойного.
– А, знаешь, отец Анатолий, – говорил при мне отец Дорофей, – шамординские монашки-то, похоже, еще хорошо живут. Был я у них на чреде (В то время в Шамординой своего причта не было, и оптинские иеромонахи, по назначению от своего настоятеля, ездили туда отпраапять чреду богослужения) в мае месяце. Позвали меня к больной для напутствования. Вижу: помирает молоденькая девочка – подросточек, лет пятнадцати. Была она в полном сознании. Поисповедовал я ее, причастил, да и говорю ей в утешение:
– Нечего тебе, дочка, бояться! Как ласточка, пролетишь ты сквозь мытарства без всякой задержки.
А она мне в ответ:
– А чего ж мне бояться? Я, ведь, не одна туда пойду: нас туда вместе трое отправятся!
Я, признаться, подумал: бредит девочка! И что ж ты думаешь: по ее как раз и вышло! Умерла с ней матушка Евфросиния и схимница (Имя схимницы я запамятовал). Так трое и вознеслись ко Господу.
Вот что зрят еще и теперь сердцем чистые.
20 марта
Умер великий Пан. – Л.Н. Толстой и статья Киресва. – Монахиня М.Н. Толстая – о брате своем, Сергее и об отношениях к нему брата, Льва. – Видение ее о Льве Николаевиче. – Старей, отец Варсонофий, и рассказ жиздрннского священника
“Умер великий Пан!..”
Было это во дни престарелого кесаря железного Рима, Тиверия. На Голгофе свершилась великая тайна нашего спасения. Воскрес Христос Бог наш. И раскатистым эхом по горам и долам, по лесам и дубравам античного мира, рыданьем и стоном бесовским прокатился жалобный вопль:
– “Умер Пан великий!”
Ко дням Тиверия этот козлоногий, рогатый божок древней Эллады н Рима, покровитель стад и пастбищ, под влиянием наводнивших древний Рим идей Востока, возрос до величия высшего языческого божества, творца и владыки вселенной.
Христос воскрес. Пан умер.
И приходит мне на мысль: не его ли, этого умершего вместе с романо-греческим язычеством Пана, пытается вновь воскресить, – конечно, в призраках и мечтаниях, – современное отступничество? “Великий Пан”, безраздельно обладавший всем языческим миром и даже самим богоизбранным народом, ветхозаветным Израилем, во дни его падений, был не кто иной, как падший херувим. Денница, диавол, князь мира и века сего. Крест Господень сокрушил его силу навеки, но только над приявшими и соблюдшими веру Креста Господня, а не над темп, кто ее не принял, или кто от нее сознательно отрекся.
И вижу я: мятутся народы и князи людские и собираются вкупе на Господа и Христа Его; собираются в невиданные и еще доселе неслыханные союзы и политические комбинации. И на знаменах и хоругвях союзов этих имя бога их: Пан!
Вот он в союзах по расам и национальностям: панславизм, пангерманизм, панроманизм, панмонголизм…
По вере: панисламизм и пантеизм.
Но только не панхристианизм: от христианства, как дым пред лицом огня, он бежит и исчезает безвозвратно.
Мне скажут: слово “пан” есть греческое слово и значит “все”. Я знаю это с третьего класса гимназии, но знаю также, что слово это означает и Пана, который “умер” и которого хотят воскресить враги Христовы, враги Пресвятой Троицы.
Тщетные усилия, хотя им и суждено осуществиться, но только на малое время и только на грешной земле, да и то “в призраках и мечтаниях” силы антихристова царства, накануне “смерти второй” (Апок. 20, 14), вечной!
Ходили вчера вместе с женой в скит, к нашему духовнику и старцу, скитоначальнику, игумену, отцу Варсонофию (В начале печатания своих записок я имя его обозначал буквою В.: он еще жив был тогда, возлюбленный наш старец, а о живых подвижниках благочестия не след нам, .христианам, глаголати иначе, как прикровенно).
Перед тем как идти в скит, я прочел в “Московских Ведомостях” статью Киреева, в которой автор приходит к заключению, что, ввиду все более учащающихся случаев отпадения от православия в иные веры, и даже в язычество, обществу верных предстоит необходимость поставить между собою и отступниками резкую грань и выйти из всякого общения с ними. В конце этой статьи Киреев сообщает о слухе, будто бы один из наиболее видных наших отступников имеет намерение обратиться вновь к Церкви…
Не Толстой ли?
Я сообщил об этом отцу Варсонофию.
– Вы думаете на Толстого? – спросил батюшка, – сомнительно! Горд очень. Но если это обращение состоится, я вам расскажу тогда нечто, что только один грешный Варсонофий знает. Мне, ведь, одно время довелось быть духовником сестры его, Марии Николаевны, что живет монахиней в Шамординой,
– Батюшка! не то ли, что и я от нее слышал?
– А что вы слышали?
– Да про смерть брата Толстого, Сергея Николаевича, и про сон Марии Николаевны.
– А ну-ка расскажите! – сказал батюшка.
Вот что слышал я лично от Марии Николаевны Толстой осенью 1904 года (Точно года не упомню, но не позже 1905 года и не ранее 1904 года).
– Когда нынешнею осенью, – говорила мне Мария Николаевна, – заболел к смерти брат наш, Сергей, то о болезни его дали знать мне, в Шамордино, и брату Левочке, в Ясную Поляну. Когда я приехала к брату в имение, то там уже застала Льва Николаевича, не отходившего от одра больного. Больной, видимо, умирал, но сознание было совершенно ясно, и он еще мог говорить обо всем. Сергей всю жизнь находился под влиянием и, можно сказать, обаянием Льва Николаевича, но в атеизме и кощунстве, кажется, превосходил и брата. Перед смертию же его, что-то таинственное совершилось в его душе, и бедную душу эту неудержимо повлекло к Церкви. И вот, у постели больного, мне пришлось присутствовать при таком разговоре между братьями:
– Брат, – обращается неожиданно Сергей к Льву Николаевичу, – как думаешь ты: не причаститься ли мне?
Я со страхом взглянула на Левушку. К великому моему изумлению и радости. Лев Николаевич, не задумываясь ни минуты, ответил:
– Это ты хорошо сделаешь, и чем скорее, тем лучше!
И вслед за этим сам Лев Николаевич распорядился послать за приходским священником.
Необыкновенно трогательно и чистосердечно было покаяние брата Сергея, и он, причастившись, тут же вслед и скончался, точно одного только этого и ждала душа его, чтобы выйти из изможденного болезнью тела.
И, после того, мне вновь пришлось быть свидетельницей такой сцены: вдень кончины брата Сергея, вижу, из комнаты его вдовы, взволнованный и гневный, выбегает Лев Николаевич и кричит мне:
– Нет! Ты себе представь только, до чего она ничего не понимает! – Я, говорит, рада, что он причастился: по крайности, от попов теперь придирок никаких не будет! В исповеди и причастии она только одну эту сторону и нашла!
И долго еще после этого не мог успокоиться Лев Николаевич, и, как только проводил тело брата до церкви (в церковь он, как отлученный, не вошел) тотчас же и уехал к себе в Ясную Поляну.
Когда я вернулась с похорон брата Сергея к себе в монастырь, то вскоре мне был не то сон, не то видение, которое меня поразило до глубины душевной. Совершив обычное свое келейное правило, я не то задремала, не то впапа в какое-то особое состояние между сном и бодрствованием, которое у нас, монахов зовется тонким сном. Забылась я, и вижу… Ночь. Рабочий кабинет Льва Николаевича. На письменном столе лампа под темным абажуром. За письменным столом, облокотившись, сидит Лев Николаевич, и на лице его отпечаток такого тяжкого раздумья, такого отчаяния, какого я еще у него никогда не видала… В кабинете густой, непроницаемый мрак; освещено только то место на столе и лицо Льва Николаевича, на которое падает свет лампы. Мрак в комнате так густ, так непроницаем, что кажется даже, как будто, чем-то наполненным, насыщенным чем-то, материализованным… И, вдруг, вижу я, раскрывается потолок кабинета, и откуда-то с высоты начинаетлиться такой ослепительно-чудный свет, какому нет на земле и не будет никакого подобия; и в свете этом является Господь Иисус Христос, в том Его образе, в котором Он написан в Риме, на картине видения святого мученика архидиакона Лаврентия: пречистые руки Спасителя распростерты в воздухе над Львом Николаевичем, как бы отнимая у незримых палачей орудия пытки. Это так и на той картине написано. И льется, и льется на Льва Николаевича свет неизобразимый, но он, как будто, его и не видит…
И хочется мне крикнуть брату: Левушка, взгляни, да взгляни же наверх!.. И, вдруг, сзади Льва Николаевича, – с ужасом вижу, – из самой гущины мрака начинает вырисовываться и выделяться иная фигура, страшная, жестокая, трепет наводящая; и фигура эта, простирая сзади обе свои руки на глаза Льва Николаевича, закрывает от них свет этот дивный. И вижу я, что Левушка мой делает отчаянные усилия, чтобы отстранить от себя эти жестокие, безжалостные руки…
…На этом я очнулась и, когда очнулась, услыхала, как бы внутри меня, говорящий голос:
– Свет Христов просвещает всех!
Таков рассказ, который я лично слышал из уст графини Марии Николаевны Толстой, в схимонахинях Марии (Видение это было явно благодатным и, как теперь стало ясным, исполнилось над несчастным Толстым во всех подробностях).
– Не это ли вы мне хотели рассказать, батюшка? – спросил я отца Варсонофия. Батюшка сидел, задумавшись, и ничего мне не ответил… Вдруг, он поднял голову, и говорит:
– Толстой – Толстым! Что будет с ним, один Господь ведает. Покойный великий старец Амвросий говорил той же Марии Николаевне в ответ на скорбь ее о брате: “у Бога милости много: Он, может быть, и твоего брата простит. Но для этого ему нужно покаяться и покаяние свое принести перед целым светом. Как грешил на целый свет, так и каяться перед ним должен. Но, когда говорят о милости Божией люди, то о правосудии Его забывают, а, между тем. Бог не только милостив, но и правосуден. Подумайте только: Сына Своего Единородного, возлюбленного Сына Своего, на крестную смерть от руки твари, во исполнение правосудия, отдал! Ведь, тайне этой преславной и предивной не только земнородные дивятся, но и все воинство небесное постичь глубины этого правосудия и соединенной с ним любви и милости не может. Но страшно впасть в руце Бога Живаго! Вот, сейчас перед вами, был у меня один священник из Жиздринского уезда и сказывал, что у него на этих днях в приходе произошло. Был собран у него сельский сход; на нем священник, вместе с прихожанами своими, обсуждал вопрос о постройке церкви-школы. Вопрос этот обсуждался мирно, и уже было пришли к соглашению, поскольку обложить прихожан с души на это дело. Как, вдруг, один из членов схода, зараженный революционными идеями, стал кощунственно и дерзко поносить Церковь, духовенство, и даже произнес хулу на Самого Бога. Один из стариков, бывших на сходе, остановил богохульника словами:
– Что ты сказал-то! Иди скорее к батюшке, кайся, чтобы не покарал тебя Господь за твой нечестивый язык: Бог поруган не бывает.
– Много мне твой Бог сделает, – ответил безумец, – если бы Он был, то Он бы мне за такие слова язык вырвал. А я – смотри – цел, и язык мои цел. Эх вы, дурачье, дурачье! Оттого что глупы вы, оттого-то попы и всякий, кому не лень, и ездят на вашей шее.
– Говорю тебе, – возразил ему старик, – ступай к батюшке каяться, пока не поздно, а то плохо тебе будет!
Плюнул на эти речи кощунник, выругался скверным словом, и ушел со сходки домой. Путь ему лежал через полотно железной дороги. Задумался он что ли, или отвлечено было чем-нибудь его внимание; только не успел он перешагнуть первого рельса, как на него налетел поезд, и прошел через него всеми вагонами. Труп кощунника нашли с отрезанной головой и из обезображенной головы этой торчал, свесившись на сторону, огромный, непомерно длинный язык.
– Так покарал Господь кощунника… И сколько таких случаев, – добавил к своему рассказу батюшка, – проходит, как бы, незамеченных для, так называемой, большой публики, той, что только одни газеты читает; но их слышит и им внимает простое народное сердце и сердце тех, – увы, немногих! – кто рожден от одного с ним духа. Это истинные знамения и чудеса православной живой веры; их знает народ, и ими во все времена поддерживалась и укреплялась народная вера. То, что отступники зовут христианскими легендами, на самом деле, суть факты ежедневной жизни. Умей, душа, примечать только эти факты и пользоваться ими, как маяками бурного житейского моря по пути в царство небесное. Примечайте их и вы, С. А., – сказал мне наш старец, провожая меня из кельи и напутствуя своим благословением.
О, река моя. Божья! О, источники воды живой, гремучим ключом бьющие из-под камня оптинской старческой веры!..
22 марта
Отец игумен Марк. – Его кончина. – Знамение при его погребении. – Деревенские скептики
В Оптиной опять смерть: восемнадцатого марта, вечером, в конце десятого часа, окончил подвиг своего земного жития один из коренных столпов оптинского благочестия, игумен Марк, старейший из всех подвижников оптинских. Игумен Марк, в миру Михаил Чебыкин, окончил некогда курс Костромской духовной семинарии и в 1858 году был пострижен в мантию от руки великого восстановителя Оптиной пустыни, архимандрита Моисея (Одновременно с игуменом Марком был пострижен в мантию архимандритом Моисеем Лев Александрович Кавелин, впоследствии известный наместник Троице-Сергиевой Лавры, архимандрит Леонид).
Пятьдесят один год иноческого злострадания: вот это так юбилей! И венец юбилею этому – Царство Небесное.
– Гранитный он был человек! – так выразился про него его духовник, иеросхимонах отец Сергий (Отец Сергий (Александров) скончался восьмидесяти трех лет девятнадцатого января 1917 года. Отец Иосиф скончайся девятого мая 1911 года. Отец Антоний скончался восьмидесяти пяти лет девятнадцатого апреля 1917 года. Отец Феофан скончался восьмидесяти двух лет шестнадцатого февраля 1915 года. К статье об игумене Марке).
Весною 1868 года игумен Марк был тяжко болен воспалением легких. В ночь на двадцать шестое мая, когда болезнь достигла высшего напряжения, он увидел в тонком сне, что в келью его входит святой великомученик Георгий и святитель Николай. Они подняли его и. как бы на струе воздушной перенесли к Козельску и поставили в долине на холме близ города. Вдали особенно виднелись Никольская, Георгиевская и Вознесенская колокольня этой последней. Святые обратили внимание большое на эту колокольню, около которой он увидел стоящую на воздухе небольшую икону Божией Матери.
“Видишь ли ты эту Святую икону? – спросил Святой Георгий и прибавил: – Это Ахтырская икона Божией Матери. Хочешь быть здоров отслужи перед нею молебен Богоматери”.
В это мгновение икона эта стала выделяться как бы на половину здания все яснее; испуская лучи утренней зари, она осветила всю северную часть города. Пригнувшись в священном трепете, отец Марк почувствовал облегчение. Был отслужен молебен перед Ахтырской иконой Божией Матери, что в Оптинском Казанском храме. Больной стал быстро поправляться, стал даже бывать на свежем воздухе. Но вдруг, болезнь с новой силой возобновилась. Были сочтены часы жизни больного. Тут он вспомнил, что не позаботился отыскать указанную ему икону. Сейчас же принялись за розыски. Двое мещан отправились отыскивать ее по храмам Козельска. Во всех трех, виденных во сне, и на колокольне, искали вместе со священником и сторожем и не нашли. Когда уже сходили с колокольни, священник, точно движимый к тому незримой сплои, сунул руку под балку, при самом входе с лестницы чердака на колокольню и вынул оттуда икону – то и была Ахтырская икона Божией Матери. На другой день перед нею в церкви был отслужен молебен, а на следующий ее принесли к больному. Он признал в ней виденную во сне и вслед быстро поправился.
И, действительно, это был характер, как бы высеченный из цельной гранитной скалы, твердый, крепкий, стойкий, но вполне пригодный к самой тонкой обработке и шлифовке под рукой опытного гранильщика.
Этим гранильщиком был для почившего игумена великий оптинский старец Амвросий. И выгранил же он из него столп и утверждение монашеской истины!..
Теперь в Оптиной только четверо осталось ровесников почившему по жизни в Оптиной: старец отец Иосиф, иеромонах отец Иоанникий и два монаха – отец Антоний и отец Феофан (Эти двое теперь уже скончались); но они, все-таки, не были Моисеевскими постриженниками. Игумен Марк был в Оптиной последним от Евангелия духовным сыном отца Моисея. Старое великое отходит. Нарождается ли новое?..
Игумен Марк в Оптину пустынь поступил в 1853 году, по благословению, как он сам мне сказывал, великих подвижников того времени – Тимона Надеевской пустыни и Нила из Сорской. Воспитывала его с детских лет родная его бабушка, духовная дочь преподобного Серафима Саровского.
Какие имена! Какие люди!
Игумену Марку: как студенту семинарии, предстояла широкая дорога в смысле движения вверх по иерархической лестнице, но Богу угодно было провести его вел и кую душу тесным и многоскорбным путем тяжелых испытаний, смиряя его трудный характер. Много лет он, до самой смерти, прожил в Оптиной пустыни игуменом “на покое”, не ведая, однако, ни покоя, ни отдыха на чреде своего добровольного послушания в качестве уставщика левого клироса и обетного подвига своего монашества.
Вот он стоит предо мною, как живой, почивший игумен! Вижу его характерную монашескую фигуру в высоком, выше чем у прочих монахов, клобуке… Такие клобуки носили прежние оптинские монахи; такой же клобук покрывал головы великих старцев оптинских, и самого архимандрита Моисея, которого безмерною любовью любил почивший игумен… Вижу: сходит он на сход со своего клироса, впереди всех своих певчих, обеими руками раздвигая полы своей мантии и слегка потряхивая и качая головой, на которой, несмотря на слишком семидесятилетний возраст, не серебрилось ни одного седого волоса; сходит он степенно и важно отдает поклон сходящему со своим хором, одновременно с ним, уставщику правого клироса: и слышу, как первый, всегда первый, запевает он, своим старческим, несколько надтреснутым, но верным и громким голосом дивные “подобны” стихир всенощного пустынного оптинского бдения.
Не было при мне равного игумену Марку на этом послушании!… и вряд ли когда-либо будет: другие люди, другие стали теперь и характеры; закал не тот стал теперь, что был прежде…
Хоть идет уже второй год, что я живу в Оптиной, но к игумену Марку я приблизился только в последние дни его земной жизни и был изумлен, подавлен величием и крепостью этой железной воли, не позволявшей даже в часы самых тяжких предсмертных страданий вырваться из груди его ни малейшей жалобе, ни намеку даже на просьбу о помощи. В палящем огне страданий этот гранит расплавлялся в чистейшее золото Царства Небесного. Не бывши ранее близок к игумену, я в дни подготовления его к переходу в вечную жизнь невольно поддался внезапному наплыву на меня огромного к нему чувства: я полюбил крепость его, силу его несокрушимого духа; самого его полюбил я, чтил и робел перед ним, как робкий школьник перед строгим, но уважаемым наставником, и, если не обмануло меня мое сердце, и сам дождался от него взаимности.
В первый раз я посетил игумена Марка в его келье в октябре или ноябре прошлого года. На это посещение я назвался ему сам и, к великой радости, не только не был отвергнут, но был удостоен даже и привета:
– Милости просим. Буду рад вас видеть у себя.
Два или три часа провел я в беседе с отцом игуменом и, – увы! – говорил больше сам, чем его слушал: должно быть, воля его, как бы меня испытывая, звала меня высказаться… Прощаясь со мною, он пожелал ознакомиться с моими книгами, которых не читал, но о которых слышал. На другой день я их принес ему, но беседовать мне с ним не удалось. Книги мои он прочел, одобрил и сказал, что давал их читать “кому нужно”. На Рождестве я встретил его на дороге из храма в келью, после поздней обедни. Мы шли с женою. Он благословил нас и, на мой вопрос о здоровье ответил: “Плохо! Пора готовиться к исходу!”
После этого он слег и уже более не вставал с постели.
Недели две тому назад, перед бдением в Казанской церкви мне один из старейших оптиниев, отец Нафанаил, сказал, что отец Марк уже совсем плох, и что он собирается его посетить. Я попросил отца Нафанаила взять у больного для меня разрешение навестить его. Отец Нафанаил при следующем его со мною свидании в церкви, сообщил, что разрешение мне дано:
– Отец Марк сказал: “Ну что ж !”
И в первое воскресенье затем, т.е., неделю тому назад, я пошел к болящему старцу. На одре болезни я застал уже не игумена Марка, а живые его мощи; только орлиный взгляд остался тот же и напомнил прежнего богатыря духа. Язык говорил тупо, звук голоса был едва слышен, но, наклонившись к умирающему, я еще хорошо мог разобрать, что шептали его старческие, пересохшие от внутренних страданий, уста.
Он благословил меня и сказал:
– Я ждал вас!
И в этот раз я просидел у его изголовья около двух часов, и узнал от него для меня важное то, что он разделяет вполне мои мысли о характере и значении переживаемого времени, как о времени последнем перед концом мира.
– Да, да! – сказал он громко и внятно, – и как малолюден, которые это понимают!
Между прочим, в беседе я сообщил ему, что работаю сейчас над всем собранным мною в Оптиной материалом, приводя его в систему как бы дневника отца Евфимия Трунова. Отец Марк и это одобрил и сказал:
– Это будет очень интересно, и вы хорошо делаете, что дневник этот усвояете Евфимию: он был большой человек.
Потом улыбнулся доброй, ободряющей улыбкой и прибавил: “Так вы, стало быть, собиратель редкостей!”
Я спросил его:
– А вы, батюшка, записывали ли что из вашей жизни и наблюдений?
– Мысль была, – ответил он мне, – но я ее оставил. Кому нужны мои враки?
Надо ли говорить, как мне, ловцу жемчугов оптинских, было огорчительно услышать это признание? Уходит с земли великая жизнь и не оставляет наследства – как же не горько?..
– Батюшка! – спросил я, – правду ли мне говорили, что вы как-то были тяжко больны, так что и врачи от вас отказались? Сказывали мне, что вы удостоились тогда видеть во сне Царицу Небесную, которая вам повелела послать в Козельск за Своей иконой, заброшенной в одном из церковных чуланов, и что вы этою иконой, о которой до вашего видения никто не знал, исцелились? Правда ли это?
Глаза отца игумена просияли, и он ответил радостно:
– Да, было!
И еще хотелось мне вопросить его об одном событии его жизни, но, боясь его утомить, я поднялся прощаться и спросил, не нужно ли ему чего изготовить из пиши полегче, чем обычная суровая трапеза оптинской братии.
– Ну, что ж, – ответил он, – кулешику что ль пожиже на грибном бульоне, пожалуй принесите!
Я принял благословение и вышел.
Теперь жалею, да поздно, что не спросил его о том событии, о котором только что упомянул выше, и приходится мне его записывать со слов хотя и достоверных свидетелей из числа оптинской братии, но не из его подлинных преподобнических уст.
А было это событие такое.
Когда после кончины архимандрита Моисея, дошел черед вкусить от чаши смертной великому брату его, игумену Антонию, тогда епархиальная власть указала бренным останкам его быть погребенным в общем склепе с братом, под полом, у солен правого придела Казанской церкви. Взломали пол, разломали склеп, и обнаружился гроб архимандрита Моисея, совершенно как новый, несмотря на сырость грунта подпочвы; только немножко приотстала, при поднялась гробовая крышка… Безмерною любовью любил почившего архимандрита игумен Марк, и воспламенилось его сердце желанием убедиться в нетленности мощей его великого аввы, а также и взять со смертной одежды их хоть что-нибудь себе на память. И вот пошли каменшики, что делали склеп, не то обедать, не то чай пить, а игумен Марк воспользовался этим временем, спустился в склеп, просунул с ножницами руку под крышку гроба, ощупал там совершенно нетленное, даже мягкое и как бы теплое тело, и только что стал было отрезать ножницами кусок от мантии почившего, как крышка гроба с силой захлопнулась и придавила руку игумену Марку. И взмолился тут игумен: “Прости, отче святый, дерзновение любви моей, отпусти руку”.
И долго молил игумен Марко прошении, пока вновь ни приподнялась сама собой гробовая крышка и ни освободила руку, дерзнувшую, хотя и любви ради, но без благословения Церкви, коснуться мощей праведника.
На память о событии этом у отца игумена остался на всю жизнь поврежденным указательный палец правой руки.
Так рассказывали мне в Оптиной, а было ли оно так в действительности, я от самого действующего лица услышать не удостоился. Я верю, что так и было… И вот четыре дня подряд носил я умирающему игумену пишу; но он хоть и заказывал ее мне, а сам почти к ней не прикасался: глотание было затруднено настолько, что он едва мог глотать даже и воду.
Накануне его смерти, на мой вопрос, что ему изготовить и принести завтра, он ответил: – Сами только извольте пожаловать! Это завтра было восемнадцатое марта. Когда я пришел к нему часа в три пополудни этого дня, игумен Марк уже был на пороге агонии: говорить уже ничего не мог; в груди около горла у него что-то зловеще клокотало… Но меня он узнал: это было видно по глазам его, по его чуть заметной улыбке… У постели его сидели три наши оптинки, тайные монахини. Я попросил благословения, но рука игумена уже не могла сотворить крестного знамения и лежала бессильная рядом с холодеющим телом. Я приподнял руку, приклонил колени у одра умирающего и положил эту дорогую руку на свою склоненную голову.
– Смотрите, смотрите! – услыхал я голос кого-то из монахинь, – улыбается! Видно, он любил его.
Это – меня любил. За что было ему меня любить? Да и успеть-то полюбить было некогда. Одно знаю и верю, и верить хочу, что для вечной моей пользы не без воли Божией был допущен четырехдневный уход мой до самой смерти за великим схиигуменом Марком.
Игумен Марк уже давно был в тайной схиме.
Прощаясь с ним в последний раз, я припал к руке игумена и, глядя ему в глаза, сказал:
– Батюшка! Если стяжешь дерзновение у Господа, помолись Ему о нас, грешных.
Он заметно улыбнулся, и в глазах его я прочел, – так мне показалось – желанное обещание.
Я видел последний день на земле святого схимника.
Вчера, двадцать первого марта, была Лазарева суббота, и в этот день после литургии отпели и похоронили отца Марка.
Мне говорили, что отец игумен почему-то особенно чтил день Лазаревой Субботы и всегда в этот день причащался, – и что же? умер в среду восемнадцатого марта, а погребен четверодневным, как и Лазарь, в день его воскресения.
В случай или совпадение я не верю, а верую в премудрость, благость и безмерное милосердие Божие, воздающее каждому по делам и по вере его.
Шла с погребения почившего игумена гостящая у нас, приезжая из г. Валдая старушка (Александра Васильевна Альбова, ныне покойная, праведница). Идет и слышит, как рассуждают между собой идущие впереди нее два каких-то крестьянина:
– Вот, был человек и нет его! Как пар – и нет ничего!
Не вытерпела наша старушка и сказала:
– Как нет ничего? а душа-то?
– Э, бабушка! – ответили ей деревенские скептики, – какая там душа? пар и больше ничего!
Народные просветители могут считать цель свою достигнутой: они вытравили из народа его душу, веру его в Бога истинного. В стариках она еще кое-как держится, ну а на молодежь, кажется, рукой надо махнуть: от нее только “пар” остался.
Придет конец Православию и Самодержавию в России, – говорили великие наши оптинские старцы, – тогда конец придет и всему миру.
23 марта
Отец Нектарий и его беседа о знамениях, предваряющих пришествие антихриста
Заходил проведать давно не бывавший у нас друг наш, отец Нектарии.
– Что давно не видать было вас, батюшка? – встретили мы таким вопросом этого полузатворника, известного всем оптинским монахам сосредоточенностью своей жизни.
– А я думаю, – ответил он с улыбкой, – что грешному Нектарию довольно было бы видеть вас и единожды в год, а я который уже раз в году у вас бываю!.. Монаху – три выхода: в храм, в келью и в могилу: вот закон для монаха.
– А если дело апостольской проповеди потребует? – возразил я.
– Ну, – ответил он мне, – для этого ученые академисты существуют, а я – необразованный человек низкого звания.
А между тем этот “человек низкого звания” начитанностью своей поражал не одного меня, а многих, кому только удавалось приходить с ним в соприкосновение.
Я рассказал батюшке о небесном знамении, бывшем на Москве в начале месяца (Ложные солнца и луна).
– Как вы, – спросил я, – на эти явления смотрите?
– Э, батюшка барин, – отец Нектарий иногда меня так называет, – как моему невежеству отвечать на такие вопросы? Мне их задавать, а вам отвечать: ведь, вы сто книг прочли, а я человек темный.
– Да вы не уклоняйтесь, батюшка, от ответа, – возразил я, – в моих ста книгах, что я прочел, быть может, тьма одна, а в вашей одной монашеской, которую вы всю жизнь читаете, свету на весь мир хватит.
Отец Нектарий взглянул на меня серьезно, испытуюше.
– Вам, собственно, какого от меня ответа нужно? – спросил он.
– Да такого, который бы ответил на мою душевную тревогу: таковы ли будут знамения на небе, на солнце, луне и звездах, которым, по словам Спасителя, надлежит быть пред кончиной мира?
– Видите ли, чего захотели от моего “худоумня”! Нет, батюшка-барин, не моей это меры, – ответил мне на мой вопрос отец Нектарий. – А, вот, одно, по секрету, уж так и быть, я вам скажу: в прошлом месяце, – точно не помню числа, – шел со мною от утрени отец игумен (Скитоначальник игумен Варсонофий скончавшийся первого апреля 1913 года архимандритом и настоятелем Старо-Голутвина монастыря. Moй духовник и старец), да и говорит мне:
– Я, отец Нектарий, страшный сон видел, такой страшный, что еще и теперь нахожусь под его впечатлением… я его потом как-нибудь вам расскажу, – добавил, подумав, отец игумен, и пошел в свою келью. Затем, прошел шага два, повернулся ко мне и сказал:
– Ко мне антихрист приходил. Остальное расскажу после…
– Ну, и что же, – перебил я отца Нектария, – что же он вам рассказал?
– Да, ничего! – ответил отец Нектарий, – сам он этого вопроса уже более не поднимал, а вопросить его я побоялся: так и остался поднесь этот вопрос невыясненным… Что же касается до небесных знамений и до того, как относиться к ним и к другим явлениям природы, выходящим из ряда обыкновенных, то сам я открывать их тайны власти не имею. Помнится, что-то около 1885 года, при скитоначальнике и старце, отце Анатолии, выдался среди зимы такой необыкновенный солнечный закат, что по всей Оптиной снег около часу казался кровью. Покойный отец Анатолий был муж высокой духовной жизни, истинный делатель умной молитвы и прозорливец: ему, должно быть, что-нибудь об этом явлении было открыто, и он указывал на него, как на знамение вскоре имеющим быть кровавых событий, предваряющих близкую кончину мира.
– Не говорил ли он вам в то время, что антихрист уже родился?
– Так определенно он, помнится не высказывался, но прикровенно о близости его явления он говаривал часто. В Белаевском женском монастыре у отца Анатолия было немало духовных дочек. Одной из них, жившей с матерью, монахинею, он говорил: “мать-то твоя не доживет, а ты доживешь до самого антихриста”. – Мать теперь умерла, а дочка все еще живет, хоть ей теперь уж под восемьдесят лет.
– Неужели же, батюшка, так близка развязка?
Отец Нектарий улыбнулся и из серьезного тона сразу перешел в шутливый:
– Это вы, – ответил он, смеясь, – в какой-нибудь из своих книг прочтите.
И с этими словами отец Нектарий разговор перевел на какую-то обыденную житейскую тему.
26 марта
“День спасения нашего главнзна”. – Темниковский старик и “Наплюйон – антихрист”. – Спас народа – глас Божий. – Нечто о Наполеоне Первом, как о неудавшемся антихристе. – Может ли теперь явиться антихрист
Вчера был день “главизны нашего спасения”, день Благовещения, когда по вере народной и моей, и “птица, даже гнезда не вьет”.
Как дивно-прекрасны под большие праздники и в самые праздники оптинские службы! Только на небе будет лучше, а на земле с ними сравниться ничто не может…
Много еще есть в Оптиной верных и искренних слуг Царя Небесного. Не то у царя земного! Где теперь верные Ему слуги? На кого Ему положиться, с кем разделить непомерно-тяжкое бремя царского правления?.. Сердце тревожно, предчувствует скрытые грозы, вновь собирающиеся над главой Боговенчанного, над Православною Русью… Кто явится царю помощником, кто, по зову Его, извлечет победоносный меч на защиту коренных устоев свято-русской земли?
Кто в поле жив человек? отзовись!
Был у меня один приятель. В дни своей молодости (теперь ему лет семьдесят), стало быть, лет тридцать пять – сорок назад, был он товарищем прокурора по Елатомскому и Темниковскому уездам Тамбовской губернии. Глухие в то время это были места: леса дремучие, пески сыпучие – старая, простая, безхитростная Русь, богатая еще от века нетронутыми дарами Всевышнего, богатая зверем, птицей, рыбою и почти библейской простотой сердца, языка и нравов. Лесу была уйма, хотя не было еще лесоохранительных комитетов и в помине. Но и лесопромышленников тогда в тех местах тоже еще не было…
Было дело это зимой. В одном из глухих лесных поселков задержала на ночлег моего приятеля внезапно разыгравшаяся лютая вьюга. Попросился он ночевать в первую попавшуюся избу, – избы в тех благословенных местах хорошие, просторные, – и, поужинав чем Бог послал, стал располагаться на ночлег в отведенной ему горнице. Смотрит, а с печки высунулась и глядит на него старая седая, лохматая голова, да такая старая, что седины ее уж не белыми кажутся, а в зелень ударяют.
– Дедушка! – окликнул его мой приятель, – сколько лет тебе?
– Ась?
– Годов тебе много ль?
– А кто ж их знает? Должно, много.
– Француза, небось, помнишь?
– Хранцуза-то? помню, как не помнить!
– Что ж ты помнишь?
– И хранцуза с Наплюйоном помню как ён при царе Александре приходил со всей нечистой силой. Ведь, Наплюйон-то, сам ведашь, антихрист был.
– Ну, какой там антихрист! – возразил приятель.
– Верно тебе говорю: антихрист. Только ему тогда всех сроков еще не вышло, оттого и не одолеть было ему нашего царя Ляксандры. А все ж дошел ён до самого Пинтенбурха и царя нашего окружил со своими нечистиками со всех сторон.
– Ну, что ты говоришь, дедушка? Наполеон дальше Москвы не пошел. Москву он сжег, это правда, но до Петербурга и до царя он не доходил.
– А я тебе говорю – дошел; дошел и со всех сторон царя Ляксандру окружил так, что ни к нему пройтить, ни от него проехать никак нельзя было, и подвозу, значит, к царю никакой провизии не стало. Вот тут-то и стало жутко царским енералам, и стали просить они царя Ляксандру, чтобы ён скореича отписал на тихий Дон к казакам, к ихнему атаману, Платову. И написал царь на тихий Дон, к храброму атаману, Платову такое слово: “храбрый, атаман ты мой Платов и храбрые мои казаченьки! Подшел к Пинтенбурху нечестивый Наплюйон с хранцузом и со всякой нечистью и окружил ён меня с моими енералами со всех с четырех сторон. И не стало ко мне никакого подвозу: ни круп, ни муки у меня нетути, и вошь меня заела. Приходи, выручай меня со своими казаченьками”. – Написал царь письмо и отправил его на тихий Дон с верным человеком. Ну, и пришел, значит, к царю храбрый атаман Платов со своими казачатами и отправил в тартарары и Наплюйона, и хранцуза, и всю ихнюю нечисть, а царя с енералами освободил; царя накормил, а вошь с него всю посчистил.
* * *
Припомнился, и так еще живо припомнился, мне рассказ этот сегодня, что я решил его записать, дабы не пропало это чистопробное золото народного сказания о тех временах, когда прообраз “грядущего” шел воевать сатане под нозе православную землю Русскую.
Тогда у Царя были еще верные слуги, а теперь? Не из тех ли “лучших” людей, что заседают в Думе на левых скамейках?..
Глас народа – глас Божий!..
Не так прост и невежественен был тот старичок с бородой в празелень, который утверждал, что “Наплюйон” был антихрист, которому “сроков тогда еще не вышло”. Но что Наполеон, действительно, готовился сознательно и сам, и что его готовил сатана в антихристы, тому в истории Наполеона указаний много, но, к сожалению, никому из историков его эпохи не приходило в голову рассмотреть его жизнь и деяния под этим углом зрения. А следовало бы, особенно в наши дни, такие схожие с тем временем, когда, подготовлялась в норах и подпольях королевской Франции и международного “гетто” так называемая “великая” французская революция, породившая Наполеона.
Бросим же хотя бы беглый взгляд на знаменитого корсиканца с этой точки зрения. Попутно вспомним, что и сам глава Российской Церкви, Святейший Синод, в послании своем, по случаю вступления Наполеона в 1812 году в пределы России, именовал его антихристом.
По преданию Святой Церкви, антихрист в качестве беззаконного вершителя судеб вселенной появится в возрасте Спасителя, исшедшего на проповедь, то есть лет тридцати.
Наполеон I родился пятнадцатого августа 1769 года. Провозглашен первым консулом, то есть фактическим хозяином Франции, восемнадцатого брюмера VIII года, или девятого ноября 1799 года – ровно тридцати лет, двух месяцев и двадцати четырех дней.
Господь наш Иисус Христос именуется Богом Словом. “В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог” (Ин. 1, I).
Когда города Италии подносили победоносному Наполеону ключи от городских ворот, то воздвигали ему триумфальные арки, для торжественного вступления в них, с такой надписью:
“Слово плоть бысть”.
Слово Божие, предуказуя чрез пророков пришествие на землю Сына Божия, поведало, между прочим:
“Из Египта воззвал Я Сына Моего” (Ос. 11, 1).
Поход Наполеона в Египет не скрывал ли в себе тайной цели оправдать на вожде французских войск указанного изречения ветхозаветного пророка? Как знать! Но один эпизод из этого похода дает повод думать, что Наполеон в то время, в душе своей, и сам на себя смотрел, как на нового мессию, противника Иисуса Мессии. Вот что про Наполеона в Египте передает один из современных ему историков (P. M. Laurent de L’Ardeche. Histoire de Napolеon).
“Бонапарт не был ни мусульманином, ни христианином: как он сам, так и его армия представляли собою в Египте французскую философию, скептическую терпимость, религиозное равнодушие восемнадцатого века. Это позволяло ему без ненависти вступать в серьезные беседы и поддерживать добрые отношения как с мусульманскими имамами и шейхами, так равно и с духовными лицами христианства и иудейства. Духовное его устроение одинаково было далеко как от корана, так и от Евангелия… Бывши в Египте, он отправился в Суеи, чтобы осмотреть на месте остатки древнего канала, некогда соединявшего воды Нила с Чермным морем. Захотелось ему взглянуть на источники Моисея, и он едва не стал на этом жертвой своего любопытства, заблудившись ночью на берегу моря во время прилива.
– Мне грозила та же опасность, что и фараону, – сказал он и добавил, – то-то бы была благодарная тема христианским проповедникам для проповеди против меня!
А что Наполеон и сам думал о себе, как о новом мессии, доказывает, между прочим, и то, что, став консулом, потом императором, он часто возвращался мыслью ко временам своих походов в Египет и Малую Азию, для завоевания которой вместе с Палестиной он призывал стать под свои знамена и евреев, чтобы восстановить их царство.
– Я основывал тогда, – говорил он, – религии; я видел себя на пути в Азию на слоне, с чалмой на голове, с новым Кораном в руке, который я составил бы по-своему… Париж стал бы столицей христианского мира, а я руководил бы религиозною жизнью всего мира так же, как и политическою.
На другой день после коронации Наполеон сказал Декрэ (Морской министр Наполеона I, адмирал) с нотой некоторого разочарования в голосе:
– Я слишком поздно явился на свет; нельзя больше сделать ничего великого. Моя карьера блестяща, я не отрицаю; мне удалось пробить себе прекрасную дорогу. Но какая разница с античным миром! Взгляните на Александра Македонского: когда он, после завоевания Азии объявил себя сыном Зевса, то кроме Олимпиады, которая знала, чего ей держаться, кроме Аристотеля да нескольких афинских педантов, весь Восток поверил ему. Ну, а если бы я вздумал провозгласить себя сегодня сыном Отца Всевышнего и заявил бы, что хочу Ему воздать хвалу и благодарение за такое звание, так не нашлось бы ни одной торговки, которая бы не высмеяла бы меня в глаза при первом же моем появлении. Народы слишком просвещены в наше время: нечего больше делать!
На острове Святой Елены, в изгнании, Наполеон диктует своему секретарю такие речи:
“Если бы я вернулся из Москвы победителем, я заставил бы папу позабыть о светской власти; я сделал бы из него просто идола, а сам бы руководил религиозной жизнью, как и политической… Мои соборы были бы представителями христианства, а папа был бы на них только председательствующим”.
Но не довольно ли и этих свидетельств, чтобы признать, что темниковский древний старец не так уж был далек от истины, называя Наполеона антихристом, явившимся, вопреки мнению самого Наполеона, не “слишком поздно”, а слишком рано?
“Сроков еще не вышло!”…
Было еще кому помощь подать Государю и “вшей посчистить с енералов”.
Молитвенников тогда было еще крепких много в России, молитвенна была еще вся деревенская Русь Православная, крепка и незыблема была вера Христова в народе.
Теперь не то: в народе вера пала, а на верхах международного общества развилось такое суеверие, что приди завтра со знамениями и чудесами ложными новый кандидат в антихристы, он будет принято распростертыми объятиями всем, так называемым, образованным миром.
Мы – накануне мировой катастрофы политической и социальной. К этому все подготовляется, и всякий мало-мальски вдумчивый наблюдатель эту катастрофу если не предвидит, то предчувствует и к ней готовится, каждый – по-своему, конечно… Всемирная война, внутренняя усобица, и вот – почва готова для воцарения и обоготворения дарующему мир миру, особенно если мир этот обещан им будет вместе с обшей сытостью и даровыми развлечениями. Хлеба и зрелищ!
А зрелищ будет много. Мы этих зрелищ и теперь еще и без антихриста много видим, а что будет при нем, с его знамениями и чудесами ложными?!. Хватит ли только на всех хлеба?
Святые отцы Церкви утверждают, что хлеба-то именно и не будет, хотя золота, чтобы его купить, девать будет некуда.
27 марта
Наполеон I как антихрист по отзывам современников. – Наполеон – слово революция. – Причина падения Наполеона
Ожидание близ грядущего “человека греха, сына погибели” (2 Фес. 2,3), лжемессии, которым исполнено мое сердце, все продолжает возвращать меня мысленно к его первообразу, Наполеону I. Вот что еще пишут о нем его современники:
“Угрюмый, желчный, равнодушный к людям и мало любимый, точно обладаемый каким-то мучительным чувством, душу свою открывает только Бурьенну, да и то в порывах непримиримой ненависти”.
“Смеясь над идеями и народами, над религиями и правительствами, он играл с неподражаемым уменьем и бесцеремонностью людьми, верный себе в выборе средств и цели, изумительный, неистощимый виртуоз в уменьи подкупать, обольщать, соблазнять, запугивать и очаровывать, обаятельный, но еще более страшный, точно какое-то великолепное и дикое животное, ворвавшееся в стадо домашней скотины, мирно жующей свою жвачку.
“Я человек иного порядка, чем все остальные”, – говорил он сам, – всякие законы нравственности и приличия писаны не для меня. Такой человек, как я, плюет на жизнь миллионов людей”.
“Страх, который он внушал, вызвался исключительно странным действием его личности почти на всех, кто с ним сталкивался. Чувствовалось, что его не может затронуть никакое сердечное движение. На человеческое существо он смотрит как на факт или вещь, а не как на нечто подобное себе… Он не признает никого, кроме себя… В его душе чувствовалось какое-то холодное и острое лезвие, леденящее и наносящее раны; в уме – беспощадная ирония”.
“Этот диавол в образе человека, – говорил про него один из его боевых генералов, Вандамм, – имеет надо мною какое-то обаяние, в котором я не могу дать себе отчета, и это в такой степени, что я, который не боюсь никого, готов дрожать, как ребенок, когда подхожу к нему; он мог бы заставить меня пройти сквозь игольное ушко, чтобы броситься после того в огонь”.
“Этот человек носил в себе что-то убийственное для добродетели… Все свои средства для господства над людьми он выбирал из числа тех, которые унижают человека… Он прощал добродетель только тогда, когда мог ее высмеять”.
“У него была даже какая-то сатанинская усмешка, которая появлялась каждый раз на его губах, когда представлялся случай подписаться под необходимостью какой-нибудь резкой меры или осуждения”.
Шестого марта 1799 года Наполеон взял приступом Яффу и отдал ее на разграбление своим солдатам, а жителей предал избиению. Когда солдатская ярость превзошла всякие пределы, тогда он для усмирения ее послал своих адъютантов, Богарне и Круазье. Они явились как раз во время, чтобы спасти жизнь четырем тысячам арнаутам или албанцам, составлявшим часть яффского гарнизона и избежавшим обшей резни. Как только Наполеон увидел эту массу пленных, он в негодовании воскликнул:
– Что же они мне прикажут делать с ними? Кормить их? нет провианта; отправить в Египет или Францию? нет транспортов. Какой черт заставил их это сделать?
Адъютанты старались извинить себя тою опасностью, которой они могли бы подвергнуться в случае отказа этим людям в капитуляции; они напомнили Наполеону, что и посланы-то они были им в целях гуманности.
– Ну, да, конечно, – возразил он с живостью, – с гуманностью в отношении к женщинам, к детям, к старикам, но не к вооруженным солдатам. Лучше было бы вам самим умереть, чем приводить ко мне этих несчастных. Что прикажете вы мне делать с ними?
Десятогого марта все эти четыре тысячи человек были расстреляны по приказу Наполеона.
* * *
“Я никогда не слышал, – пишет о Наполеоне Меттерних, – такого резкого, такого жесткого голоса. Когда он смеялся, то в улыбку у него складывался только рот и часть щек; его лоб и глаза оставались неизменно мрачными… Это сочетание улыбки с серьезностью производило впечатление чего-то страшного, пугающего”.
Тот же Меттерних говорит: “Стремление к всемирному владычеству заложено в самой природе его; это стремление можно сдержать и умерить, но подавить его не удастся никогда”.
И, наконец, в “Мемориале” под тридцатым ноября 1815 года сам Наполеон свидетельствуете себе в таких выражениях:
“Подчинить себе Европу и все человечество добраться до этой вершины я мог бы только пройдя через всемирную диктатуру; ее я и домогался”.
* * *
Разве все это не черты того антихристова образа, который нам, христианам, дан в творениях святых отцов церкви: Ефрема Сирина, Иоанна Златоустого, Ипполита Римского, Иринея Лионского, Феофилакта Болгарского, Кирилла Иерусалимского, Андрея Кесарийского? И подумать только, что попытка воплощения этого образа была совершена сатаною еще так недавно, что отцы наши знали его современников, могли знать даже его соратников.
Это не легенда, не миф – это почти вчерашняя очевидность! Полной своей реализации, как всемирного царя и лжемессии, образ этот не получил: на пути к ней восстала неодолимой преградой Православная и Самодержавная Россия, возглавленная благословенным Александром и сонмом преподобных, во главе с преподобным Серафимом Саровским. Тогда не было в Церкви Божией ни гапонов, ни петровых, ни Семеновых, ни всех тех расстриг, что десятками и сотнями, со дней возвешения пресловутой “свободы совести”, опозорили своим отступничеством Церковь Русскую…
Кто теперь противостанет “грядущему”?
4 апреля
Дни радости и дни плача. – Старец Исидор Гефсиманский и мой путь
Вот прошла, как чудный сон, и Светлая Седмица… Есть ли еще место на Руси, кроме ее святых обителей, где бы так торжественно и весело-радостно праздновалась Пасха Господня? Думается, что нет… И вот, последней радости вспоминаются мне дни плача моего…
Было это во дни, непосредственно предшествовавшие страшным дням октябрьских “свобод”. Доходил до конца сентябрь 1905 года. В эти дни и в моей личной жизни совершался перелом великий, и стоял я, как в былине витязь, на распутьи; а на распутьи том столб, а на столбу слова:
Прямо ехать – живу не бывать.
Нет пути ни прохожему,
ни проезжему, ни пролетному…
А мне хотелось идти прямо, а не околицей…
У преосвященного Никона, в то время епископа Серпуховского, викария Московской митрополии, я встретился с одним из ближайших его сотрудников по изданию “Троицких Листков” и “Божией Нивы”, Д.И. Введенским. Встретились, разговорились и порешили, что надо мне повидаться, перед принятием какого-нибудь решения в обстоятельствах моей жизни, со старцем Гефсиманского скита, иеромонахом Исидором.
– Дороже всего вам помолиться у своего угодника, преподобного Сергия, – говорил мне Введенский, – потом пожалуйте ко мне, а от меня к старцу, тем более, что он вас знает по тем статьям, которые вы пишете.
Введенский был тогда преподавателем Вифанской семинарии и жил в Вифании. Так я и сделал. И сказал мне старец Исидор:
– То, что ты замыслил, не твой путь; а читай-ка ты почаще житие преподобного Феодота-Корчемника: это тебе больше подойдет. Память этого Божьего угодника празднуется восемнадцатого мая. Возьми Четьи-Мннеи, да и читай почаще это житие.
Так я и сделал. А в житии том, между прочим, сказано следующее:
“Тогда бысть Христова Церковь, аки корабль посреде волн зельных бедствуяй, и погрязновения боящься: нечестивии бо нападающе на домы верных, расхишаху вся, извлачаху же мужей и жен, юнош и девиц бесстудно, и овыя к нечистотам своим сквернии человецы, овыя же ко узам и темницам влечаху: и несть мощно изрещи беды оныя, во время тое на Церковь бывшия. Иереи от храмов Господних бежаша, двери отверсты оставивше, и не обреташеся бегающим от беды место, в немже бы скрытися. Разграбленным же бывшим имениям, належаше глад, паче всякия муки тягчайший: тогда ходящий по пустыням и крыющиееся в горах и вертепах мнози, не стерпевше глада, вдашася в руки нечестивых, надеюшеся некия от них милости. Тяжко убо бе тое зло беглецем оным, изряднее же тем, иже во многом довольстве и изобилии бяху воспитани, а тогда корение грызяху пустынное и зелием диви им от нужды питахуся…
Федот же блаженный… не корчемствоваше бо тако, якоже неции о нем мнят, аки бы да злато соберет, но нарочно корчемствовати притвори себе, да корчемницу свою пристанище и покой безбоязнен сотворит гонимым братиям”…
И вот, едва ли нес первых дней переселения нашего в Оптину, началось на нас с женой исполнение слова Гефсиманского старца, Исидора: дом наш, по обилию посетителей, стал, действительно, походить на гостиницу.
Кого, кого только в нашей “корчемнице” за протекшие годы не перебывало! Даже один французский виконт пожаловал, своих, русских, и не перечислить!..
Похоже ли современное состояние Православной Церкви Божией на то, в котором она находилась во дни преподобного Феодота-Корчемника? Сбываются ли на ней слова старца Исидора? Думается, что и тут не прошло мимо его прозорливое слово: той силы явного, открытого гонения еще, как будто, не видно, но скрытое, упорное последовательное, уже началось, и притом не со вчерашнего дня.
Не за горами завтрашний день, а за ним – и явное.
6 апреля
Сказание одного из наших богомудрых о монахе Савватии и иеродиаконе Филарете
Заходил сегодня один из наших богомудрых.
– Какие люди были прежде, а какие теперь стали! – сказал он к разговору – какие тогда были монахи, а мы-то!.. – и он горестно махнул рукой. Я подумал с еще большей горечью: если ты про себя так говоришь, батюшка, то мы-то что тогда?..
А он продолжал:
– Уж не будем поминать наших почивших старцев, – это были при жизни чудотворцы, – возьмем рядовых монахов: ну, хоть, Савватия, иеродиакона Филарета больничного – это все почти наши современники, трудники монашеского подвига восьмидесятых годов только что кончившегося столетия: не более тридцати-сорока лет нас от них отделяет, а насколько выше они стояли в подвиге даже лучших из нас, теперешних! И каких зато они откровений удостой вались! Нам о таких и думать не приходится…
Вот расскажу вам об одном из таких откровений. Скончался преподобно и праведно иеродиакон Филарет, при жизни с необыкновенной любовью несший послушание в больнице, но немало страдавший от клеветы человеческой. Отец Савватии его очень любил и горевал, что лишился в нем сердечного себе друга. И вот, занездоровилось как-то отцу Савватию; прилег он на скамеечке у себя в келье, заснул, и видит такой сон: вошел он, будто бы, в святые ворота храма неизвестного ему монастыря, а в монастыре том три храма. Захотелось ему осмотреть этот монастырь. Сначала он направился в тот из храмов, который был от него направо, подошел к нему, да у входа остановился, боясь войти туда, и стал прислушиваться. Вдруг слышит, что внутри храма кто-то разговаривает. Сотворил отец Савватии молитву; ему ответили: аминь! – Он вошел, но очутился не в храме, как предполагал, судя по внешности, а в какой-то келье, в которой сидело три молодых монаха в подрясниках и шапочках наподобие афонских, каждый за маленьким столом с письменными принадлежностями. Комната имела вид канцелярии.
Монахи разговаривали о том, какую пользу приносит усопшим поминовение, при этом они вспоминали некоторые места из Священного Писания, из святых отцов, поминали они в разговоре и слово св. Григория Двоеслова, и других.
– Какой это монастырь? – спросил отец Савватии.
Ему ответили:
– Симонов.
– Что же это за храм направо стоит? – продолжал он спрашивать, – и почему около него такая зелень и деревья в цвету, тогда как везде зима?
(Отец Савватий сон свой видел в ночь с двадцать девятого на тридцатое января 1886 года).
– А в этом храме, – отвечают ему: приносится бескровная Жертва за души новопреставленных. Милосердием Божиим усопшие получают от поминовения великую пользу: грешникам прощаются грехи их, а праведники получают большую благодать.
Такое рассуждение молодых монахов очень понравилось отцу Савватию и он сказал им:
– Вот, у нас недавно умер очень хороший и близкий мне человек…
– Это вы про отца Филарета говорите? – спросили они его.
– Да, про него.
– А не хотите ли вы его видеть?
Сердце отца Савватия так и замерло от радости.
– Да, я бы желал! – сказал он робко.
Тогда тот из монахов, который казался постарше, сказал младшему:
– Доложите, что желают видеть отца Филарета.
Тот пошел и, возвратившись очень скоро, позвал отца Савватия следовать за ним. Ввел он его в соседнюю комнату, внутри которой находилась лестница, с которой, как раз в это время, сходил юноша, лет восемнадцати, в светлом стихаре.
– Вам отца Филарета? – спросил он отиа Савватия, – пожалуйте за мной!
Они пошли вверх по очень крутой лестнице, и отец Савватий, несмотря на свою обычную боль в ноге, которой он страдал издавна, не чувствовал ни боли и ни малейшей усталости и шел, как будто по воздуху.
Долго поднимались они, пока не достигли опять какого-то храма огромных размеров, с необыкновенно высоким куполом. Храм был круглый, и в нем иконостаса не было. Под куполом были видны лики святых, расположенные группами, как будто на облаках. Между ними отец Савватий рассмотрел лик мучеников, лик святителей, преподобных и других святых, от века благоугодивших Господу… Внизу под ними был виден ряд икон, а наверху, несмотря на отсутствие окон, изливался откуда-то необычайный свет. Отец Савватий остановился в немом восхищении перед этим дивным светом, и видит, что все изображения святых внезапно ожили, начали двигаться и беседовать между собою.
Это крайне поразило отца Савватия.
– Вы отца Филарета ищите? – спросил его кто-то из них. – Его еще здесь нет. Ему готовится место с праведниками и юродивыми.
Тогда отец Савватий, обратясь к своему спутнику, шепотом спросил его:
– Разве он лишен монашества?
– Не лишен, а еще повышен, – отвечал он.
Пошли они дальше и, повернувши направо, вошли уже в настоящий храм, которому тот храм служил, как бы, преддверием. Оба храма эти были соединены аркою. Боковых приделов там не было. Везде горели лампады. Кругом храма шли хоры.
Отец Савватий стал глядеть на иконостас, но, заметив, что проводник его смотрит кверху в противоположную сторону, быстро повернулся и, взглянув туда же, увидал на хорах отца Филарета.
– Филарет, ты ли это? – воскликнул он.
– Я, – ответил, кланяясь ему, отец Филарет. Лицо у отца Филарета было очень веселое; одет в светлый стихарь, перекрещенный орарем. Стоит, опершись обеими руками на перила хор и, держа в руках бумажный свиток, ласково смотрит на отца Савватия.
– Можно ли мне с тобой повидаться? – спросил отец Савватий.
– Можно! – сказал, улыбаясь, отец Филарет. Стал искать отец Савватнй лестницу, чтобы подняться на хоры, но лестницы не оказалось. И говорит он отцу Филарету:
– Где ж к тебе войти?
– Входи, – ответил отец Филарет – я помогу тебе.
Думая, что он ему подаст веревку, отец Савватий спросил его:
– Почему же здесь нет лестницы? Как же ты-то взошел сюда?
– Меня вознесли сюда, – ответил отец Филарет, – клеветы человеческие. Прежде я стоял там же, где и ты теперь стоишь.
И лицо отца Филарета из веселого вдруг сделалось печальным.
И только отец Савватий успел помыслить в сердце своем: “Филарет, ты был при жизни так милостив к клеветникам твоим!” – а уже отец Филарет, в ответ на эту мысль, говорит:
– Я всегда сожалел и прежде о тех, которые клевещут, а теперь и еще более того жалею о них. Теперь я на опыте узнал, что клевета на брата вменяется клеветнику в тот же самый грех, в котором он оклеветал брата. В этом же грехе он и осудится, если только не покается.
И опять подумал отец Савватий: “Филарет, у тебя столько было любви к ближнему!” – И на эту мысль опять Филарет ответил ему:
– Только здесь и можно узнать, какое великое воздаяние бывает от Господа за любовь и милость к ближнему. Вам, сущим еще на земле, и понять этого невозможно!
“Хорошо ли тебе?” – хотел, было, спросить его отец Савватий. А тот, молча, уже развернул свиток, который держал в руках, и отец Савватий прочел написанное там большими блестящими буквами:
“Праведницы во веки живут, и в Господе мзда их”.
При конце каждой строчки божественных слов этих стояло по золотой, ярко сиявшей, звездочке.
Тут, как будто на хорах отворилась дверь, и отца Филарета кто-то позвал, и он, поклонившись, удалился.
На этом отец Савватий проснулся.
Болезни, которую он чувствовал, ложась спать, как не бывало; больные ноги стали как здоровые. Душа его была преисполнена неизъяснимой радости и восторга.
Такое-то, вот сказание слышал я сегодня от одного из наших богомудрых, удостоивших посетить наше пустынножительство.
И хотел было, я предложить ему вопрос: можно ли каким бы то ни было снам верить? Но не предложил, ибо п моя душа была преисполнена неизъяснимой радости и восторга.
20 апреля
Видение в Шамординой. – Отец Памва, простец оптинский и протоиерей отец Александр Чагринский (Юнгеров). – “Христианин” и мужик. – “Антихриста дождемся”
Давно не заглядывал в свои записки: все это время был занят приготовлением к печати рукописи своей “Святыня под спудом” и разбором старых писем. Много их накопилось за последние годы; многие из них обречены на уничтожение, но есть такие, с которыми не только жаль расстаться, но хочется их перенести даже на страницы моего дневника, чтобы как-нибудь не затерялись…
Вчера к нам заглянули и чай пили у нас отцы Нектарий, Варсис и Памва. Отец Варсис служил на днях в Шамордино. Его сестра ездила в Петербург, в Иоанновский монастырь, вернулась на днях обратно и заказывала у себя, в Шамординой, заупокойную обедню по отце Иоанне Кронштадтском.
За “Херувимской” одна больная монахиня внезапно увидела отца Иоанна, который вместе с великим входом вошел в алтарь царскими вратами. Монахиня закричала:
– Батюшка, возьми меня!
К ней подбежали, думая, не случилось ли с ней чего.
– Да разве вы не видели батюшки? – изумилась она, – ведь, вот он только сейчас вошел в алтарь!
Раньше ничего подобного с этой монахиней не случалось.
Отец Памва – один из простецов оптинских; старик, годам к семидесяти; уроженец самарских степей. Много он мне рассказывал про ихнего самарского отца Александра (Юнгерова), протоиерея, кончившего земную жизнь свою в Чагрннском женском монастыре. По рассказам отца Памвы, да и по другим, в разное время доходившим до меня, слухам, истинно великий был это пастырь словесных овец Христовых. Это он направил отца Памву в Оптину.
– По грехам твоим, – говорил он отцу Памве, – давно бы тебе надо было гореть в геенне, да сердцем-то ты прост, и за то милует тебя Господь. Только бросай, брат, свои скверные дела, рассчитайся с миром, и иди в Калужскую губернию, в Оптину пустынь; там поработай Господу и обители, сколько сил хватит, и, Бог милостив, спасешься. Прост ты и неграмотен, этим ты не огорчайся; таким Господь тайны Свои открывает, а от премудрых и разумных скрывает. Увидишь ты и блаженное царство жизни будущего века, и муку вечную – много такого даст тебе Господь видеть, о чем грамотные и в уме не содержат…
– …И все это, – обращаясь ко мне, сказал отец Памва, – я видел, да и теперь, братец ты мой, вижу.
– Что же ты, отец Памва, видишь?
– Бесов вижу, все козни бесовские вижу… Мне и о них отец Александр сказывал, что я их буду видеть:, вот и вижу.
– Какие они? – спросил я отца Памву.
– Ну, братец, – сказал он, – о них лучше тебе не знать и не спрашивать.
– А что?
– Больно гнусны уж! Я, бывает, их и вижу, да и не рад, что и вижу. И силу ж они теперь забрали над миром! Не сдобровать миру!
– А крест-то на что?
– Крест?! Крест, братец ты мой, сила неодоленная там, где кресту веруют и по кресту живут. А в миру, братец ты мой, как живут-то теперь? В миру живши, не кресту теперь служат, а диаволу и всей похоти его. В миру, братец ты мой, не Христа теперь на помощь призывают, а диавола зовут. Вон, мужики мимо гостиницы отца Пахомия дрова в Козельск на станцию возят; послушай-ка: кого они все поминают? Да все “его” ж! Прежде хороший крестьянин что бы ни делал, все – “Господи Иисусе Христе”, да “Господи Иисусе Христе!” Потому-то он и был “христьянин”, что Христа поминал.
А теперь он стал мужик, да не простои мужик, а вражий, а все потому, что к каждому слову или “врага” поминает, или мать позорит и проклинает. Враг-то сам по себе без зову бы не пришел и не мог бы придти, – ему благодать крещенская доступу бы к человеку не дала, – ну, а ежели самовольно “самосильно” зовут его? Э!.. Ну, тогда он тут как тут, с нашим, значит, удовольствием! И стал, братец ты мой, мир теперь уже не Божий, а вражий… Мне покойный отец Александр, еще годов с двадцать тому назад, сказывал, что антихрист в миру одной ногой уже стоит, а другую заносит: скоро, значится, (отец Памва говорил не “значит”, а – “значится”) придет время ему и на царство поступать; не миновать – дождемся!
– Если не покаемся, – возразил я. Отец Памва махнул рукой:
– Ну, этого-то вряд ли дождемся!
Много разных чудес из своей сокровенной жизни сказывал мне простец отец Памва, но мое сердце больше всего задели его слова об антихристе. Протоиерей отец Александр Юнгеров, прославленный своей богоугодной жизнью и прозорливостью во всем Саратовском и Самарском Поволжье, я – человек книжный, и сын простого народа, когда-то пахарь, а теперь монах – духовидец – и все мы трое одномысленны:
Антихриста дождемся!..
Да, дождемся, если не обратим сердец наших к покаянию и не принесем плодов, его достойных.
10 мая
Отношение оптинских старцев к Афону. – Михаил Константинович Ребров – раб Божий. – Епископ на покое. – “Оправдана премудрость чадами ся”. – Чудесное исцеление жены сапожника Коваева
Великие оптинские старцы не благословляли своим послушникам, стремившимся к высшему монашескому подвигу, уходить на Афон. В этом отношении и ныне здравствующие наши старцы не изменяют пути своих великих предшественников, и устремляющиеся к афонскому безмолвию наши оптинские иноки если еще и теперь иногда едут на Афон, то уже на свой духовный страх и риск, по самочинию, а не по старческому благословению. На моих глазах таких случаев ухода на Афон оптннскнх послушников было всего три или четыре, не более, и все они в духовном отношении кончались, обыкновенно весьма печально.
Вчера и третьего дня заходил к нам и у нас обедал раб Божий, некий Михаил Константинович Ребров (бывший канцелярский служитель в Московском коммерческом суде, ныне послушник Соловеикой пустыни близ Симбирска), присный духовный сын одного из епископов, живущих на покое, известного многим верующим святостью своей жизни, а некоторым избранникам – и даром прозорливости и чудотворения, тщательно укрываемым от праздного любопытства “необрезанных сердец”. Я не знаю этого епископа лично, но много слышал про него не только доброго, но и такого, что его выводит из рядов простых смертных и что кладет на него печать особого помазания от Духа Божия. Помню, – вскоре после открытия святых мощей преподобного Серафима Саровского, мне довелось быть и в Дивееве, и в Сарове. Было это в первых числах августа I903 года, когда на местах этого великого торжества православной веры не успел остыть все еще горячий след царского пребывания и общения его с душой коренного русского человека. Приехал я в Дивеев, ему первому поклонился нашею общею с ним радостью оправдания моей и его веры в святость великого старца Серафима. На “мельничке-питательнице”, из-под ручного жернова, дала мне одна из дивеевских сестер горсточку тепленькой мучки, и говорит:
– Был тут во время прославления преподобного владыка (она назвала имя того епископа, – Антоний бывший Вологодский, живущий на покое в Донском монастыре, – о ком я веду здесь речь), зашел к нам на эту мельницу, а следом за ним привели глухонемую девочку под его благословение.
Владыка взял щепотку мучки и дал девочке: девочка и заговорила. Кто был тут при этом чуде, аж застонал от дива этого дивного.
То было в Дивееве.
Поехал я следом из Дивеева в Саров. Под вечер, гляжу, один из знакомых мне монахов, – Игнатий, иеромонах, благочинный, – чинит в своей келье фонарь керосино-калильного освещения, которое только что было торжества ради, введено в Сарове.
– Что это, – спрашиваю, – батюшка вы тут делаете?
Он махнул рукой с негодованием.
– А, чтоб его!.. – воскликнул он с сердцем, – был тут перед вами один сумасшедший архиерей, он взял, да и испортил мне фонарь этот!
Он назвал мне имя этого архиерея: это был тот, кто мучкой Серафимовой исцелил в Дивееве глухонемую девушку.
“И оправдана”, – подумал я, – “премудрость чадами ее”…
Так вот, этого-то архиерея мирской послушник, в лице М.К. Реброва, и навешал нас эти два дня, утешат нас своей беседой, о делах и людях, начиная со своего старца-святителя, таких, о которых мир не знает, а если и знает, то ненавидит, ибо ненавидит и Самого Подвигоположника нашего спасения. Господа Иисуса Христа.
Много рассказывал Ребров и о своем владыке, и о другом рабе Божием некоем Коваеве, Димитрии Андреевиче сапожнике и вместе миссионере, также относящемся к владыке, как к старцу… Есть, видно, еще и в наши кривые дни горячая, живая и чудодейственная сила!…
Заболела у этого Коваева жена. Стали ее лечить. Болезнь усилилась. Стали лечить упорнее. Начала помирать старуха. И принялся Коваев отмаливать ее у Господа; молится день – другой, а жене все хуже да хуже…
– Господи! – взывает Коваев, – ты, ведь, знаешь, что у меня пять человек детей: помрет жена, на кого же они останутся? Я молюсь Тебе день и ночь: и на работе молюсь, и в храме, и на постели молюсь, а Ты, точно, не слышишь. Сотвори же здравой жену мою, чтобы я видел, что Ты, как обещал, внимаешь слезной человеческой молитве.
Так молился Коваев; но жена его оставалась все в том же безнадежном положении. И стало ей, наконец, так плохо, что вот сейчас и дух вон. Побежал Коваев в свой приходский храм, пал там на коленки, и так стал молиться, что едва ли не весь пол под собою зал ил слезами. Помолился. Возвращается домой и слышит, что внутри его точно голос какой-то говорит:
– Очистись! Освятись!
Понял Коваев, что ему нужно поисповедоваться и причаститься. Так и сделал. Опять стал молиться, опять плакать, жизнь жены у Бога вымаливать. А жена все в том же положении: и не умирает, и легче не делается. И пришло ему вдруг на ум Крестителю Спасову молиться. А тут, в соседнем женском монастыре, как раз, и икона его чудотворная есть. Помолился он там Предтече Господню и, надо думать, крепко помолился…
Проходит день… Жене не лучше; лежит в полузабытьи… Сидит Коваев за утренним чаем и думает горькую думу: не слышит его Господь; помирает хозяйка… Вдруг, входит в мастерскую какой-то странник; в руке палка; на ногах огромные сапоги…
– Здесь, – спрашивает, – живет Коваев? Называет его по имени-отчеству и по фамилии. Коваева точно в сердце пронзило от вопроса, а главное, от голоса, который его окликнул: что-то особенное ему почудилось в этом голосе, а что – и сам не знает. Поднялся он навстречу к страннику… . – Здесь, – отвечает, – пожалуйте! А странников Коваев любит принимать.
– Мир дому сему! – сказал гость.
– Да, он, – говорит Коваев, – у меня никогда из дому и не выходит.
– А кто, – спрашивает странник, – здесь хозяин?
– Хозяин здесь я! – отвечает Коваев.
– Я спрашиваю: кто здесь хозяин? – опять, настойчиво повторил свой вопрос странник.
– Ну, тогда так, – ответил Коваев, – так хозяин здесь вон кто! – И указал на икону Спасителя.
– А я, – продолжал он, крестясь на икону, – у Него управитель.
– Ну, стало быть, – сказал странник, – давай здороваться, знакомы будем!
Сели они вместе чай пить. Выпил странник стакан чаю, поднялся, да прямо к постели страждущей. Не спросил даже, чем больна, а подошел к ней, да и говорит:
– Вставай, Пелагия, вставай-ка мать! Давай мне чистую рубашку да штаны!
Та и встала; пошла доставать белье. А у Коваева точно кто память отшиб; забыл, что жена больна была, что сейчас только чудом Божиим встала, а думает про себя только одно: принял странника, как Христа, а он оказался вымогатель. Подумал он так-то, а странник ему:
– Не лукавь, Димитрий! Господь жену исцелил, а ты что помышляешь?
Взял рубашку и штаны, – к ним Коваев и сапоги от трудов своих прибавил, – простился с хозяевами… Потуда его и видели.
Все это свершилось так неожиданно и так быстро, что супруги Коваевы точно во сне все это видели. Бросились вдогонку за странником, а его и след простыл.
Это мне сегодня рассказал раб Божий М.К. Ребров, духовный сын архиерея “на покое”, исцелившего в Дивееве глухонемую “девочку, и брат по духу тому, кто в своей сапожной мастерской удостоился принять в образе странника кого-то, чье имя и происхождение знать нам еще не дано, пока не будет оно открыто там, где все тайное, наконец, станет явным, где будем видеть лицом к лицу то, чему здесь можем только веровать или видеть только “якоже зерцалом в гадании”, как бы сквозь тусклое стекло…
11 мая
Соблазнительное слово в старческой келье. – Ночная посетительница скитской кельи. – Материнское проклятие
Заходил сегодня к старцу отцу Иосифу, и не дозвонился. Должно быть, пришел слишком рано, и келейники старца отдыхали послеобеденным сном. Подергал я раза три за ручку дверного колокольчика, подождал, прислушался к звонку. Я уже собрался уходить, как вдруг взгляд мой остановился на изречениях подвижников духа, развешанных по стенам первой прихожей кельи старца. Стал читать и, к немалому для себя изумлению и даже, – не скрою, – соблазну, прочел написанные четким полууставом слова:
“Егда внидеши к старцу, то удержи сердце свое от соблазна. Аше даже узриши старца твоего и в блуд впадша, не ими веры и очесем твоим”.
Дословно ли так я записал эти смутившие меня слова, я не могу поручиться; за точность смысла ручаюсь.
И было мне это изречение в соблазн немалый. Хотел я дозвониться к отцу своему духовному и старцу, отцу Варсонофию, но поопасался потревожить и его послеобеденный отдых. Так и ушел из скита с соблазном в сердце.
Хорош тот старец, которого глаза мои застигнут на блудодеянии!.. Очень удобное изречение для. ханжей и лицемеров!.. И как только оно могло приютиться в таком святом месте, как келья наших чистых от всяких подозрений и праведных старцев?..
Горько мне было… И вдруг я вспомнил… Было это в прошлом октябре. На день памяти одного из великих ветхозаветных пророков были именины одного из старых, почитаемых скитских монахов, отца Иоиля, сподвижника и помощника великого старца Амвросия по постройке Шамординского монастыря. Я был приглашен на чай к этому хранителю оптннских преданий. Собралось нас в чистенькой и уютной келье именинника человек шесть монахов да я, мирской любитель их и почитатель. За весело кипящим самоварчиком, попивая чаек с медком от скитских пчелок, повели старцы, убеленные сединами, умудренные духовным опытом, свои тихие, исполненные премудрости и ведения, монашеские беседы…
Господи мой. Господи! Что за сладость была в речах тех для верующего сердца!..
И вот, тут-то, за незабвенной беседой этой, и поведал нам сам именинник о том, что было с ним в те дни, когда, после кончины старца Амвросия, управлял скитом и нес на себе иго старчества скитоначальник отец Анатолий (Зерцалов, скончавшийся года два спустя после кончины отца Амвросия. Мой духовник, отец Варсонофий, был его духовным сыном и учеником).
Призывает он меня как-то раз к себе наедине, да и говорит:
– Отец Иоиль, скажи мне всю истинную правду, как перед Богом: никто не ходит к тебе по ночам из мирских в келью?
– Помилуйте, – говорю ему, – батюшка! Кому ходить ко мне, да еще ночью? Да где и пройти-то? ведь, скит кругом заперт, и все ключи у вас в келье.
– А калитка, что в лес, на восток?
– Так что ж что калитка? И от нее ключ у вас.
– Вот, – говорит, – то-то и беда, то-то и горе: ключ у меня, а к тебе, все-таки, какая-то женщина ходит.
Я чуть не упал в обморок. Батюшка увидал это, и говорит:
– Ну, ну! успокойся. Я тебе верю, раз ты это отвергаешь. Это, видно, поклеп на тебя. Ступай с Богом!
– Батюшка, – спрашиваю, – кто донес вам об этом?
– Ну, что там, – говорит, – кто бы ни донес, это не твое дело; будет с тебя того, что я тебе верю, а доносу не верю. Ушел я от него, а на сердце обида великая: жил, жил монах столько лет по-монашески, а что нажил? Нет, при батюшке Амвросии такого покору на меня не было бы… Горько мне было, лихо!
Прошло сколько-то времени. Опять зовут меня кскитоначальнику. Прихожу. Встречает меня гневный.
– Ты что же это? ты так-то!
– Что, батюшка?
– Да то, что я теперь сам, своими глазами, видел, как к тебе из той калитки сегодняшней ночью приходила женщина. Сам, понимаешь ли ты, – сам!
А я чист, как младенец. Тут мне кто-то, будто, шепнул: да это враг был, а не женщина. И просветлело у меня сразу на сердце.
– Батюшка! верьте Богу: невинен я! Это нас вражонок хочет спутать, это он злодействует.
Отец Анатолий взглянул на меня пристально-пристально, в самую душу сквозь глаза заглянул и, видимо, успокоился.
– Ну, коли так, так давай с тобой вместе помолимся Богу, чтоб Он извел правду твою, я ко полудне. Давай молиться, а ночью, часам к двенадцати, приходи ко мне: увидим, что речето нас Господь.
Усердно помолился я в тот день Богу. Пришел близ полуночи к старцу, а уж он меня ждет одеты и.
– Пойдем! – говорит.
И пошли мы к той калитке, из которой, он видел, ходит ко мне ночью женщина. Стали в сторонке; ждем. Я дрожу, как в лихорадке, и творю молитву Иисусову. И что ж вы думаете? Около полуночи, смотрим, калитка в лес отворяется, и из нее выходит закутанная с головой женщина, выходит, направляется прямо к двери моей кельи, отворяет ее и скрывается за ней в моей келье.
– Видишь? – говорит батюшка. А я ни жив, ни мертв отвечаю:
– Вижу.
– Ну, – говорит, – теперь мы ее поймаем! Подошли к двери, а она заперта. Была перед нашими глазами открыта, и тут, вдруг, заперта!.. Отворяю своим ключом. Входим. Никого!.. Осмотрели всюду, все норки мышиные оглядели: нигде никого. Перекрестились тут мы оба, и оба сразу поняли, от кого нам было это наваждение. С той поры о той женщине уже не было никакого разговора.
Этот рассказ отца Иоиля я вспомнил сегодня, и отошел от меня сразу соблазн на изречение, прочитанное мною в прихожей старца Иосифа.
Мне-то ясно это. Ясно ли будет тем, кому попадутся на глаза эти строки?..
И еще вспомнился мне рассказ того же отца Иоиля, из дней его молодости, когда он еще жил в миру, в Ефремовском уезде, Тульской губернии.
– От родины моей неподалеку, – так говорил нам свой сказ отец Иоиль в тот же незабвенный день своего ангела, – находится уездный город нашей же губернии – Епифань. И вот, в этой-то Епи-фани, на моей памяти, произошел следующий случай. Пришла в ветхость одна градская церковь. Порешили ее сломать, а на ее место выстроить новую. Когда доломали церковь до фундамента и стали заводить основание для нового храма, то около старого фундамента нашли совершенно нетленного покойника. По облику и по одежде, он, видимо, был из местных мешан, и погребен был сравнительно недавно, годов так с пятидесятых-шестидесятых. не больше, назад, судя по покрою одежды. Стали доискиваться да допытываться, – кто ж он был: великий ли Божий угодник, сподобившийся нетления, или уж такой грешник, что его и мать-сыра земля не принимает? Изнесли покойника из земли, перенесли в часовенку и стали по старикам епифанским дознаваться о роде его и о племени. Долго дознавались, все никак не могли дознаться. А покойник все стоит да стоит себе в часовенке, как живой, точно еще вчера только в гроб положили. Наконец, разыскали где-то такую древнюю предревнюю старуху, что и годов своих не помнит. Самые старые старики про нее сказывали, что когда они еще малыми мальчишками без штанов бегали, она уже была старой старухой.
Приступили к старухе:
– Не знаешь ли чего о покойнике?
– О каком?
– Да, о том, что нашли у старой церкви.
– Знать, – говорит, – не знаю и ведать не ведаю.
Хотели свести показать покойника, – не пошла. А старуха была пребодрая и в полном разуме. Заметили, как будто, что-то притаивает старуха, что-то, как будто, не договаривает, когда уж очень не с короткими приступают к ней с расспросами; заметили, да и припугнули.
– Ну, – говорит, – коли дело на то пошло, так уж знайте, что если земля не принимает покойника, так, значит, это не кто другой, как мой сын, чтобы ему на том свете пусто было?
– За что же, – спрашивают, – ты его уж так немилосердно?
– А за то, за самое, что бил он меня, свою мать родную, безо всякого милосердия, всю свою анафемскую жизнь бил, а под самый собачий конец свой так избил, что оторвал мне косу. Я тут же и прокляла его, а он, с моего материнского проклятия, и подох на месте, как бешеный пес. Когда его хоронили, я ему под голову свою косу и положила, чтобы за нее с ним и на суде Господнем судиться, чтобы и там на нем проклятие мое не снималось. Если у него, у покойника-то вашего, найдете под головой в подушке косу, так и знайте, что это он, мой кровопивец.
Под головой у покойника, в подушке, действительно, нашли материнскую косу.
Тут взялся за старуху священник того прихода, в котором нашли покойника, и стал ее увещевать простить сына, снять с него проклятие. И она все свое:
– Будь он, анафема, трижды проклят!
Но недаром совершилось чудо Божие: побился, побился со старухой батюшка, и привел-таки ее в чувство.
– Ну, – сказала она, – пусть Бог его простит, а я прощаю.
Пошла проститься с покойником, взглянула на него, перекрестила, сама перекрестилась, поцелована…
Покойник тут же, в виду всех, прахом рассыпался, а мать и трех дней не прожила – Богу душу отдала.
О, любовь! О милосердие Божие!
12 мая
Чудо святого великомученика Пантелеймона в Торопецкой уездной управе. – Гибель адмирала Макарова в необычном освещении
Сегодня, перелистывая свою записную книжку, я напал на копию с постановления Торопецкой (Псковской губернии) уездной земской управы, присланную мне одним боголюбцем в такое время, когда на родине моей, в Орловской губернии, ожидали холеры и для встречи этой страшной гостьи принимали все меры, указанные “наукой”. Прочитал я постановление это, и скорбно задумался: куда, на какую “страну далече”, отошли мы, дети, от отцов наших?! Мыслимо ли теперь в любом из земских собраний постановление, подобное нижеследующему, что постановили русские люди Торопецкого земства?
Постановление это я выписываю здесь во всей его неприкосновенности:
“С 1865 года, – так пишется в этом документе, – земские собрания и комитеты народного здравия почти во всех городах и уездах Империи стали принимать меры против ожидаемой в 1866 году эпидемической холеры. Земское собрание Торопецкого уезда, имея в виду, что в 1830 и 1848 годах в городе Торопце и его уезде холеры не было и зная твердую веру народа в милосердие Божие, не делало посему никаких особых распоряжений. Между тем. Псковская земская управа просила Торопецкую сообщить ей, какие меры принимаются ею в.случае появления эпидемии. Я, член Торопецкой управы, сознавая ответственность свою перед обществом, в случае непринятия ими мер при появлении холеры, решились, по совещании, отвечать так: хотя земским собранием указания на сей предмет не сделано, то Торопецкая управа просит Псковскую уведомить, какие распоряжения делаются по сему предмету в других городах губернии, дабы и она, в случае надобности, могла сделать то же самое”.
Когда составлено было такое отношение, и писец Антонов стал переписывать его, то написав, “что на принятие энергических мер к предупреждению эпидемии указаний от уездного земск…”, поднял лист, чтобы посмотреть, хорошо ли им написано. В эту минуту сидевшие против него писаря – Кожевников и Черепенников – заметили на обороте листа какое-то неясное изображение.
– Ты пишешь на картинке. – сказали они ему и, рассмотрев лист, увидели, как бы, тень или слабый отпечаток изображения какого-то святого, о чем тотчас же объявили секретарю Райкову, а он доложил членам управы.
Случилось это в феврале 1866 года. Молва распространилась, и желавшие видеть это изображение находили, что оно есть лик святого великомученика и целителя Пантелеймона, что впоследствии, по внимательном рассмотрении, оказалось, действительно, так.
Холера 1866 года, вырвав свои жертвы в окрестных уездах, и в этот, уже третий, раз миновала Торопеи и его уезд; а в октябре того же года мощи святого целителя Пантелеймона (Во второй половине шестидесятых годов прошлого столетия афонским монахам из монастыря святого великомученика Пантелеймона был разрешен пропуск для служения молебнов по всей России. Монахи сопровождали святые мощи целителя Пантелеимона) посетили Торопец.
Посему, члены управы, имея в виду:
1) что на единственной бумаге, в которой в первый раз управа выражала предположение человеческих средств против непонятной болезни, обозначился лик угодника Божия и целителя Пантелеймона;
2) что холеры в 1866 году в Торопце не было;
3) что бланк, или лист, на котором было написано отношение в губернскую управу, печатанный в Москве, есть один из нескольких сот, имеющихся в управе, на котором оказалось изображение;
4) что мощи святого угодника Божия Пантелеймона в тот же год посетили г. Торопец,
Постановили:
В память вышеуказанных событий, лист с оттенком изображения угодника Пантелеймона просить освятить четырнадцатогого октября и хранить в уездной управе, в воспоминание милости Божией и угодников Его, избавляющих город Торопец и уезд его от холеры.
Подлинное подписали:
Председатель управы Петр Языков.
Член управы Иван Харинский.
Секретарь управы коллежский асессор Райков”.
Как за какие-нибудь сорок пять лет изменилась Русь, когда-то Святая! Но та, прежняя, Русь рождала Суворовых, а теперешняя….?
И вспоминается мне герой несчастной Японской войны – адмирал Макаров, надежда русского флота, восходящая звезда его славы и… смерть его. В те великоскорбные дни, когда был пущен ко дну “Петропавловск”, вместе с адмиралом Макаровым, в газете “Русь”, служившей, как известно, целям революции и, следовательно, не имевшей, казалось бы, никакого отношения к явлениям и знамениям потустороннего мира, была напечатана корреспонденция из одного южно-русского города (помнится, из Кишинева). Там, в крайней бедности, проживала родная сестра погибшего адмирала (Записываю я это по памяти. С тех пор столько событий вихрем промчалось над бедной моей родиной и над моей головой, что мне немудрено и позабыть кое-какие подробности этой корреспонденции. Но все главное я сохранил здесь неизменным).
В самый день и час гибели “Петропавловска”, адмирал Макаров, как о том его сестра передавав корреспонденту “Руси”, явился ей во сне. Вид его был жалкий, растерянный, печальный.
– Я не погиб еще, Варя (Кажется, так было ее имя), – сказал он, – взрыв был в кормовой части броненосца. Мне страшно тяжело. Варя, но я еще не погиб окончательно.
Сообщение это было записано корреспондентом, что называется, между прочим, – не то ему, да и его читателям, было нужно, – а, между тем, в нем мне чудятся огненные слова: “Мене Текел. Упарсин.”
“Аще не покаетесь, вси такожде погибнете!” Когда провожали на войну адмирала, то за ним следом подвигалась целая армия газетных ищеек. Подхватывалось каждое его слово, каждый его жест фотографировался – все заносилось на страницы уличной печати, яркой представительницей которой в то зловещее время была газета “Русь”. И вот на столбцах этой газеты в дни выезда Макарова из Петербурга навстречу смерти было напечатано следующее: (Пишу по памяти).
“Адмирал занял место и купе, куда к нему вскоре подсел старый его товарищ, теперь находящийся уже не удел. Произошел, как водится, разговор на злободневные темы и, в частности, о последних событиях, вырвавших из строя нашей Тихоокеанской эскадры столько судов и человеческих жизней, погибших без славы и без пользы для дела.
– Ну, уж я-то не собираюсь так погибать! – воскликнул Макаров”…
И погиб.
И все мы так же погибнем, если не покаемся и, кажется, уже погибаем, ибо не каемся.
Ах, как далеко нам до членов Торопецкой уездной земской управы состава 1866 года.
13 мая
Из воспоминаний епископа Сегюр. – Смерть генерала В.
Моя жена (Урожденная Озерова) находится в родстве с графами Ростопчиными. Одна из Ростопчиных, дочь знаменитого Московского военного губернатора, была замужем за французским графом Сегюр. В воспоминаниях ее сына, римско-католического епископа Сегюр, рассказан, между прочим, случай весьма сходный с описанным мною вчера и касавшимся адмирала Макарова. Вот что пишет епископ Сегюр:
“Это было в России немного раньше войны 1812 года. Мой дедушка, граф Ростопчин, московский военный губернатор, был связан узами сильной дружбы с графом Орловым, (Алексеем Григорьевичем) настолько же безбожным, настолько и бравым. Однажды, во время ужина с обильными возлияниями, граф Орлов и один из его друзей, генерал В., такой же вольтерианец как и Орлов, начали шутить над религией и в особенности стали прохаживаться насчет ада.
– А что, – сказал Орлов, – если кто случайно окажется по ту сторону?
– Прекрасно! – возразил ему на это генерал В., – тот из нас, кто пойдет туда первым, пусть возвратится, и уведомит другого.
– Превосходная мысль! – воскликнул Орлов. И оба тут же дали друг другу честное слово не забывать об этом обещании.
Через несколько недель после этого, русская армия отправилась в кампанию, и генерал В. получил в ней высшее назначение.
Прошло две-три недели, как он покинул Москву. Однажды, очень рано утром, в то время как мой дедушка занимался еще туалетом, дверь его комнаты вдруг с силой отворилась, и в комнату вошел граф Орлов в халате, в туфлях, с растрепанными волосами, с угрюмым взглядом, бледный, как смерть…
– Орлов, это ты? – вскрикивает Ростопчин, – в такое время и в таком костюме! Что тебе нужно, что случилось?
– Мне кажется, – ответил Орлов, – что я ума схожу: я только что видел генерала В.
– Да разве он возвратился?
– Ах, нет! – ответил Орлов, бросаясь на диван и хватаясь за голову, – нет, он не возвращался, и в этом-то весь ужас!
Ничего не понимая, дедушка попросил объяснения.
– Несколько времени тому назад, – сказал Орлов, – В. и я поклялись, что если кто из нас умрет первым, то должен будет придти и сказать что-нибудь о потустороннем мире. Около получаса тому назад, я преспокойно лежал в своей постели, совершенно о В. не думая. Как вдруг занавес моей постели с силой раздвинулась, и я в двух шагах от себя увидел В. Бледный, прижав руки к груди, он сказал мне:
– Ад существует, и я там!
– Сказал, и исчез. Я тотчас же пошел к тебе. У меня голова идет кругом. Странно мне это, удивительно странно!
Дедушка успокоил его, как мог. Потом приказал приготовить экипаж и отвез его домой.
Десять или двенадцать дней спустя, курьер из армии привез известие о смерти генерала В. В то самое утро, когда его видел и слышал Орлов, даже в тот самый час, когда он явился в Москве, несчастный генерал, выходя, чтобы рассмотреть неприятельские позиции, был сражен пулей в грудь навылет и тотчас же умер.
16 мая
Родительская суббота под Троицын день. – Общение праведников и грешников кающихся. Церкви торжествующей и Церкви воинствующей
Сегодня, ради родительской субботы, пошел я к обедне помянуть наших дорогих усопших. В церковь пришел рано, до звона минут за десять. Со мною вместе вошел в храм наш старший свечник, иеродиакон Никон. Заказал я ему какие и каким иконам поставить свечи, и дал разменять рубль. Стал отец Никон открывать ящик с выручкой, чтобы достать мне сдачи, и ахнул:
– Это что такое? откуда?
Смотрю, – в руках у него откуда-то взялась старинная, маленькая медная, нательная иконка и на ней два полуистертых временем изображения какого-то преподобного, с потиром в руках, а над ним – Нерукотворенного Спаса.
– Да разве не ваша она? – спрашиваю.
– То-то что нет, – отвечает, – и откуда взялась? От утрени уходил, убирал ящик, ее не было.
– Отец Никон, – говорю, – если нет и не найдется этому образку хозяина, дайте тогда его мне, благословите им меня!
– С удовольствием.
И он трижды перекрестил им меня, и отдал.
Спрятал я, как великую драгоценность, иконочку эту в левый свой боковой карман, – поближе, значит к сердцу, – и с нею отстоял литургию. Сердце радостно трепетало…
Пришел домой, перекрестился, поцеловал новое свое сокровище, взял лупу, и в нее стал разглядывать едва заметную надпись у главы преподобного. Прочел: “Преподобный Сергий”.
Христолюбцы! да что ж это такое? Канун Троицына дня! Родительская суббота! Храм Божий Введения во храм Пресвятыя Богородицы! (Летним собор Оптннон пустыни, как и сама святая обитель посвящена Введению во храм Пресвятыя Богородицы) Обретение иконы Спаса Нерукотворенного и верного служителя Пресвятыя Троицы, преподобного Сергия, имя которого я, недостойный, недостойно ношу! и – благословение им меня от руки ктитора храма, иеродиакона, носящего имя преподобного Никона, ближайшего ученика и сотаинника преподобного Сергия!.. Сердце мое так и залилось волной какого-то необычайно радостного чувства… Неужели же и я, последнейший любитель истинного монашества и описатель чудес и тайн монашеского духа (я только что успел поставить последнюю точку к рукописи моей “Святыня под спудом”), неужели и я не забыт молитвами моего Ангела пред престолом Пресвятыя Троицы? И кому отправляется моя рукопись? Епископу Никону, и он будет печатать ее в типографии обители преподобного Сергия, Свято-Троицкой Лавры! И сам-то он, мой редактор, цензор и издатель, свое начало полагал в той же Лавре, под крылом того же преподобного! И имя-то он носит то же, что и благословивший меня иеродиакон!..
“Верою и Раав блудница не погибла с неверными” (Евр. 11,31 ст.)
Так незримо, но сердцу внятно, общается Церковь торжествующая с Церковью воинствующею, небо – с землею, праведники с грешниками, ищущими прошения и спасения.
Дней десять-двенадцать тому назад, в нашем же доме было дано и другое свидетельство попечения вышних о нижних.
Что-то около 1900 года, в сонном видении, преподобный Макарий Желтоводскнй вразумил меня соблюдать Петровский пост. Сон этот и глубоко назидательные обстоятельства, его сопровождавшие, были мною своевременно записаны, но по нерадению и из ложного смирения, не были оглашены в печати для укрепления веры в братиях моих по вере. И вот, дней двенадцать тому назад, в нашей моленной, во время, кажется, чтения молитв на сон грядущим, образок преподобного Макария Желтоводского, висевший высоко в ряду других икон, каким-то образом, без всякого сотрясения извне, сорвался с своего места и упал на пол. Я приписал это падение недостаточной крепости гвоздика, на котором он был укреплен, повесил его пониже, приложился к нему и особого значения этому обстоятельству не придал. С этого времени мне пришлось наряду с другими иконами, до которых можно было достать, прикладываться ежедневно и к нему. И вот, всякий раз стал мне приходить на сердце помысл: да как же это ты, раб Божий, до сих пор не явил твоим читателям бывшего тебе вразумления?..
И было это мне и раз, и два, пока я не сел и не написал владыке Никону для “Троицких листков” его о том, что сотворил мне преподобный. Написал, отослал по назначению и… иконы преподобного на новом ее месте уже не нашел. Жена моя, которой я ничего еще не успел рассказать из совершившегося в танниках моего сердца и связанного с этой иконой, уже успела перевесить ее на старое место.
Совершилось это как бы само собою, и сообразилось уже после того как совершилось.
19 мая
Легкая смута. – Житие и подвиги схимонаха Феодора (с найденной рукописи)
Записал я под шестнадцатым мая со мною бывшее в храме Божием в канун Троицына дня и забыл упомянуть, что в самый день благословения меня образом преподобного Сергия меня за литургией, на земном поклоне, неожиданно хватил так называемый “прострел”, да так сильно, что не разогнуться: едва из церкви вышел. Я уже думал, что мне ни у всенощной, ни за литургией с вечерней на Троицу и в церкви не бывать. Однако пересилил боль, кое-как доплелся ко всенощной, а уже литургию и вечерню на другой день выстоял, как ни в чем не бывало.
“Кому-то” что-то не понравилось, и “он” мне хотел показать свои когти.
Тот же “он” хотел было из-за “Святыни под спудом” замутить и чистейшие мои отношения кое с кем из оптинской старшей братии, но и это ему не удалось, по милости Божией, хотя “он” и работал над этим более недели.
Но о делах вражиих не леть ми и глаголати.
В оптинских рукописях мне довелось найти жемчужину – рукописное житие схимонаха Феодора, ученика великого молдавского старца, Паисия Величковского. Паисий Величковский для русского монашества конца восемнадцатого века и девятнадцатого века, а также и для современных, добре живущих, иноков был тем же, чем некогда для пустынножителей Египта и Ливии был преподобный Антоний Великий. От него повелось и великое оптинское старчество, возглавленное старцем иеромонахом Леонидом, в схиме Львом. Схимонах Феодор, чье краткое рукописное житие я нашел в книгохранилищах оптинских, был учителем и сотаинником старца Леонида. Понятно, с каким интересом я отнесся к найденной рукописи и с какой любовью перенес с ее зажелтевших листов драгоценные ее письмена в заветные свои заметки.
“Сын родителей благочестивых, Феодор увидел свет в городе Карачеве, уездном городе Орловской губернии, в 1756 году по воплощении Бога Слова. Отец, которого он лишился в младенческом возрасте, был из купеческого сословия, мать – из духовного. Сирота-отрок был отдан родительницею в дом карачевского протопопа для обучения грамоте и пению. Скоро он обнаружил исключительные способности к быстрым успехам в учении; в особенности блистало в нем дарование к пению, соединенное с превосходным голосом. В то время, какой чувственным языком пел церковные песни, таинственный язык этих песнопений неприметно проникал в его сердце: сердце отрока, младенчествуюшее злобою, не засоренное еще страстями, удобно растворяется для принятия божественных впечатлений. Изучение грамоты вручило ему ключ сокровищниц, хранящий крупный жемчуг мысленных приобретений, – говорю о книгах Священного Писания и отеческих. Добрые дела, послушание, простота, полезное чтение, самое время воспитывали в Феодоре ту мудрость и те чувства, которым он впоследствии должен был возблагоухать на жертвеннике благочестия.
Из священнического дома возвратился он уже юношею в дом родительницы и, по ее требованию, занялся торговлей, завел лавочку в Карачеве 41 в этом занятии провел около двух лет. Но сердце, познавшее вкус духовной сладости, не может примириться с мечтательною, обманчивою суетою: насильственно принужденный к образу жизни, противному его наклонностям и мыслям, Феодор вздыхал в глубине души своей о тихом пристанище, и в его уме стало созревать намерение покинуть мир и воспрнять легкое бремя иночества. Несильный противиться справедливым требованиям совести, сердечному чувству, которым человека обыкновенно призывает Сам Бог, он оставляет родительский дом, ночью уходит из Карачева и, не открыв никому своей цели, устремляется в Площанскую пустынь, лежащую от Карачева в восьмидесяти верстах. В ней Феодор скрывается от козней многопопечительного мира.
Плошанская пустынь, управляемая тогда добродетельным и довольно искусным старцем Серапионом, украшалась и благонравием братин, и стройным чином церковного богослужения. Здесь юный Феодор вступил в тризну иноческого послушания, дабы наружным рабством купить внутреннюю свободу, наружным уничижением выработать внутреннее душевное благородство, с послушанием старался соединить терпение, которым скрепляется и связывается все здание добродетелей. Терпение же он основывал на смирении”…
20 мая
И риторика бывает нужна и полезна. – Продолжение жития схимонаха Феодора
Вчера начал я списывать житие схимонаха Феодора, ради заключающегося в нем некоторого великого откровения о жизни христианской богоугодной души в потустороннем мире, а сегодня задаю себе вопрос: не проще ли, отложив к сторонке риторство составителя этого творения, списать в свои заметки только то из него, что меня поразило, как откровение?.. Нет, – решил я, – буду продолжать, как начал: не даром же Господь лучшие Свои жемчужины скрывает в самой глубине моря, между скалами и рифами, под угрозой всевозможных опасностей, таящихся в его изменчивом коварстве. Итак, продолжаем!
“По прошествии недолгого времени родительница узнала, что сын ее живет в Плошанской пустыни. Она спешит в сию обитель, исторгает юношу из защищенной и спокойной монастырской жизни, и ввергает его в поток мирской молвы и соединенных с нею соблазнов. О, любовь плотская! любовь безумная! недостойна ты святого имени, коим назвал Себя Сам Бог! Ты, по проречению Спасителя, часто вооружаешь ослепленных родителей беззаконым пламенем, и те, кто получил от них телесную жизнь, от них теряют душевную и истинную!..
Снова Феодор возвращается в лавочку, и снова чувства высоких желаний волнуют его душу; снова, пользуясь темнотою ночи, бежит он из дома, из города и достигает монастыря, известного под названием “Белые Берега”, тогда еще малозначащего. Из “Белых берегов” он отправляется опять в Плошанскую пустынь и опять из нее похищается насильно материю, распаленною желанием подружить его с миром, желанием едва ли естественным…
Утомленный такими препятствиями, думая, что его предприятие воинствовать в мысленном воинстве не угодно Богу, Феодор хотел, по крайней мере, не лишиться сладостных животворящих заповедей Господних, хотел, придерживаясь их, как за нить, выйти из лабиринта мирской жизни и мечом делания заклать чудовище, пожирающее всех, кто блуждает по этому лабиринту, не руководствуясь златосияющею нитью заповедей Христовых. Его ворота были открыты для странников; нищий не отходил от окна его, не обрадованный подаянием; больные утешались его состраданием и услугами; враги не могли сказать, что за зло он платил злом; свободное же время он посвящал чтению, стараясь сладчайшее имя Иисусово лобызать непрестанно и устами и мыслию.
Но человек подвержен переменам; колеблется не одна молодость ветренная и пламенная, колеблется и старость, гордящаяся постоянством и опытностью, часто мнимыми. Лишенный тишины пустынной, лишенный наставления старцев, обуреваемый нестройным вожделением юношеского тела, Феодор начал омрачаться мыслями преступными, и мало-помалу вкрались в его сердце сладострастные чувствования: он пал.
Приступим к трогательной и наставительной . повести его тяжких поползновений, укажем ров беззаконий, в который он ввергся, и познаем великое могущество покаяния, когда увидим его на высочайшей степени добродетелей. “Кораблекрушение праведника, – говорит божественный Златоуст, – соделывается пристанищем грешнику: когда праведник упал с небес, то и я уже не отчаиваюсь в своем спасении. Изувеченные ранами войны сподобляются от царя особенных почестей: так и подвижники умственной брани получают блистающие вениы, когда они являются пред лицо Царя царей, обагренные кровью своих падений, сими самыми падения ми победив, посредством покаяния, победителя ихдиавола”.
В то время, как Феодор продолжал упражняться в маленькой торговле своей, открылось в их городе выгодное приказчичье место, на которое и был приглашен юноша благоразумный и ловкий. Хозяин дома скончался; его вдова, женщина целомудренная, но простодушная, и лет преклонных, не могла сама входить в управление домом, и вручила его Феодору. В этом-то доме и распростерты были сети, в которых запуталась нога его. Вдова была матерью четырех взрослых дочерей, прекрасных собою. Феодор, увлеченный преступной страстью, погряз в беззаконное смешение сперва со старшею, потом и с младшею сестрою. Долгое время валялся он в этом болоте разврата, – сладострастие закрывает умственные очи человека, – и, наконец, желая прикрыть свои греховные раны, соединился браком с младшею сестрою.
Но узел преступления сим не развязался. Просыпается в нем совесть: он узнает иену потерянных им сокровищ; сердце его уязвляется желанием их возвращения. Он начинает посещать с прилежанием храмы Божий – словом, удваивает старание о исполнении, по силе своей, всех обязанностей христианина. Но свет, прежде в нем сиявший от послушания иноческого, не получил прежней чистоты своей.
Проникнутый глубокой печалью, Феодор примечал во всех делах своих большие недостатки, примечал, что мир рассыпал повсюду препятствия к житию богоугодному. Не в силах переносить тяжкой язвы скорби о потере утешительных чувств, не находя никакой отрады в суетных занятиях, он решился, наконец, оставить отечество, имение, супругу, младенца-дочь и, обнажившись всего, вступил снова в поприще, приятности которого он уже испробовал. Утаивая истинное намерение, он открывает подружию своему, что хочет побывать в Киеве и поклониться святым мощам преподобных отцов Печерских. С ее согласия, он отправляется в этот город, взяв с собою денег только четыре рубля и пятьдесят копеек. Там он предает себя молитвам угодников Божиих, а затем поспешно устремляется к границам России и Польской Подолии, переходит границу и отправляется в Молдавию, в которой сиял тогда великий светильник, старец Паисий Величковский, архимандрит Нямецкого монастыря.
Монастырь этот лежит в ста двадцати верстах от города Ясс, при подошве Карпатских гор. Под ведением этого монастыря было тогда около семисот человек братии. Чин церковного богослужения и духовного окормления монашествующих находился в цветущем состоянии: иго турок и нищета братии много способствовали успехам внутреннего человека. К сему-то стаду, руководимому воистину премудрым вождем, Паисием, захотел сопричислиться и Феодор. Сам архимандрит Паисий находился тогда уже в болезненном состоянии, и почти никуда не выходил из келии. Феодор умолял, чтобы его приняли приближенные, но получил отказ: ему представили многочисленность братии, недостаток в средствах. Юный странник Феодор находился в крайности: деньги, взятые им из России были истрачены: летнее пальто, в котором он вышел из Карачева, обветшало от путешествия; наступала зима. Далеко зашедший в сторону, лишенный всего необходимого, отвергаемый приближенными старца, Феодор просил, по крайней мере, чтобы его допустили принять благословение Паисня. Это ему было позволено, и он предстал земному ангелу.
Паисий, увидя рубище и отчаянное положение юноши, заплакал от сострадания, утешил его словами любви сильными и причислил к своему священному стаду. С этого времени святый муж строго запретил, чтобы впредь кому бы то ни было отказывали без его ведома.
Обрадованный Феодор был отведен в хлебню. Свободной кельи не было. Для откровения помыслов и душевного назидания врученный Паисием духовнику, старцу Софронию, Феодор исповедал перед ним, по обычаю той обители, все грехи содеянные от самой юности, и был отлучен на пять лет от приобщения Святых Тайн Христовых.
Проведя несколько дней в хлебне, видит он в одну ночь во сне множество людей, как будто приведенных на суд; в числе их был и он. Перед ним пылал громадный огонь. Внезапно откуда-то явились какие-то необыкновенные мужи, извлекли его из толпы и ввергли в пламя. И стал он размышлять: отчего из всей этой большой толпы я один только брошен в этот страшный огонь. И на мысли его те мужи ответили:
– Так угодно Богу!
Проснувшись, он рассказал это видение старцу, и от него получил такой ответ:
– Огонь этот предзнаменует пламень искушений, которые должны тебя постигнуть на иноческом поприще.
Из хлебни Феодор поступил в послушание к строгому старцу, которому был поручен присмотр за монастырскими пчелами. Здесь Феодор таскал на своих плечах ульи, копал землю – словом, занимался необычайной для него черной работой. Трудно изобразить терпение, с которым он переносил подвиги телесные, укоризны начальника, непрестанно укоряя самого себя, со смиренною мыслью, что несет достойное наказание за многочисленные грехопадения свои. Пот трудов, чаша бесчестий, непрестанно им испиваемая, собственное смирение породили в нем чувство сокрушения и плача. Блаженная печаль эта, сокрушающая сердце, растворила молитву его особой силой. Иисус Господь, призываемый глубокими воздыханиями и нелицемерным сознанием немощей, мало-помалу очищал его ум, разгонял мрак страстей и возвеселял ученика Паисиевой обители и Своего странными и сладостными ощущениями, которых никогда не вкушала гортань мирянина, погребенного в житейских попечениях.
Так протекло около двух лет. Феодора, за непорочность жизни, отставили от тяжелого послушания на пчельне и сделали помощником на просфорне, находившейся в монастыре Секуле, зависевшем от Нямецкого и лежавшем от него в двенадцати верстах.
Подробно не будем говорить о трудах его в этом послушании; перейдем к обстоятельствам, которыми Бог возвел его на высоту добродетелей.
В пустынном месте, при потоке Поляна-Ворона, в пяти верстах от скита того же имени, жил старец Онуфрий, украшенный сединами не одних преклонных лет, но и сединами божественной мудрости. Происхождением из русских дворян, Онуфрий возлюбил Христа с самых ранних дней своего нежного детства. В юности он в продолжение шести лет, юродствовал Христа ради и, оставив юродство, удалился в Украину с другом своим, впоследствии иеромонахом Николаем, и на Украине принял ангельский образ. Онуфрий и Николай проходили вместе царский путь умеренности и взаимного совета. Обрадованные слухом о высоких достоинствах Паисия, они переселились из Украины в Молдавию и вручили себя великому старцу. Напитавшись чистою пшеницей его наставлений, получили от него благословение поселиться в пустыне, на потоке Поляна-Ворона, и там напоеваться потоками божественного созерцания.
Находясь в просфорне, Феодор все более и более приобретал чувство внутреннего умиления и горения сердечного. Чем более человек питается духовною пищею, тем более алчет ее. То же произошло и с Феодором. Душа его устремилась к жизни пустынной, и он стремление свое предал на суд старца своего, Софрония, прося его благословения послужить престарелому и ослабевшему уже в силах Онуфрию. Старец Софроний одобрил его намерение, тогда Феодор обратился с помыслом своим к великому старцу Паисию, и Паисий с любовью и радостью благословил его намерение и отправил к Онуфрию.
Переселившись к Онуфрию, Феодор вступил на путь совершенного и неограниченного послушания. Отсекая волю пред своим духовно-искусным и святым старцем, исповедуя ему все, даже мгновенные помыслы, он постепенно умирал миру, совлекал с себя мрачную одежду аристрастий ветхого человека и облекался в светозарный хитон нового – в блистающее святостию бесстрастие. Блаженное древо послушания произрастило свой обычный плод – Христоподражательное смирение. “Смиренного, – говорит Лествичник, – Бог обогащает даром рассуждения”.
Этим даром рассуждения и возблагоухал смиренный Феодор не наружно только, но и сердцем, внутренне.
Три подвижника эти – Онуфрий, Николай и Феодор, – имели прекраснейший обычай ежемесячно приобщаться Святых, Пречистых, Животворящих Христовых Тайн и ими очищались, просвещались, укреплялись в духовных подвигах и распалялись огнем божественных желаний. Онуфрий и Николай жили как братья. В келье Онуфрия, обиловавшего даром рассуждения, стекались толпы удрученных недоумением. Николай внимал самому себе и, не испытывая в глубоком безмолвии помыслы своего сердца, служил жертвою чистоты Существу Чистейшему. Феодор проходил то делание, которое святые отцы поставляют наряду с ис-поведничеством – святое послушание. Кажется, можно безошибочно сказать, что эти три земных ангела не только числом, но и самой жизнию, сияли во славу Животворящей Троицы. Не буду говорить о их терпении, кротости и воздержании, – повесть сделается слишком пространной, – довольно упомянуть о царице добродетелей, о той добродетели, именем которой назвал Себя Господь – о святейшей любви. Ее драгоценными узами соединялись эти три небесных человека воедино с Богом и друг с другом, горя пламенем чистейшей любви, усердно нося немощи немощных и отвергая всякое самоугодие. Николай и Феодор забывали себя, услуживая немощному телом Онуфрию, употреблявшему от немощи самую легкую пишу, и ту в весьма малом количестве. Онуфрий забывал свои немощи, духовным разумом своим облегчая им духовное делание.
Истинно, посреди их невидимо обитал несказанно сладостный Иисус, по неложному обещанию.
За единодушие их жизни посещены они были однажды тяжелым искушением, которое ясно засвидетельствовало благоволение к ним Домовладыки, сказавшего: “его же люблю, наказую”. Пошел Феодор в скит для таинства исповеди и святого Причащения. В его отсутствие, во время самого всенощного бдения, напали на их пустыньку разбойники и, похитив их малые запасы провизии, находившиеся в келье, возложили преступные руки свои на двух старцев, и оставили их израненными, едва дышащими. Заботливый и любящий уход за ними Феодора помог им поправиться. Тогда сам Феодор поражен был болезнью, которая едва не свела его в могилу. Но Бог хранил дни праведника для пользы грешников.
22 мая
Продолжение жития старца схимонаха Феодора. – Великие откровения этой части жития приснопамятного старца
Приближается новая печаль: кончина старца Онуфрия. За двенадцать часов до смерти открылись его сердечные очи: явилось ему судилище, которое встречает всякую душу, излетевшую от тела и судилище это было, как бы зримо соратникам Онуфрия. Праведник, истязуемый существами, для окружающих невидимыми, томился и давал ответы, из которых ясно виделось, что строгое осуждение человеческих недостатков было причиной этого страшного томления.
Онуфрий представился весной, в марте (Нетленная глава его и перси свидетельствуют по смерти о его несомненном спасении и святости).
Предав земле священные останки отца своего, Феодор продолжал жить с Николаем. Но пустыня, лишенная Онуфрия, не казалась уже для него столь любезною: ему попущено было уныние, вероятно, для того, чтобы светильник не оставался под спудом. Он вышел из пустыни, в которой жил пять лет со старцем Онуфрием и полгода с Николаем. Уходя, он получил от Николая заповедь, приехать за ним следующею весною и взять его с собою в Нямецкий монастырь.
Феодор с радостью был принят архимандритом Паисием, и начал проходить различные монастырские послушания: переписывал книги Отцов, переводимые Паисием с греческого языка на славянский, пел на клиросе, на котором впоследствии сделан был уставщиком, и, под руководством Паисия, обучился искусству всех искусств – умному деланию, умно-сердечной Иисусовой молитве (О ней см. в “Добротолюбии”).
С этого времени его начала преследовать зависть и преследовала до гроба.
По окончании зимы, он, получив благословение великого старца Паисия, отправился на поток Поляну-Ворону, откуда взял с собой смиренного и безмолвного Николая и вместе с ним возвратился в Нямеикий монастырь. Но недуги и глубокая старость стали истощать телесные силы Николая. На руках Феодора скончался великий Николай, и мощей его не коснулось тление.
Феодор пребывал в Нямииедо 1801 года и присутствовал при кончине знаменитого Паисия. Преемник Паисия по управлению монастырем, согбенный летами, лишенный зрения, старец Софроний, также уже приближался к своему закату.
Между тем, на Российский престол вступил Александр Благословенный. Милостивый манифест, им изданный, дозволял свободно возвращаться в отечество бежавшим из него за границу. Софроний, видя расстройство своего монастыря, побуждаемый некоторым предчувствием, посоветовал Феодору воспользоваться монаршею милоcтию и возвратиться в Россию. Феодор послушно оставил Молдавию и вернулся в Россию, облеченный в великий ангельский образ (схиму) старцем Софронием, питавшим к нему любовь необыкновенную.
Возвратившись в Россию, он явился к Орловскому архиерею Досифею и, по его желанию, избрал местом жительства Челнский монастырь. Здесь он занимался приведением в стройность чина Богослужения, копал пешеру и, что всего важнее, начал уделять ближним от тех духовных сокровищ, которые приобрел в Молдавии. Но злоба и зависть скоро восстали на Феодора, и он перешел в Белобережскую пустынь, где был строителем иеромонах Леонид (Впоследствии великий основатель оптинского старчества), несколько времени живший при нем в Челнском монастыре и питавшийся манною его учения. Но и здесь не укрылся он от зависти, ибо, по сказанию духоносцев, возвышался духовным совершенством, неимеющим пределов духовной высоты. Беспрестанно стекались в келью его братия, отягченные бременем страстей, и от него, как от искусного врача, получали исцеление. Не сокрыл он от них драгоценного жемчуга, хранимого в уничиженной наружности послушания, о котором он узнал не слухом только, но самим делом.
Он не погрузил в неизвестность таинства частого и стесненного призывания страшного имени Иисусова, которым христианин испепеляет сперва терние страстей, потом разжигает себя любовию к Богу и вступает в океан видений.
В то время в Белые Берега занесена была горячка. Ею заразились многие иноки. За ними ходил и прислуживал милосердный и любовный схимник Феодор. Но и его сломила болезнь. Он пришел в большую слабость; в течение девяти дней он не принимал никакой пиши; все думали, что для праведника пришел час смертный: в нем внезапно онемели все чувства; глаза широко открыты; дыхание едва заметно; движение членов прекратилось, но уста осветились райской улыбкой, и на лице играл нежный, яркий румянец.
Трое суток он находился в этом необыкновенном положении, и затем очнулся.
Прибежал отец строитель Леонид.
– Батюшка! – спросил он, – ты кончаешься?
– Нет, – ответил отец Феодор, – я не умру. Мне это сказано. Смотри, – бывает ли у умирающих такая сила?
И с этими словами подал ему руку. В это время к отец Феодору вбежал его любимый ученик:
– Я почитал тебя великим, – сказал ему отец Феодор, – но Бог показал мне, что ты весьма мал.
Вслед за этим он встал с постели, в одной рубашке, и, опираясь на костыль, поддерживаемый учениками, он пошел к больным, о которых ему было что-либо возвещено во время его исступления.
Невозможно изобразить всего того, что ему было открыто во время его замирания: чувственный язык не может с точностью изображать предметов духовных, и потому о них можно говорить только иносказательно и притом несовершенно; к тому же многие лица, о которых было открыто в видении, еще и поныне (Писано приблизительно в тридцатых годах прошлого столетия) наслаждаются временною жизнью, призываемые к покаянию.
Это состояние видения началось таким образом.
За несколько дней до болезни, однажды вечером отец Феодор примирял одного своего ученика с настоятелем и внезапно почувствовал в сердце своем необыкновенное утешение. Не будучи в состоянии скрыть этого чувствования, всю его непомерную сладость, он открылся в них намеком отцу Леониду. Затем началась болезнь, имевшая странное течение. Во все ее продолжение отец Феодор был в полной памяти, но на лице его обнаружилось обильное действие внутренней сердечной молитвы. Болезнь же тела проявлялась только жаром в теле и большой слабостью. Когда с ним началось состояние исступления, и он выступил из самого себя, то ему явился некий безвидный юноша, ощущаемый и зримый одним сердечным чувством; и юноша этот повел его узкою стезею в левую сторону. Сам отец Феодор, как потом рассказывал, испытывал чувство, что уже умер, и говорил себе: – я скончался. Неизвестно, спасусь ли, пли погибну.
– Ты спасен! – сказал ему на эти помыслы незримый голос. И вдруг, какая-то сила, подобная стремительному вихрю, восхитила его и перенесла на правую сторону.
– Вкуси сладость райских обручений, которые даю любящим Меня, – провещал невидимый голос. С этими словами отцу Феодору показалось, что Сам Спаситель положил десницу Свою на его сердце, и он был восхищен в неизреченно-приятную, как бы, обитель, совершенно безвидную, неизъяснимую словами земного языка! (Спаситель многими обителями у Отца называет различные меры ума водворяемые и оной стране, т.е., отличие и разность духовных дарований, какими наслаждаются по мере ума. Ибо не по разности мест, но степени даровании назвал обители многими. Как чувственным солнцем наслаждается каждый, соразмерно чистоте и приемлемости силы зрения, и как от одного светильника в одном доме освещение бывает различно, хотя свет не делится на многие светения, так в будущем веке все праведные нераздельно водворяются в одной стране, но каждый в своей мере озаряется умственным солнцем и. по достоинству своему, привлекает к себе радость и веселие, как бы. из одного воздуха, от одного места, престола, зрелища и образа. И никто не видит меры друга своего как высшего, так и низшего, чтобы, если увидит превосходящую благодать друга и свое лишение, не было это для него причиною печали и скорби”. (Исаак Сирин. “О Небесных Обителях”. Слово 5.)). От этого чувства он перешел к другому, еще превосходнейшему, затем к третьему; но все эти чувства, по собственным его слонам, он мог помнить только сердцем, но не мог понимать умом.
Потом он увидел, как бы, храм и в нем близ алтаря, как бы, шалаш, в котором было пять или шесть человек.
– Вот для этих людей, – сказал мысленный голос, – отменяется смерть твоя. Для них ты будешь жить.
Тогда ему был открыт духовный возраст некоторых его учеников. Затем Господь возвестил ему те искушения, которые должны были обуревать вечер дней его. В видении этом ему были даже указаны те самые лица, которые впоследствии устремили на него всю злобу. Но Божественный голос уверил его, что корабль его души не может пострадать от этих свирепых волн, ибо невидимый правитель его – Христос.
В короткое время, без лекарства, обновилось здоровье старца”.
23 мая
Продолжение и конец жития схимонаха Феодора
“Желая более уединения и безмолвной жизни, отец Феодор объявил об этом желании настоятелю и братии, и они устроили ему келью в лесу, в двух верстах от обители. В этой келье отец Феодор поселился с добродетельным иеросхимонахом Клеопою. В скором времени к ним присоединился и отец Леонид, добровольно сложивший с себя достоинство строителя.
Но не может укрыться град, стоящий на вершине горы: скоро слава о великих достоинствах Феодора разнеслась повсюду. Беспрестанно толпились при дверях его кельи многочисленные посетители и нарушали безмолвие пустынножителей. Феодор и сотрудники его, утомленные молвою, начали умолять Бога, чтобы Он устроил по святой Своей воле. Вскоре в сердце их возбудилось единодушное чувство, понуждающее их переселиться в северные пределы России. Три года они не могли осуществить сего на деле. Провидение определило Феодору прежде своих товарищей оставить Белые Берега. Он взял с собою на дорогу тридцать копеек, которые ему подарил игумен Свенского (В г. Брянске. Орловской губернии) монастыря и отправился в путь. Зная презрение праведника к деньгам, рожденное крепким упованием на Бога, один из его приверженцев, схимонах Афанасий, вложил тайно в суму его пятирублевую ассигнацию. По дороге, отойдя шестьдесят верст от Белых Берегов, Феодор встретил престарелую нищую и отдал ей эту ассигнацию.
Феодор направился к Новоезерскому монастырю, лежащему в восточной части Новгородской губернии, начальником которого в то время был знаменитый Феофан. Любовно им принятый, Феодор, был им приглашен возобновить Нилову пустынь и жить в ней со своими единомышленниками. Получив от Феофана письмо к митрополиту Амвросию, Феодор отправился к митрополиту, но Амвросий не согласился на предложение Феофана и отправил Феодора в возобновлявшуюся тогда Палеостровскую пустынь, лежащую на северном острове Онежского озера.
Здесь провидение судило Феодору вступить в огонь жестоких искушений. Настоятелем Палеостровской обители был некто Белоусов, происхождением купец, купивший себе дворянство, а затем и монашество вместе с достоинством строителя. Никогда не знавший послушания, не соображавший с заповедями истинного христианства и иночества. Белоусов заразился завистью к Феодору и начал его притеснять. Не удовлетворившись этим, он с разными клеветами поехал на него жаловаться митрополиту.
От владыки митрополита Белоусов вернулся с приказанием, в котором было сказано: “Схимонаха Феодора никуда не пускать и ни в какие монастырские распоряжения ему не входить: если же сделает что непристойное, противное своему чину, то, лишенный чина, будет послан в светскую команду”. Это было прочитано в трапезе, причем Белоусов запретил добродетельному старцу входить в кельи к другим инокам, впускать их в свою, разговаривать с богомольцами.
– Все сие случилось, – сказал на это смиренномудрый Феодор, – за тяжкие мои грехи, за мою гордость и на невоздержанный мой язык. Слава Тебе, милосердному Создателю моему и Богу, что не оставляешь меня, многогрешного и скверного, но посещаешь и наказуешь меня за мои беззакония Своим милосердием и благоутробием отеческим”. Через несколько времени Феодор стал просить подать просьбу о переводе своем на Валаам, но получил отказ.
– Видно, – сказал он, – так угодно Богу. Буди имя Господне благословенно отныне и до века!
Вновь был послан указ, и в нем было сказано: “Феодора схимника из ворот монастырских никуда не выпускать, и не допускать ни в какие советы”.
– Милосердый Господь и Создатель мой, – сказал Феодор, – дай мне и сие, и что впредь может случиться за грехи мои, претерпеть с благодушием и благодарением. Дай мне, отныне, по крайней мере, положить начало к житию по Твоей святой воле и клюблениюТебя, милосердого Бога, Создателя моего и Искупителя!
Вскоре после этого указа Белоусов послал ему приказание выйти на покос, грести сено.
– Не могу выйти после указа, – отвечал Феодор. Белоусов разгорячился и закричал:
– Я тебя посажу в погреб и буду кормить травою.
– Как вам угодно, так и делайте, – сказал Феодор, – однако, верую милосердому Богу моему: мне сделать могут только то, что Он попустит за грехи мои; а что Он попустит, того я и сам желаю.
Лучше мне в сем веке понести наказание, нежели в будущем веке мучиться.
Два года продолжались притеснения со стороны настоятеля. Два года, лишенный одежды и обуви, сплетал он себе венец терпения. Наконец, видя расстройство Палеостровской обители и непримиримую ненависть строителя, он решился явиться к митрополиту для личного объяснения.
Перемешенный им в Валаамский монастырь, он поселился в одном из его скитов, но за самовольную отлучку из Палеострова был на год лишен камилавки.
Еще прежде него переселились в Валаамский монастырь из Белых Берегов иеросхимонахи Клеопа и Леонид со многими другими приверженцами отца Феодора.
Около шести лет пребывал Феодор в этом знаменитом монастыре и привлек к себе почти всю братию. Это возбудило зависть начальствующих. Составилось сонмище, подобное преступной синагоге, предавшей на казнь Сына Божия, и Валаамские мнимые праведники захотели стереть с лица земли праведника истинного. Но об этом довольно будет, если скажем, что тогда сбылись самим делом откровения, виденные им в Белых Берегах, сбылось и избавление, обещанное ему Спасителем. События эти слишком недавни, и потому о них запрещено распространяться.
Предпослав Клеопу в обитель Георгия (?) еще во время своего пребывания на Валааме, Феодор переселился с Леонидом в Александро-Свирский монастырь. Цепь дней его была цепью искушений… За полтора года до преставления его постигла тяжелая болезнь. В тяжкие приступы припадков недуга он твердил одно слово: “Слава Богу”!
За день до кончины он имел видение: он видел себя в некоей великолепной церкви, исполненной белоризиев, и из их среды, с правого клироса, услышал торжественный голос покойного друга своего, иеросхимонаха Николая:
– Феодор! Настало время твоего отдохновения прийти к нам.
Это совершилось в пятницу Светлой седмицы 1822 года. В девятом часу вечера заиграла на устах Феодора радостная улыбка, лицо его просветилось, черты изменились божественным странным изменением. Ученики, окружавшие одр старца, забыли слезы и сетования и погрузились в созерцание величественной необыкновенной кончины. Благоговейный страх, печаль, радость, удивление овладели вдруг их чувствами: они ясно прочитали на челе отца своего, что душа его с восторгом излетела в объятия светоносных Ангелов.
Смерть праведника есть рождение для новой радостнейшей жизни; смерть праведника есть сладостнейшая жатва тучных классов, прозябших из семени искушений и подвигов; смерть праведника есть величественное исшествие души, сбросившей деянием и видением страстные оковы темницы тела. Душа эта на пути своем к небу не убоится встречи лукавых демонов. Смерть праведника есть полет его, стремительный и неудержимый, на крыльях любви к Источнику любви. Господу Иисусу.
Отче святый! Ты ныне обитаешь в райских чертогах и ненасытимо наслаждаешься хлебом небесным, пролей о нас молитву пред Царем царей, не предай чад твоих челюстям вражиим, будь нам помощником в страшные смертные минуты и представь нас Лицу Всевышнего, да и мы соединим с ликующим гласом твоим наши слабые гласы и удостоимся с трепетом прославлять в вечные веки Триипостасного Бога, славимого всею вселенной. Аминь.
24 мая
Доброе слово памяти В.И. Аскочевского. – Нечто о “догмате непогрешимости” римского папы, о чем вряд ли знают и римско-католики
Сейчас у меня в руках был двадцать первый выпуск журнала “Домашняя Беседа” того же двадцать четвертого мая, что и сегодня, когда записываются эти строки, но только сорок лет тому назад 1869 года. Ровно сорок лет исполнилось сегодня пожелтевшим страницам этим, издававшимся в конце пятидесятых, в шестидесятых и семидесятых годах знаменитым в то время борцом за коренные устои русской жизни, Виктором Ипатьевичем Аскочевским, крепким и бестрепетным стоятелем за веру Православную, за царя самодержавного, за великий верою своею и смирением народ русский. Либеральные мамаши тех годов именем Аскочевского детей своих пугали, как в доброе старое время няни – букой.
Царство Небесное подвижнику русского духа!
Надо же тому быть, что вчера я окончил выписку в свои заметки из оптинскнх рукописей жития в православной вере подвизавшегося старца схимонаха Феодора, а сегодня в “Домашней Беседе” я нашел выписку из свода определений непогрешимости папы, как догмата, установленного лже-вселенским собором при папе Пие IX в 1869 году!
Может ли быть для ищущего вселенской правды что-либо назидательнее и любопытнее, как сопоставление друг с другом этих двух выписок?! “Папа – учатлатины, – есть Божественный человек и человеческий Бог. Посему никто не может судить его, или о нем. Папа имеет Божескую власть, и власть его неограничена. Ему возможно на земле то же самое, что на небесах Богу. Что сделано папой, то все равно, что сделано Богом. Заповеди его должно исполнять, как заповеди Божий.
Для него возможно все, кроме греха, как все возможно Богу. Только один Бог подобен папе; папа повелевает небесными и земными вещами. Папа в мире то же, что Бог в мире или что душа в теле. Власть папы выше всякой сотворенной власти, ибо она некоторым образом распространяется на предметы небесные, земные и преисподние, да оправдываются на нем слова Писания: “вся покорил еси под нозе его”.
Во власть и волю папы отдано все, и никто и ничто не может ему противиться. Если бы папа увлек за собою в ад миллионы людей, то никто бы из них не имел права спросить его: отец святой, зачем ты это делаешь?
Папа непогрешим, как Бог, и может делать все, что Бог делает. Папская консистория есть Божия консистория, в которой он состоит ключарем и привратником. Никто не имеет права приносить жалобу Богу на папу или на суд, произнесенный папою. Воля Бога, а следовательно, и папы, который есть наместник Бога, – первая и верховная причина всех духовных и телесных движений. Папа имеет верховную власть повсюду. Он опоясан двумя мечами, то есть властвует над духовными и мирскими: над патриархами и епископами, над императорами и королями. Все люди на свете – его подданные. Он все, выше всего и содержит в себе все. Что он хвалит или порицает, то должны все хвалить или порицать.
Папа может изменить природу вещей, делать из ничего что-либо. Он властен из неправды сотворить правду; властен против правды, без правды и вопреки правде делать все, что ему угодно. Он может возражать против апостолов и против заповедей, преданных апостолами. Он властен исправлять все, что признает нужным в Новом Завете, может изменять Самые Таинства, установленные Иисусом Христом. Он имеет такую силу на небесах, что из умерших людей властен возводить в святые, кого захочет, даже против всех посторонних убеждений и вопреки всем кардиналам и епископам, которые вздумали бы тому воспротивиться (Из буллы папы Клемента Пятого видно, что он может приказать ангелам вынести из чистилища и доставить на небо в рай души пилигримов, умерших на пути в Рим). Папа имеет власть над чистилищем и адом. Он – владыка вселенной. Неограниченною своею властью он делает все единственно по своему произволу, может делать даже более, чем нам или ему известно. Сомневаться в его могуществе – святотатство. Власть его выше и обширнее власти всех святых и ангелов. Никто не имеет права даже мысленно протестовать против его приговора или суда.
Власть папы не имеет меры и пределов. Кто отрицает верховную власть и главенство папы, тот грешит против Святого Духа, разделяет Христа и есть еретик. Только папе предоставлена власть отнимать что бы то ни было у кого бы то ни было и отдавать другому. Папа имеет власть отнимать и раздавать империи, королевства, княжества и всякое имущество. Власть свою папа получает прямо от Бога, а императоры и короли – от папы. Папа есть наместник Бога, и кто отрицает это, тот лжец.
Папа есть вместоправитель Бога над добрыми и злыми ангелами; что совершается властью папы, то совершается властью Бога. Никто не имеет права входить в Божию консисторию иначе, как посредством папы и с его дозволения, потому что папа есть привратник жизни вечной. Кто утверждает, что папа не есть глава Церкви, тот заблуждается в догмате веры. Кто не повинуется папе, тот не повинуется Богу. Все, что папа делает, угодно Богу.
Папу не может судить никто, потому что сказано: “духовный востязует вся, а сам той ни от единого востязуется”. Власть его распространяется на небесное, земное и преисподнее. Он есть подобие Христа, и в теле его живет Святы и Дух.
Папа есть государь всех, царь царей и причина всех причин. Один лишь он может разрешить и уничтожить присягу подданных своему повелителю. Папа превосходит всякое величие и все достоинства земные. Папа есть жених и глава Вселенской Церкви. Папа не может заблуждаться. Он всемогущ; в нем вся полнота власти. Он властен распоряжаться в противность естественному праву. Он выше апостола Павла, ибо по призванию своему стоит наравне с апостолом Петром. Он может, поэтому, возражать против посланий апостола Павла и отдавать приказания, противоположные его посланиям. Обвинять папу все равно, что грешить против Духа Святого, что не прощается ни в сем веке, ни в будущем.
Тройственная корона папы означает тройственность его власти: над ангелами на небесах, над людьми на земле и над бесами в аду.
Бог предоставил во власть папы все законы, а сам папа выше всех законов.
Если папа изрек приговор против суда Божия. то суд Божий должен быть исправлен и изменен.
Папа – свет веры и отражение истины.
Папа есть все над всем и может все…”
Таково изложение догмата непогрешимости папы. Осведомлены ли о нем те из рожденных в православии, кто в римской церкви стремится обрести истину? Знают ли о нем и сами католики?
И вспоминаются мне слова пророка Исайи, обращенные к падшему херувиму Деннице, ставшему богоборцем – диаволом. “…Как упал ты с неба. Денница, сын зари! разбился о землю попиравший народы. А говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен во ад, в глубины преисподней”… (Ис. 14, 12-15).
Что осталось теперь от светской власти папы? велик ли авторитет его теперь и в самой-то римской церкви?
“Разбился о землю попиравший народы!..”
25 мая
С.А. Манаенкова. – О том, как я поселился в Оптиной. – Слова отца Егора Чекряковского о нашем поселении в Оптиной. – Мой сон об отце Амвросии Оптинском. – Видение отца Амвросия в тонком сне. – Старец отец Иосиф и мой сон
Приехала помолиться, пожить и отдохнуть в Оптиной София Александровна Манаенкова. Это раба Божия – дитя оптинского духа: о ней стоит поговорить особо.
Наше знакомство впервые завелось в августе 1907 года, когда мы с женой приезжали из Валдая, где тогда временно проживали, в Оптину пустынь помолиться Богу, поговеть и войти в общение с оптинскими старцами, которых я любил и знал, но с которыми жена моя лично еще не была знакома. По моим рассказам она уже успела душой привязаться к ним: надо было привязанность эту закрепить личным свиданием, что и было сделано Успенским постом того незабвенного 1907 года, когда старцами было решено наше поселение на жительство с ними, на благословенной земле Оптинской… Впрочем, я, помнится, еще ничего не записал о том, как совершилось это важнейшее в нашей жизни событие. Запишу, пока оно еще свежо в памяти, а потом – честь и место Софье Александровне.
Дело было так.
В конце июля 1907 года говорит мне жена:
– Что же это мы все никак не можем собраться в Оптину? Столько ты мне наговорил о ее духовной красоте, о ее старцах, о живописности ее местоположения, а как ехать туда, так ты все оттягиваешь. Напиши отцу архимандриту и отцу Варсонофию, что собираемся к ним погостить. Ответят, и тогда – с Богом.
Я так и сделал.
Вскоре от обоих старцев я получил ответ, с любовью нас призывающий под покров оптинской благодати на богомолье и на отдых душевный, сколько полюбится и сколько поживется.
Мы наскоро собрались и поехали.
На жену Оптина произвела огромное впечатление. Про меня говорить нечего: я не мог вдосталь надышаться ее воздухом, благоуханием ее святыни, налюбоваться на красоту ее соснового бора, наслушаться ласкающего шепота тихоструйных, омутистых вод застенчивой красавицы Жиздры, отражающей зеркалом своей глубины бездонную глубину оптинского неба…
О, красота моя оптинская! О, мир, о, тишина, о, безмятежие и непреходящая слава Духа Божия, почивающая над святыней твоего монашеского духа, установленного и утвержденного молитвенными воздыханиями твоих великих основателей!..
О, благословенная моя Оптина!
К Успеньеву дню мы готовились, а на самый велик день Богоматери удостоились быть и причастниками Святых Тайн. На следующий день шестнадцатого августа, был праздник Нерукотво-ренному Спасу, день из-за родового нашего образа особо чтимый в моей семье. Мы были у поздней обедни. После отпуста мы с женой направились к выходу из южных врат храма. У самого выхода, у Казанской иконы Божией Матери, нас встречает один из старцев, иеромонах отец Сергий и, преподавая нам свое благословение, неожиданно для нас говорит:
– Как жаль, С. А., что вы от нас так далеко живете!
– А что?
– Да вот, видите ли, есть у нас помысл издавать Оптинские листки вроде Троицких: жили бы вы где-нибудь поблизости, были бы нашим сотрудником.
– Зачем же, – говорю, – дело стало? Мы, слава Богу, люди свободные, никакими мирскими обязанностями не связанные: найдется для нас в Оптиной помещение – вот мы и ваши.
– Ну что ж, – говорит старей, – Бог благословит. Переговорите с отцом архимандритом и с отцом Варсонофием: благословят они – и поселяйтесь с нами: что может быть лучше нашей оптинской жизни?!
Мы были вне себя от неожиданной радости.
Разговор этот происходил в Введенском храме, как раз под Казанской иконой Божией Матери, у правого клироса Никольского придела.
И запали нам слова батюшки отца Сергия в самую глубину сердечную: и впрямь – что может быть лучше жизни Оптинской?!..
Когда-то в Оптиной проживал на временном “покое” один из ее знаменитых постриженцев, впоследствии архиепископ Виленский, архимандрит Ювеналий (Половцев). Во внешней ограде монастырского сада он выстроил себе в конце семидесятых годов прошлого столетия отдельный корпус со всеми к нему службами, прожил в нем лет десять и оттуда был вызван на кафедру Виленской епархии. С тех пор корпус этот, перешедший в собственность Оптиной, стоял почти всегда пустой, изредка лишь занимаемый на короткое летнее время случайными дачниками. Вот об этом-то корпусе, вернее, усадьбе, я и вспомнил после знаменательного для нас разговора с отцом Сергием под Казанской иконой Матери Божией. Решили пойти его смотреть. Послали в архимандритскую за ключами и, пообедав у себя в гостинице, пошли около часу дня присматривать себе новое жилище.
В этот час вся Оптина отдыхает.
На площадке между монастырскими жилыми корпусами и храмами не было ни души, никого даже из богомольцев не было видно на всем пространстве обширного внутреннего двора обители, когда я с женой и с одной валдайской старушкой, нашей спутницей, проходили по нему, направляясь в сад к Ювеналиевской усадьбе.
Подошли к Казанской церкви. Я остановился перед нею, снял шляпу, перекрестился и, пользуясь тем, что кругом посторонних никого не было, вслух молитвенно сказал:
– Матушка, Царица Небесная, если Тебе угодно, чтобы мы здесь поселились под Твоим кровом, то Ты уж Сама благослови!
И не успел я до конца промолвить последнего слова “благослови”, как неожиданно из-за угла Казанской церкви показался с полным ведром воды в руках один из старейших оптинских иеромонахов, ризничий отец Исайя, некогда бывший старшим келейником великого старца Амвросия. Услыхал он мое слово, поставил свое ведро на землю и не без живости меня спросил:
– На что благословить-то?
Так нас эта встреча взволновала, что я едва был в состоянии толком объяснить отцу Исайи, на что я просил благословения у Царицы Небесной. Снял батюшка с головы своей камилавку и, благословляя нас, растроганным голосом произнес:
– Бог да благословит вас! Да благословит намерение ваше доброе Сама Царица Небесная!
И пока благословлял нас отец Исайя, вокруг нас, откуда ни возьмись, собралось еще три иеромонаха: благочинный, отец Илиодор, отец Серапион и скитский иеромонах, отец Даниил (Болотов), наш особо близкий друг и доброжелатель, – и тут все четверо благословили наше водворение под кров обители Оптинской, созданной и освященной в честь и славу Введения во храм Пресвятой и Пренепорочной Приснодевы Богородицы.
Для меня такое “совпадение” было знамением. Знамением оно показалось и всем в тот час с нами бывшим.
Чего только? Тут ли на земле это откроется, или там, на небе, – одному Богу известно.
Отец Даниил, – Царство ему Небесное! – пошел с нами в наше будущее гнездышко и на коленях, милый и любвеобильный старец, помолился там с нами пред иконой Смоленской Божией Матери (Домовая икона корпуса. Одигитрия-Путеводительница), чтобы укрыла Она нас в гнездышке этом от зла века сего, от клеветы человеческой.
До чего же нам тогда полюбилось Ювенальское затишье!..
О, как было бы желанно в нем и жизнь свою кончить!.. С отцом архимандритом уговор о жительстве нашем покончен был с двух слов; обычно же наш авва никому из мирских не позволяет подолгу заживаться в Оптиной. И это нам было тоже в знамение.
Съездили мы тут же с женой к отцу Егору Чекряковскому (О нем – в книге моей “Великое в малом”. Село Спас-Чекряк. где священствует батюшка, от Оптиной на лошадях пятьдесят пять верст) моему присному советнику в важные минуты жизни; он тоже благословил нам поселиться в Оптиной.
– Благословите, – говорю ему, – батюшка, поселиться нам в Оптиной до смерти.
– Да, да, – ответил он, – годочка два, – ну три, – поживите, поживите! Только условие с монахами напишите, а то, ведь, их там не один человек: мало ли что может случиться?!
– Батюшка! – опять говорю, – уж вы до смерти нам там жить благословите!
А он все свое:
– Годочка два-три поживите. Ведь, вы сами знаете, что теперь почетных мест нет: какие теперь могут быть почетные места-то?!
Очень нам тогда слова эти были не по мысли.
Все это происходило в августе 1907 года, а в первую ночь в новом своем оптинском приюте мы провели с тридцатого сентября на первое октября того же года.
Первое утро нашей оптинской жизни, таким образом, было утром Покрова Божией Матери: милости Ее искали – милость Ее в Покрове и получили, под кровом Ее Обители в среде Ее верующих послушников оптинских.
И это тоже было вере нашей в знамение.
И вспомнился мне тогда мой сон, виденный мною лет за семь или за восемь до нашего переселения в Оптину. Было это, стало быть, в начале 1900 годов. В те годы я еще продолжал быть довольно крупным помещиком Орловской губернии. Скорби моей личной и помещичьей жизни тогда впервые меня затянули искать совета и утешения у оптинских старцев, и тогда же я впервые ознакомился с поразившим мое чувство житием присноблаженной памяти великих старцев Льва (Леонида), Макария и, наконец, нашего современника Амвросия. С этого посещения Оптиной пустыни прилепилось мое сердце к этому великому и святому месту узами неумирающей, святой любви и вечной благодарности; с этого жития и открылся мне тайник сокровенного оптпнского духа, выпестовавшего таких богатырей русской мысли, как братья Киреевские, напоившего до сытости и меня водами источника жизни, приснотекущего в блаженнейшую вечность и именуемого истинным старчеством, истинным монашеством.
Я не застал в живых ни великого Амвросия, ни великого Анатолия (Зерцалова), еще так недавно блиставших чистыми звездами на тверди оптинской, но узнал и сблизился, в мире моей духовной скудости, с их еще здравствовавшими тогда сотрудниками исотаинниками. И этого было для меня довольно – предовольно, ибо большего не могло бы вместить убожество моего сердца и духа.
– Выйди от меня. Господи, ибо я человек грешный! – воскликнул первоверховный апостол Петр Спасителю мира, ибо наполнились лодки и стали тонуть от великого множества рыбы, пойманной им и другими с ним бывшими рыболовами… Не могло бы и мое грешное сердце вместить всего духовного оптинского улова, если бы он открылся мне во всей неизмеримой своей полноте, во всей глубине своей непостижимой…
И вот, вскоре после первой моей поездки в Оптину, я видел сон: иду будто, из монастыря в скит заветной дорожкой и несу к отцу Амвросию великую и безнадежную скорбь моей души, обремененной всякими грехами, подхожу к скитским святым воротам и вижу, что на месте “хибарки” (“Хибаркой” у оптинских старцев, живущих в скиту, называется пристройка к их келье, отведенная для приема на совет женщин. Вход в эту пристройку с наружной стороны скитской ограды. Внутрь ограды вход женскому полу воспрещен) стоит большое, белое каменное здание; но я знаю, что это, все-таки, прежняя батюшкина хибарка. Вхожу в нее; меня встречает монах высокого роста, плотный и широкоплечий; волосы у него не очень длинные, белокурые, со значительной проседью, и вьющиеся природными мелкими завитками. Одет он в белом балахоне, какой летом у себя в келье носят оптинские монахи (Я останавливаюсь на подробностях внешности этого монаха, потому что именное этими подробностями я признал, теперь, уже спустя семь-восемь лет, в виденном мною во сне монахе, оптинского старца, отца Анатолия (Зерцалова), портрет которого я на днях увидал в келье отца Варсонофия, нашего духовника и старца. Портрет этот писан искусной рукой отца Даниила (Болотова) и, сказывают, похож, как две капли воды, на свои оригинал)… Я знаю, что это келейник старца.
– Батюшка! – обратился я к нему, – можно ли мне видеть отца Амвросия?
– Можно, – говорит, – он вас… (при этом он встал со стула и пристально взглянул мне в глаза), он вас примет.
– Я слышал, что он все болен.
– Нет, – говорит, – он у нас совсем здоров, совсем здоров!
И с этими словами монах повел меня внутрь “хибарки”. Ввел он меня в просторную, высокую, под сводами, комнату, сияющую ослепительной белизной своей побелки. Огромное, во всю стену, окно освещает эту комнату яркими и теплыми лучами чудного летнего дня. В комнате стоит аналой, на аналое крест и Евангелие. Никакой мебели в комнате этой не было.
– Подождите здесь, – сказал мне монах, – к вам батюшка сейчас выйдет.
Сказал и вышел.
И он вслед вошел, небесный человек и земной ангел! Вошел в епитрахили и в поручах, светлый, благостный, любвеобильный, старенький, седенький, но живой в движениях и быстрый, и… такой, такой добрый, такой любящий, такой всепрощающий…
Я упал ему в ноги и залился слезами…
И плакал я долго, безудержно, безутешно плакал и, плача у ног его, все говорил, все говорил ему, прерывая слова свои рыданиями, про все скорби мои, про грехи юности моей и неведения, про грехи знания и противления моего, про соблазны и соблазненных мною, любящих меня, любимых мною моих дорогих и близких – про все, про все свое я говорил ему. И когда я все сказал, все выплакал под ноги великому и святому старцу, тогда он поднял меня с полу и стал мне в свою очередь что-то говорить, и говорил долго, ласково, любвеобильно. И по мере того как он мне говорил свои, сердцу моему сладкие речи, тоска и скорбь моей души начинали от нее отходить мало-помалу, и все светлее и светлее становилось на сердце, измученном неправдою моей нехристианской жизни. Но что мне говорил великий старей, того не запомнил я ни во сне, не помнил и тогда, когда проснулся… И после речей своих, забвенных мною, покрыл меня батюшка своей епитрахилью, отпустил мне грехи мои многие, дал поцеловать крест и евангелие, положил мне свою руку на левое плечо и сказал такое слово:
– Ну, вот что, друг, скажу я тебе: и прокурором будешь, а Исаакия все равно не минуешь. Господь с тобою!
И я весь в слезах проснулся, а в ушах еще звенели последние слова великого старца.
И подумалось мне, старец скончался во дни настоятельства в Оптиной пустыни архимандрита Исаакия… Уж не монахом ли мне быть в его обители? Мирской человек со всеми своими привязанностями и чувствами, я отогнал эту мысль, как нелепую, но сон этот не мог уйти из моей памяти…
И вот, я – в Оптиной: Исаакия, стало быть, не миновал, успокоенный, утешенный святыней оптинского духа и всем, чем наделил меня от щедрот Своих Господь…
Что значит: “и прокурором будешь?..” Сейчас не понимаю. Когда-нибудь узнается, если будет угодно Богу…
Вскоре после поселения нашего в Оптиной пустыни жена в тонком сне, ночью, видела отца Амвросия в нашем доме: вышел старец из нашей моленной, прошел к нам в спальню, подошел к нашей кровати и о чем-то долго со мною говорил, но о чем – жена не слыхала.
Я в эту ночь спал крепко и никаких снов не видел. Про этот сон свой жена рассказала другу нашему, отцу Даниилу (Болотову).
– С нашими старцами, – сказал он – это бывает: поселится кто в обители новый, они его навестят непременно, посмотрят, как живет, иногда вразумят, наставят, а то и наказанием взыщут.
Про свой сон об от отие Амвросии я рассказывал старцу отцу Иосифу. Он не без волнения рассказ мой выслушал и признал его истинным, но объяснения ему не дал. Говорю – “не без волнения”, потому что я видел, как во время моего повествования глаза батюшки Иосифа затуманились слезой, и одна тихо-тихо скатилась по его ланите…
И вот, уже седьмой месяц доходит второго года, что мы живем здесь, в тихом нашем пристанище, тихо и радостно. Что будет дальше?
Твори, Господи, волю Свою!
26 мая
С.А. Манаенкова. – Кощунство над девятичинной просфорой. – Беснование как наказание за кощунство. – Исцеление Манаенковой на могиле старца Амвросия Оптинского
София Александровна Манаенкова (Главное действующее здесь лицо названо, с его разрешения, полным его именем), о приезде которой я упомянул вчера, обязана жизнью своей души святыне и дерзновению перед Богом молитв почивших и живых оптинских старцев.
Вот что с ней было.
– Происхожу я, – рассказывала мне София Александровна, – из потомственных дворян Орловской губернии. У родителей моих было маленькое именьице в Елецком уезде. Доходов с имения этого едва хватало нашей семье, чтобы еле-еле сводить концы с концами, питаясь, как говорится, с хлеба на квас. Когда я подросла, меня родители отдали в Орловский институт, который я и кончила благополучно в восьмидесятых годах прошлого столетия. Не успела я окончить курса, как передо мною во весь рост встал роковой вопрос: чем существовать? У матери моей, с ее крохотными средствами к жизни, сил не было содержать меня в праздности. В руках у меня был диплом. Недолго раздумывая, с помощью добрых людей, я открыла в Ельце школу для девочек, постепенно развертывая ее в частную женскую гимназию с правами казенных гимназий. Дело мое пошло настолько хорошо и стало на такую прочную почву, что мой годовой личный заработок начал давать мне средства к жизни в полном довольстве, без роскоши, но ни в чем себе не отказывая.
Неподалеку от имения матери, в нашем же уезде, находилось и имение одной моей институтской подруги, вышедшей к тому времени замуж за известного в Орле доктора Голостенова (Голостенов Николай Николаевич). Во время летних вакаций я жила в деревне у матери, и мы часто виделись с моей подругой и с ее семьей, проводившей лето тоже в своей усадьбе.
У мужа моей подруги была сестра, молодая девушка, с которой я тоже подружилась. Все мы были молоды, здоровы, полные сил и энергии; всем нам жизнь улыбалась – жилось, словом, уютно, дружно, весело, беззаботно; не забивая головы никакими сложными вопросами да и сердца не отягчая ничем, что могло бы заставить его биться сильнее обыкновенного.
И вот, в такую-то беззаботную, чуждую всяких духовных запросов жизнь, проникло, наконец, извне и нечто от духа: муж моей подруги, доктор Голостенов, увлекся гипнотизмом и спиритизмом и увлечением своим заразил и нас. Завелись в нашем кружке собеседования по этому вопросу, появилась целая литература предмета, возбудился горячий интерес к изучению на практике явлений из области того же духа. “Коего духа” были эти явления, никто из нас не интересовался: какое кому было до этого дело – было бы только интересно и весело да вносило бы оживление в однообразие захолустной деревенской жизни! Взбудоражился наш тихий мирок, обрадовавшись, как дитя, новой, пряной духовной пище, которой ему не была в состоянии дать ни казенная наука, ни то, что нам тогда казалось нашей религией. Религия!.. Мы все были православные по крещению, по диплому, в котором были обозначены наши “успехи” в Законе Божием, но по духу, по проникновению в великое таинство нашей веры и нашего спасения, мы ничем не отличались от язычников. Мы были круглые невежды в нашем Православии, мы были даже хуже язычников.
И вот, углубились мы по уши в изучение новых духовных возможностей. От теории, обильно уснащенной примерами практики, мы не замедлили перейти и к самой практике: стали заниматься внушением и отгадыванием мыслей, стали вертеть блюдечко и вступать в общение с невидимым миром по способу и указке той “науки”, которой до сих пор увлекаются сознательные и бессознательные отступники от веры Христовой. К занятиям этим наиболее способными из нашего кружка оказались я и сестра мужа моей подруги, и мы до того увлеклись производством “чудес” из области новой для нас “науки”, что ради новых радостей духа часто готовы были даже позабыть и об утешениях плоти.
И вот, наступил, наконец, день расплаты за наше безумие. Был день ангела моей подруги. Все мы были в сборе у нее в доме. Подруга моя утром была у обедни в своем селе. Мы ждали ее с чаем, с пирогом, с разными подарками. Настроение у всех было приподнятое, праздничное… За чаем было шумно и весело… Отпили чай. Что будем делать? Давай за свое, что более всего захватывало в то время нашу душу – за внушение. Решено было, что я должна уйти в дальнюю комнату дома, там что-нибудь задумать и задуманное внушить сделать сестре мужа моей подруги.
Дальняя комната была спальней и кабинетом моей подруги и ее мужа.
Я, не долго думая, побежала в эту комнату, конечно, одна, оставив остальную компанию под взаимным надзором в столовой, где пили чай. Первое, на что упал мой взгляд в кабинете, была девятичинная обеденная просфора, которую от Литургии принесла моя подруга. Просфора лежала на письменном столе it, как предмет для него необычный, прямо мне бросилась в глаза. Я схватила ее и перенесла на умывальник. “Пусть, – задумала я, – она (сестра мужа моей подруги) возьмет ее с умывальника и переложит обратно на письменный стол”. Задумала и крикнула:
– Готово!
На мой крик сбежались из столовой все, а та, которой я внушила исполнить мною задуманноое, нимало не колеблясь, кинулась сперва к письменному столу, от него – к умывальнику и только, было, хотела протянуть руку к просфоре, как внезапно, точно отброшенная чьей-то могучей рукою, перевернулась вокруг себя один раз и грохнулась на пол в обмороке, а я на том же полу уже билась в конвульсиях припадка падучей. Внушенная оправилась скорее, а меня, внушительницу, отходили только через три часа, несмотря на помощь доктора, мужа моей подруги. Обе мы ничего не помнили, что с нами было, не понимали, как и отчего могло это с нами произойти. Ничего, конечно, не понимал в этом и доктор.
И вот, с самого этого памятного и страшного дня, перевернулась до неузнаваемости вся моя жизнь. Никогда не знавшая никакой болезни тела, души же и того менее, я стала подвергаться припадкам, так называемой, падучей болезни, эпилепсии, как зовется она людьми науки. Сперва изредка, – раз в три месяца, – затем каждое новолуние, а потом повторяясь и по нескольку раз вдень, припадки эти меня довели до полного изнеможения, до потери всякой способности к какому бы то ни было труду. Пришлось уйти от любимого моего дела, от источника моего пропитания. И чем дальше, тем все хуже и хуже становилось мое состояние. Дошло до того, что мною овладело полное отчаяние, и я стала посягать на свою жизнь. Счету нет, сколько раз покушалась я на самоубийство.
И стала я всем в тягость, а себе ненавистна, как лютый и беспощадный враг. В таком состоянии невмоготу себе и людям, прожила я что-то около пятнадцати лет… Из молодой, здоровой девушки, видите, в какую я теперь превратилась старуху? (Когда мне С. А. нее это рассказывала, ем с небольшим было лет сорок – сорок пять, но на вид она казалась гораздо старше).
Болезни моей, от которой меня лечили всякими средствами, конечно, никто не понимал. Не понимала ее и я.
Как-то раз, в скитаниях моих по родным с одного хлеба на другой, поселилась я на временное жительство к родной своей сестре. Замужем она за начальником станции. Жалованьишко у мужа небольшое; семья огромная. Жутко мне было сидеть на их спине нахлебницей, да еще припадочной, а делать было нечего – пришлось сидеть. Муж сестры – человек простой, без особого образования, недобрый и глубоко, по-старинному, верующий.
– А что, Соня, – спрашивает он меня как-то раз, – давно ли ты говела?
– Да с тех пор, – отвечаю, – как больная, ни разу не говела.
– Ах, матушка, – воскликнул он с живостью, – да разве ж так можно? И не нашлось у тебя ни одного доброго человека, кто бы об этом позаботился. Да, так-то и без болезни болен сделаешься. Непременно поговей, поисповедайся да причастись Святых Христовых Тайн: Бог милостив, глядишь, и выздоровеешь.
Я не отказалась.
Поговела я, походила в церковь, поисповедалась… Припадки мои меня, как будто, оставили… Наступил день причащения. Литургию я стояла всю хорошо, чувствовала себя сносно, как будто даже здоровой… Открылись царские врата…
– Со страхом Божиим и верою приступите!.. И что ж вы думаете? Меня, изможденную, и обессиленную пятнадцатилетними страданиями к святой Чаше, к источнику жизни, едва могли подвести девять человек: такая явилась во мне невероятная сила противления святыне, такая ненависть к Св. Тайнам, что ярости внезапно во мне проявившейся силы едва могли противостоять девять человек из числа богомольцев, помогавших сестре моей со мной справиться.
Я – институтка, барышня образованная, благовоспитанная, не верившая ни в беснование, ни в кликушество, смеявшаяся и издевавшаяся над этим “бабьим невежеством и притворством”, я сама оказалась бесноватой.
Это был такой ужас, такой ужас, что об нем и вспомнить страшно… Слава Богу, что все это теперь прошло, но и теперь еще, когда вспомнишь об этом прошлом, волос дыбом становится. Корень болезни, однако, был найден, и с этого дня началось уже правильное мое лечение: по совету верующих людей, я часто стала причащаться, стала ездить, насколько позволяли мне средства, к святым местам. Припадки падучей почти прекратились, припадки явного беснования становились все слабее, но им на смену явилось в сердце моем чувство такой неописуемой, нечеловеческой тоски, что, если бы не милость Божия, меня тайно поддерживавшая, я бы не была в силах противиться ее давлению, я бы умерла с этой тоски.
Исполнялось уже восемнадцать лет с того дня, как я дерзнула произвести опыт внушения с девятичинной просфорой. Одна боголюбивая женщина уговорила меня поехать с нею к оптинским старцам. Достали мне даровой билет по железной дороге, и я с женщиной этой добралась до Оптиной.
В Оптиной мне все очень понравилось. Понравились ее храмы, чин ее Богослужения мне тоже полюбился, как полюбилось и местоположение этой чудной обители; но ни к старцам, ни к старческим могилкам я идти ни за что не хотела, как ни упрашивала меня моя спутница: внутри меня точно все переворачивалось при одной мысли о старчестве вообще и, в частности, о подвижниках оптинских. Глухой, прямо им враждебный, протест поднимался во всем существе моем “на что они мне? Что в них такого, чего нет у других им подобных людей? Ну – их!..” И я упорно обходила во время своих оптинских прогулок и кельи их, и могилы их великих предшественников,
Тоска, меня глодавшая, немного затихшая было вскоре по приезде в Оптину, вновь принялась грызть мое сердце пуще прежнего. Моя спутница уговорила меня говеть, и мы с ней вместе стали готовиться. Вот в это-то время и произошло со мною нечто великое, что навеки связало мою жизнь с оптинскими старцами несказанною к ним благодарностью.
С тоской, которая мне не давала ни отдыху, ни сроку у меня было связано еще одно чисто физическое ощущение: я чувствовала в груди, под сердцем, как бы клубок какой, который даже ощущался иногда на ощупь. Этот клубок подкатывался под самое сердце, и тогда я готова была кричать от тоски и от боли. И еще было у меня горе – я не могла плакать: потребность плакать была, но не было слез; слезы точно сдавлены были этим страшным клубком и наружу не изливались.
Как же это было ужасно!
И вот, в дни говения, перед исповедью у отца Серапиона (Тот же отец Серапион, который первый призвал нас жить в Оптиной). я решилась, наконец, – не знаю сама как, – пойти на могилу отца Амвросия. Решила одна сама с собой, одна и пошла на могилу. И когда я вошла в открытую часовенку над этой могилой, преклонила колени у ее беломраморного надгробия и приложила к нему свою горемычную голову, вот тогда-то я впервые за все восемнадцать лет своей нечеловеческой муки почувствовала, что открылся исток моим слезам, что слезы безудержным потоком из груди хлынули к горлу и излились на вольную волю горькими, покаянными рыданиями. И долго, долго плакала я, склонясь головой своей бедной на надгробие заветной могилы, пока не изошло из груди моей слезами все мое многолетнее страшное горе. И тут я почувствовала, что свалилась вдруг с меня какая-то тяжесть и что не стало и в груди моей давившего ее столько лет страшного клубка.
Отец Серапион, которому я на исповеди рассказала всю мою жизнь и то, что со мной произошло на могиле старца отца Амвросия, выслушал меня внимательно, с большой любовью, разрешил мне грехи, содеянные мною от семилетнего возраста и исповеданные ему во время этой памятной исповеди, взял потом требник и стал меня по нему отчитывать. Я кричала, билась, вырывалась из кельи, а потом затихла.
С того часа и поныне припадков моих со мною больше не повторялось. Душевно я стала совершенно здорова.
После причастия я пошла на могилу батюшки Амвросия и тут внезапно почувствовала, что я исцелилась, совсем, окончательно и навсегда исцелилась. И низошла на меня тут такая блаженная радость, что не только от тоски моей не осталось и помину, но я думаю, что ей и места уже никогда не будет в сердце, раз испытавшем это неизъяснимое блаженство, которое меня не покидало в течение целого года по возвращении моем из Оптиной домой, целый год мне даровано было наслаждаться таким душевным миром и счастьем, что я вполне была вознаграждена за восемнадцать лет моей муки, понесенной мною в наказание за грех моего кощунства.
Восемнадцать лет! Ровно по два года за каждую часть просфоры!.. Отстрадала здесь, – там. Бог даст, страдать не буду.
Такова незаурядная история Софии Александровны, мне рассказанная ею самою Успенским постом 1907 года.
27 мая
Мед с оптинских цветов: беседа с отцом Иаковом о старце Амвросии
Есть у нас в Оптиной слепец-монах, отец Иаков. Долгое время он нес в обители послушание канонарха, затем стал терять зрение, а под конец и вовсе ослеп. Очень расположено мое сердце к этому слепенькому подвижнику.
Как-то раз, идя из церкви после всеношной домой, я обогнал отца Иакова, ощупывавшего палочкой перед собою дорогу, приостановился, подождал его и повел его под руку в его келью. Прощаясь со мной у порога своей лестницы (его келья во втором этаже), он придержал меня за рукав и говорит:
– Зайдите как-нибудь ко мне: мне есть кое-что рассказать вам из жизни старца Амвросия и моего с ним общения.
Долго я все никак не мог собраться к отцу Иакову. Сегодня пошел в час, когда после обеденного покоя по всем монашеским кельям раздувают самоварчики, – это едва ли не единственное утешение плоти, которое позволяют себе оптинские монахи. Постучался, помолитвился.
– Аминь! – отозвался из кельи голос отца Иакова.
– А, это вот кто пожаловал! – милости просим, – радостно приветствовал меня хозяин кельи, – милости просим! А я думал, что вы уже и забыли про убогого Иакова.
– Не забыл, а все некогда было, мой батюшка, по поговорке; дела не делаю и от дела не бегаю. День за днем, вот под упрек и угодил к вашему преподобию – простите!
А самоварчик кипел уже и у отца Иакова. Присели мы к этому сотаиннику скорбей монашеских, и вот что поведал мне за чайком мой слепенький молитвенник:
– Было это, – сказывал он мне, – лет двадцать пять назад. В то время я еще был только рясофорным послушником и нес послушание канонарха. Как-то раз случилось мне сильно смутиться духом, да так смутиться, что хоть уходи вон из монастыря. Как всегда бывает в таких случаях, вместо того, чтобы открыть свою душевную смуту старцу, – а тогда у нас старцем был великий батюшка отец Амвросий, – я затаил ее на своем сердце и тем дал ей такое развитие, что почти порешил в уме своем уйти и с послушания, и даже вовсе расстаться с обителью. День ото дня помысл этот все более и более укреплялся в моем сердце и, наконец, созрел в определенное решение: уйду! здесь меня не только не ценят, но еще и преследуют: нет мне здесь места, нет и спасения! – На этом решении я и остановился, а старцу, конечно, решения своего открыть и не подумал… Вы это, мой батюшка С.А., поимейте в виду: в случаях, подобных моему, теряется и вера к старцам, – такие же, мол, люди, как и все мы грешные… И вот, придя в келью от вечернего правила, – дело это было летом, – я в невыразимой тоске прилег на свою койку, и сам не заметил, как задремал. И увидел я во сне, что пришел я в наш Введенский собор, а собор весь переполнен богомольцами, и все богомольцы, вижу я, толпятся и жмутся к правому углу трапезной собора, туда, где у нас обычно стоит круглый год плащаница до выноса ее к Страстям Господним.
– Куда, – спрашиваю, – устремляется этот народ?
– К мощам, – отвечают, – святителя Тихона Задонского!
“Да, разве, – думаю я, – святитель у нас почивает? – ведь он в Задонске!..” – Тем не менее, и я направляюсь вслед за другими богомольцами к тому же углу, чтобы приложиться к мощам великого угодника Божия. Подхожу и вижу: стоит передо мною на возвышении рака; гробовая крышка закрыта, и народ подходит и прикладывается к ней с великим благоговением. Дошла очередь и до меня. Положил я перед ракой земной поклон и только стач всходить на возвышение, чтобы приложиться, смотрю: открывается предо мною гробовая крышка, и во всем святительском облачении из раки поднимается сам святитель Тихон. В благоговейном ужасе падаю я ниц и, пока падаю, вижу, что это не святитель Тихон, а наш старец Амвросий, и что он уже не стоит, а сидит и спускает ноги на землю, как бы желая встать мне навстречу…
– Ты что это? – прогремел надо мною угрозой старческий голос.
– Простите, батюшка. Бога ради! – пролепетал я в страшном испуге.
– Надоел ты мне со своими “простите”! – гневно воскликнул старец.
Передать невозможно, какой ужас объял в ту минуту мое сердце, и в ужасе этом я проснулся.
Вскочил я тут со своей койки, перекрестился… В ту же минуту ударили в колокол к заутрени, и я отправился в храм, едва придя в себя от виденного и испытанного.
Отстоял я утреню, пришел в келью и все думаю: чтобы значил поразивший меня сон?.. Заблаговестили к ранней обедне, а сон у меня все не выходит из головы, – я даже и отдохнуть не прилег в междучасие между утренней и ранней обедней. Все, что таилось во мне и угнетало мое сердце столько времени, все это от меня отступило, как будто и не бывало, и только виденный мною сон один занимал все мои мысли.
После ранней обедни я отправился в скит к старцу. Народу у него в это утро было, кажется, еще более обыкновенного. Кое-как добрался я до его келейника, отца Иосифа (Преемник отца Амвросия по старчеству. Почил о Господе девятого мая 1911 года), и говорю ему:
– Мне очень нужно батюшку видеть.
– Ну, – отвечает он, – вряд ли, друг, ты ныне до него доберешься: сам видишь, сколько народу! да и батюшка что-то слаб сегодня.
Но я решил просидеть хоть целый день, только бы добиться батюшки.
Комнатку, в которой, изнемогая от трудов и болезней принимал народ на благословение старец, отделяла от меня непроницаемая стена богомольцев. Казалось, что очередь до меня никогда не дойдет. Помысл мне стал нашептывать: уйди! все равно не дождешься!.. Вдруг, слышу голос батюшки:
– Иван! – меня в рясофоре Иваном звали. – Иван! поди скорей ко мне сюда!
Толпа расступилась и дала мне дорогу. Старец лежал весь изнемогший от слабости на своем диванчике.
– Запри дверь, – сказал он мне еле слышным голосом. Я запер дверь и опустился на колени пред старцем.
– Ну, – сказал мне батюшка, – а теперь расскажи мне, что ты во сне видел!
Я обомлел: ведь о сне этом только и знали что грудь моя да подоплека… И при этих словах изнемогший старец точно сразу ожил, приподнялся на своем старческом ложе, и бодрый, и веселый стал спускать свои ноги с дивана на пол совсем так, как он спускал их в моем сновидении… Я до того был поражен прозорливостью батюшки, особенно тем способом, каким он открыл мне этот дар благодати Божественной, что я вновь, но уже въяве, пережил то же чувство благоговейного ужаса и упал головою в ноги старца. И над головой услышал я его голос:
– Ты что это!
– Батюшка, – чуть слышно прошептал я, – простите. Бога ради!
И вновь услышал я голос старца:
– Надоел ты мне со своими “простите”!
Но не грозным, как в сновидении, укором прозвучал надо мною голос батюшки, а той дивной лаской, на которую он только один и был способен, благодатный старец.
Я поднял от земли свое мокрое от слез лицо, а рука отца Амвросия с отеческой нежностью уже опустилась на мою бедную голову, и кроткий голос его ласково мне выговаривал:
– Ну, а как же мне было иначе вразумить тебя, дурака? (См. Четьи-Минеи святителя Димитрия Ростовского 3 декабря “Житие преподобного Иоанна молчальника” стр. 63. Благочестивая диаконисса Раиса пожелала видеть преподобного в Лавре Саввы Освященного, куда доступ женам был запрещен. Преподобный послал ей сказать: “Пребуди на месте, идеже еси ныне. Аз имам явитнся тебе в видении сонном”… В некую же нощь спящей eй явися в сонном видении преподобный глаголя: Се Бог посла мя к тебе, глаголи убо мне чего хошеши…”) – кончил такими словами свой выговор батюшка.
А сон мой так и остался ему нерассказанным: да что его было и рассказывать, когда он сам собою в лицах рассказался! И с тех пор, и до самой кончины великого нашего старца, я помыслам вражиим об уходе из Оптиной не давал воли.
Кончил свой сказ слепенький мой собеседник, а слезы у меня кап да кап! И самоварчик наш откипел и отшумел, и чай остыть успел в наших чашках…
О, глубина старческой святыни! О, простота и глубина бездонная великих чудес твоих, смиренная, кроткая, тай недействующая простота, не расширяющая воскрилий своих, не ищущая первоседаний и чтобы ей говорили: учителю, учителю! – но в смиренной тайне своей учительная и спасающая бесчисленные души, сумевшие обрести тебя вдали от горделиво напыщенных и широко шумящих распутий мира, обрести и укрыться под твоей любовью и жалостью от вражды и бессердечия одевающихся в мягкие одежды сынов века сего и служителей богов его, золотых, серебряных, медных, каменных и деревянных, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить… (Апок. 9 гл. 20 ст. )
О, радость исполнения веры Христовой, превозлюбленной! И вспомнились мне слова великих оптинских старцев:
– Придет и оптинекому старчеству конец, но горе тому, кто ему конец положит!
Кто же положит конец старчеству в Оптиной, кто дерзнет решиться на такое святотатство? Кому же другому, как только антихристу или явным слугам его!.. Неужели же мы доживем до дней этих? Предания наших великих старцев мало дают надежд на продолжительное стояние миру… Помилуй нас. Господи!..
– Батюшка! – обратился я к отцу Иакову после раздумья о слышанном, так глубоко захватившем мою душу, – ну, а после отца Амвросия к кому вы прибегаете со своими скорбями и помыслами?
– Куда теперь, мой батюшка, ходить убогому Иакову! – ответил мне мой собеседник, – храм Божий да келья, – только и есть у слепого две привычные дороги, по которым он ходите палочкой и не спотыкается. А в больших скорбях сам Бог не оставляет Своею милостью. Было это, скажу я вам, осенью позапрошлого года. В моей монашеской жизни совершилось нечто, что крайне расстроило весь мой духовный мир. В крайнем смущении, даже в гневе, провел я тот день, когда мне эта скорбь приключилась, и в таком состоянии духа достиг я времени совершения своего келейного молитвенного правила. Приблизительно в девять часов вечера того памятного дня, нимало не успокоившись и не умиротворившись, я без всякого чувства, только лишь по тридцатишестилетней привычке, надел на себя полумантию, взял в руки четки и стал на молитву в святом углу, пред своею образницей. К тому времени, когда со мною случилась эта скорбь, я уже почти совсем ослеп – мог видеть только дневной свет, а предметов уже не видел… Так вот, стал я на молитву, чтобы совершить свое правило, хочу собраться с мыслями, хочу привести себя в молитвенное настроение, но чувствую, что никакая молитва мне нейдет и не пойдет на ум. Настроение моего духа было приблизительно такое же, как тогда, двадцать пять лет тому назад, о чем я вам только что рассказывал… Но тогда еще жив был отец Амвросий, – думал я, – старец мой от дня моего поступления в обитель, ему была дана власть надо мною, а теперь я и убог и совершенно одинок духовно – что мне делать? (Старцы продолжат свое преемственное дело в Оптиной и по смерти отца Амвросия, но кто терял своего духовного руководителя, особенно если он был подобен такому великому старцу, как отец Амвросий, тот поймет чувство духовного одиночества моего собеседника) Осталось одно: изливать свои гневные чувства в жестких словах негодования, что я и делал. Укорял я себя в этом всячески, но остановить своего гнева не мог.
И вот, совершилось тут со мною нечто в высокой степени странное и необычное: стоял я перед образами, перебирая левой рукой свои четки, и внезапно увидел какой-то необыкновенный ослепительный свет. В то же мгновение глазам моим представился ярко освещенный этим светом необыкновенно красивый, дивными цветами цветущий луг. И вижу я, что иду по этому лугу сам, и трепещет мое сердце от прилива неизведанного еще мною сладкого чувства мира души, радости совершеннейшего покоя и восхищения от красоты п света этого, и этого неизобразимо прекрасного луга. И когда я в восторге сердечном созерцал всю радость и счастье неземной красоты этой, глазам моим в конце луга представилась невероятно крутая, высочайшая, совсем отвесная гора. И пожелало мое сердце подняться на самую вершину горы этой, но я не дал воли этому желанию, сказав себе, что человеческими усилиями не преодолеть страшной крутизны этой. И как только это я помыслил, в то же мгновение очутился на вершине горы, и из вида моего пропал тот прекрасный луг, по которому я шел, а с горы мне открылось иное зрелище: насколько мог обнять взор мой открывшееся предо мною огромное пространство, оно все было покрыто чудной рощей красоты столь же неизобразимой человеческим языком, сколько и виденный ранее луг. И по всей роще этой были рассеяны храмы разной архитектуры и величины, начиная от обширных и величественных соборов, кончая маленькими часовнями, даже памятниками, увенчанными крестами. Все это сияло от блеска того же яркого, ослепительного света, при появлении которого предстало восхищенным глазам моим это зрелище. Дивясь великолепию этому, я иду по горе и вижу, что предо мною вьется, прихотливо изгибаясь, узкая горная тропинка. И говорит мне внутреннее чувство сердца моего: тебе эта тропинка хорошо знакома, – иди по ней смело, не заблудишься! – Я иду и, вдруг, на одном из поворотов вижу: сидит на камне незнакомый мне благообразный старец – таких на иконах пишут. Я подхожу к нему и спрашиваю:
– Батюшка, благословите мне сказать, что эта за удивительная такая роща и что это за храмы?
– Это, – ответил мне старец, – обители Царя Небесного, их же уготова Господь любящим Его!
И когда говорил со мною старец, я увидел, что из всех этих храмов ближе всех стоит ко мне в этой дивной роще великолепный, огромных размеров храм, весь залитый сиянием дивного света. Я спросил старца:
– Чей это, батюшка, храм?
– Этот храм, – ответил он мне, – оптинского старца Амвросия.
В это мгновение я почувствовал, что из рук моих выпали четки и, падая, ударили меня по ноге.
Я очнулся.
И как стал я в девять часов вечера на молитву, в том же положении я и очутился, когда очнулся от бывшего мне видения: стою в полумантии пред своими иконами, только стенные часы мои мерно постукивают маятником. Заблаговестили к заутрени: был час по полуночи.
Видение мое продолжалось, таким образом, четыре часа. И отпала от меня всякая скорбь, и со слезами возблагодарил я Господа, утешившего меня за молитвы того приснопамятного, чей храм в обителях Царя Небесного стоял ко мне ближе всех остальных виденных мною храмов.
Таков мед с цветов оптинских достался мне сегодня из улья слепенького моего молитвенника.
Не даром, слава Богу, прошел для меня день сегодняшний. Как же не любить мне моей Оптиной!..
Из посмертных чудес митрополита Павла Тобольского
В дни моей молодости мне довелось некоторое время служить в Симбирске и там на месте наблюдать едва ли не единственную в мире “игру природы”: к красавице Волге, катящей свои могучие воды с севера на юг, у самого Симбирска подбегает шаловливою рябью другая речка, Свияга, бегущая с юга на север. Близко, близко подступает она в Симбирске к Волге, и, кажется, еще одно слабое усилие с обеих сторон, – и обе реки вот сольются в общем потоке. Но, нет! ударяясь о кряжи Симбирского нагорного берега, Волга несколько уклоняется к востоку, а Свияга – к западу, а затем обе реки выпрямляют свое течение и текут почти параллельно, в небольшом расстоянии друг от друга в противоположные стороны: Волга на юг, Свияга же прямо на север. И текут они так не версту, не две и не три, а пока не сольются своими волнами у Свияжска, Казанской губернии, к северу от Симбирска верстах в двухстах, если не более…
Мирно текли воды “Божьей реки” моих оптинских записок, день за днем, месяц за месяцем, как вдруг вплеснулась в них могучая волна иной великой реки и воды моей понеслись в иную сторону…
…Прошу прошения, читатель дорогой, но на этот раз я изменю хронологическому порядку моих записок и внимание твое от 1909 года отвлеку к сороковым годам прошлого столетия: в перспективе вечности, к которой призывает нас с тобою Господь, тысяча лет яко день вчерашний, воды и Волги и Свияги текут все в то же Хвалынское море, а “Божий реки” – в безбрежное море великих Господи их чудес.
Двадцать седьмого мая текущего 1914, на день памяти преподобного Нила Столбенского, я получил неожиданно письмо от неизвестного мне до этого времени преподавателя одного из духовных училищ юга России…
Ах, как бесценно дороги такие письма!..
Написано так: “…Посылаю вам рукопись с описанием чудес святителя Павла, митрополита Тобольского, надеясь, что вы ею воспользуетесь и в “Троицком Слове” сообщите о чудесах угодника Божия, совершившихся в сороковых годах прошлого столетия. Это сделать ныне весьма благовременно, так как по благословению Святейшего Синода, предположено церковное прославление и торжественное открытие мощей сего святителя в следующем 1915 году, в год трехсотлетнего юбилея Киевской Духовной Академии, имеющей счастье считать святителя Павла своим воспитанником и учителем.
Сию рукопись я получил недавно от протоиерея Цехановского (Цехановский отец Мефодий. настоятель церкви в Прозоровской башне в Киеве, бывший благочинным Киевского военного духовенства), однокашника по Полоцкому кадетскому корпусу приснопамятного старца Оптинской пустыни, схиархимандрита Варсонофия, с которым отец протоиерей находился в отношениях духовной дружбы и духовного родства до последних дней жизни почившего. Что же касается отца протоиерея, то он, в свою очередь, рукопись эту получил от Софии Павловны Янчуковской, дочери протоиерея Киевского Военно-Никольского собора, служившего в соборе том в сороковых – пятидесятых годах прошлого столетия. В рукописи описание чудес святителя Павла ведется со слов архимандрита Петра, с 1833 года по 1844 год бывшего наместником Киево-Печерской Лавры.
Читаешь рассказ этот, – пишет далее мои корреспондент, – и невольно чувствуешь сердцем, что здесь содержится живая действительность, не подлежащая сомнению, вызывающая одно чувство умиления и благоговения”.
Умились над этой рукописью и ты, благоговейный читатель!
Вот точная копия этой рукописи:
“Записано со слов Ег. В. А. П. (Его Высокопреподобия архимандрита Петра)
В начале сороковых годов приехала сюда (В Лавру) помолиться помещица Черниговской губернии, девица Ек. Пер., немолодых уже лет, цветущая здоровьем и очень полная, чем она даже тяготилась.
Однажды приходит она ко мне и говорит:
– Отец н. (отец наместник!) я имею к вам великую, особенную просьбу. Я видела необыкновенный сон: передо мною стоит в архиерейском облачении старец и говорит, называя меня по имени: “Ты приехала сюда помолиться. Доброе дело!.. Теперь пойди к н. а. П. (наместнику архимандриту Петру) и скажи ему, чтобы он тебя провел ко мне. Я лежу в приделе архидиакона Стефана под спудом. Если он будет отказываться, потому что туда не ходит никто, то скажи ему, чтобы испросил благословения у митрополита” (Киевским митрополитом в то время был благостнейший архипастырь приснопамятный святитель Божий, Филарет (Амфитеатров). Прим. моего корреспондента), – я только что хотела его спросить: кто же вы? – как он уже говорит: “Я митрополит Павел Тобольский; там меня увидишь”.
Долго я рассуждал о сем; правда, сделал возражение, что, действительно, мы туда не ходим; но, по неотступной ее просьбе, обещал испросить на сие благословение и разрешение митрополита, который выслушав мои рассказ о ее убедительной просьбе, дозволил открыть склеп, и повести ее туда. Тогда я ей назначил день после поздней обедни; без народа велел открыть склеп, и мы с ней, в сопровождении двух братии, сошли вниз. Я открыл гроб; поклонились, с молитвою и благоговением приложились к руке святителя. Сняли воздух, покрывавший его лицо. Она вскрикнула:
– Это он; его видела!
Долго смотрела она и плакала, и молилась… Спустя несколько дней, снова подходит она ко мне и говорит:
– Знаете ли, когда мы были у святителя Павла, я, видя его мощи, думала: вот муж святой, изнуривший себя постом, трудами, подвигами, удостоен нетления; я же, проводя жизнь роскошную, толстею не в меру; беспечно уходят дни мои, и буду обильною пищею червей. Как бы мне хотелось исхудать, чтобы сколько-нибудь быть похожей на тебя, святитель Божий! – Эта мысль весь день занимала меня… Только что ночью я за дремала, святитель – снова стоит предо мною и говорит: “Ты, стоя у гроба моего, думала об излишней полноте своей. Желаешь похудеть. Смотри, не скорби: Бог пошлет тебе болезнь, – совсем похудеешь. Но эта болезнь будет еще не к смерти… Тебе хочется здесь жить, – знаю желание души твоей. Поезжай домой, все устрой, никого не обидь, и, возвратясь в Киев, будешь посещать Лавру, пещеры, и в мою могилу приходи (Под спуд, в усыпальницу). Так живя, приготовишься к переходу в вечную жизнь. Я буду о тебе молиться Господу, и когда придет время, я тебе возвещу”.
По слову святителя Павла, она уехала в имение; всем распорядилась и приехала уже совсем в Киев, чтобы доживать последние свои дни. Заметна была в ней перемена: куда делась полнота; худела она с каждым днем более и более. Часто заходила она ко мне и в беседе нашей все говорила:
– Уже меня эта жизнь не привлекает: хоть бы умереть!
Все ее мысли и разговоры были направлены к переходу в вечность; ничто земное ее не занимало.
По ее желанию, дозволено ей было ходить изредка ко гробу святителя Павла; не раз она просила отслужить по нем панихиду.
Прошло около года. Наступила глубокая осень. Здоровье ее становилось все хуже. Один раз она была в Лавре, исповедывалась и приобщилась Святых Тайн; была в пешерах. у святителя Павла: зашла в мою келию и говорит:
– Я видела во сне святителя; он мне сказал: “теперь время близко – не бойся! Надо тебе поговеть, пока еще ты можешь быть в церкви. Будешь в Великой Церкви (В Киево-Печерской Лавре), пойди в пещеры, зайди ко мне: это уже твое последнее посещение будет. Побывай у наместника, скажи ему, что когда ты совсем заболеешь, чтобы он над тобой совершил таинство Елеосвящения”. – Я стала его просить, чтобы вы меня похоронили. Святитель ответил: “Нет! Архимандрит Петр будет тебя напутствовать больную, когда ты уже не в силах будешь приехать в церковь; ты скажи ему от меня, чтобы он приехал пред кончиной твоею исповедывать и приобщить тебя Святых Таин и благословил тебя перед смертью: но хоронить тебя будет н. ар. Ав.; положит на Ас. м., вблизи места моего погребения” (“Это место. – пишет мой корреспондент, – я читаю так: но хоронить будет Никольский архимандрит А. (?): положат на Аскольдовой могиле, вблизи места моего погребения. Я, как киевлянин, знаю, что вблизи Лавры находится монастырь Николая Пустынного и при нем кладбище Аскольдова могила”). Я дерзнула спросить: почему не батюшка архимандрит Петр похоронит меня – я так почитаю его? – Слышу ответ: “он в это время будет больной: нельзя будет ему из келий выходить, хотя он и сам очень этого желает. Но так Богу угодно. Молиться мы оба о тебе будем, и в сороковой день он будет служить за тебя. Не смущайся сим и уготовляй себя к переселению в жизнь вечную”.
Все совершилось по словам угодника Божия. Немного дней спустя, я сам навестил больную. Вижу, очень уже она ослабела и просит меня приехать к ней, чтобы исповедывать и приобщить ее Святых Тайн, что я и исполнил в назначенный ею день. Уходя от нее, думаю: верно, это последний раз ее вижу. Тяжело стало на душе моей, но виду ей не показываю… Она вдруг говорит:
– Батюшка, я не прощаюсь с вами; а вот в такой-то день, ради Бога, будьте у меня и, по слову святителя Павла, благословите меня к переходу в жизнь вечную.
В назначенный день я посетил ее, совсем безнадежную; но бодрость духа ее удивляла: так она небоязненно, с совершенным упованием на милосердие Божие, – конечно, и на ходатайство святителя Павла, – переходила в будущую жизнь, как будто собиралась в дальний путь. Все время сидел я, всматривался в нее, вслушивался в ее предсмертную беседу: ничего ее не смущало. Какое спокойствие было в ее душе!.. Когда я встал, чтобы проститься, слезы подступили у меня к горлу. Читаю – “Ныне отпущаеши” и не могу читать. Она тоже заплакала. Благословляю ее и в смущении духа говорю ей: прости и молись о мне, грешном! – Она же мне сказала:
– Это уже, батюшка, последний раз вижу вас здесь на земле: более нам не видеть друг друга.
Вышел я очень расстроенный. Приехал, занялся своим делом. Поздно вечером присылают сказать, что Ек. тихо, мирно скончалась и пред самым исходом просила, чтобы сейчас же известили меня о ее кончине. Делаю распоряжение о ее погребении и думаю наутро поехать отслужить панихиду и предполагаю сам и хоронить ее на Аскольдовой могиле. Пошел к заутрени. Придя домой, лег уснуть. Что сделалось? Боль в ногах нестерпимая; утром встать с постели не могу – весь разболелся. Послал в Никольский монастырь просить архимандрита Ав., как и предсказал святитель Павел. Так ее без меня и похоронили…
Мысли о моем недостоинстве смущали меня весь день. Ночью уснул. Вижу Ек.: как бы живая, светлая лицом, стоит предо мною и говорит:
– Не смущайтесь, батюшка – так Богу угодно. Благодарю вас за все попечение ваше о моей душе; буду молиться о вас.
Только что я хотел спросить: где ты ныне обитаешь? – как в ответ на мою мысль она сама сказала:
– Слава Богу! за молитвы святителя Павла, Господь меня переселил в райские блаженства. Немного я потерпела на земле, а теперь душа моя прияла радость нескончаемую. Вас прошу на сороковой день отслужить обедню и панихиду о моей душе. К тому времени вы выздоровеете. За все благодарю, – она стала невидима.
Понемногу я оправился. Первый мой выезд был на ее могилу, и в сороковой день я исполнил ее просьбу: служил Божественную Литургию и панихиду о упокоении души ее Богоугодной”.
Такова Православная вера наша. Такова любовь Божия. Таков угодник Божий, святитель Павел Тобольский.
Я знаю, что за нарушенный порядок моих записок не посетует на меня мой читатель.
30 мая
Письмо из Больших Солей. Из воспоминаний прошлых лет: св. “Микола Амчинский” мой покровитель. – Отец Варнава от Черниговской. – Лето в Николо-Бабаевском монастыре и великое оправдание монашеской веры
Сегодня получил письмо от одного духовного друга из села Большие Соли Костромской губернии. Верстах в трех от этого села, при впадении речки Солонины в Волгу, стоит знаменитый Hиколо-Бабаевский мужской монастырь. Знаменитой чудотворной иконой святителя Николая, частью его святых мощей (Поскольку мне известно, это единственное место во всей России, если не во всем мире, где имеется такая большая часть мощей святителя Николая, кроме г. Бари, конечно, где они почивают), и как местопребывание на покое святителя Игнатия Брянчанинова, обретшего в нем и вечный покой свой до последней трубы Архангельской.
В гостях у этой святой обители мы с женой имели счастие прожить без малого полгода от конца апреля до первой половины октября 1906 года.
Полученное из тех краев письмо воскресило в моей памяти жизнь нашу под покровом обители святителя Николая, а вместе и некоторые события, с ней связанные, не лишенные общехристианского интереса, хотя касаются они частных лиц и в их числе и моей немощи.
Начну издалека.
В тех краях, где до 1905 года было мое поместье, в Мценском уезде, Орловской губернии, великой славой и верой пользуется чудотворная икона святителя Николая. Икона эта, в рост человека, вырезана из цельного куска дерева и по преданию явилась на камне близ того места, где и поныне стоит соборный храм г. Мценска. В этом же соборе и находится это чудотворное изображение великого из великих чудотворцев Православной Церкви.
Святитель Николай – покровитель Мценского края, а с ним и мой: как бывший поместный дворянин Мценского уезда, владевший там наследственной землей, я иной родины, иного родного гнезда не знаю. С Богом всюду хорошо: “Господня земля и исполнение ея, вселенная и вси живущий на ней”, но нет и не может быть роднее на земле места, про которое говорится – “где родился, там и годился”.
Родился-то я, положим, в Москве, но родной землей – амчанин (Уроженцы Мценского уезда зовутся по местному “амчане”, а город Мценск – Амченск), оттого и “батюшку Миколу Амченского” почитаю “собинным”, – особенным – своим небесным покровителем, не менее близким, чем данный мне во святом крещении мой Ангел преподобный Сергий Радонежский.
А что на самом деле это так, а не одни мои предположения, тому есть и некоторые свидетельства из мира, живущего не по одной плоти, но и по духу.
Было это в 1901 году. Сын мой только что кончил курс Орловской гимназии. Экзамены его кончились в начале июня, а с начала сентября для него должна была начаться новая студенческая жизнь по “своей”, что называется, “вольной волюшке”: где уж студента опекать хотя бы и любовью родительского попечения?! Отдохнул он с недельку после экзаменов на просторе и приволье деревенских радостей, я и говорю ему:
– А что, – говорю, – хорошо бы нам с тобой съездить к нашему преподобному, к Троице-Сергию, в Лавру да там испросить у нашего с тобой Ангела (Сына, как и меня, зовут Сергием) благословения тебе на новый путь? Ты как об этом думаешь?
На великое мое и его счастье, сын мой не отрекся от веры отцов своих.
– Да, с радостью, папа! – ответил он мне, и мы поехали.
Заезжали мы по дороге и к отцу Егору Чекряковскому (О нем в книге моей “Великое в малом”), отцу моему духовному, и в святую Оптину пустынь, и, наконец, удостоились поклониться и своему преподобному. Вот тут-то мы, амчане, и узнали от одного из живых в то время Божьих угодников, что неложна наша вера в святителя, и что он есть истинный наш покровитель и заступник.
Отстояли мы с сыном молебен преподобному Сергию, обошли святыни и достопримечательности лаврские.
– Поедем, – говорю, – в Гефсиманию, к Черниговской и в Вифанию: до поезда еще времени много.
И вспомнилось мне, что у Черниговской, в скиту живет один из столпов современного монашества и старчества, отец Варнава, известный высотой своей подвижнической жизни и даром прозорливости. Решили принять его благословение. Говорю сыну:
– Великий это, как слышно, человек пред Богом. Советов у него спрашивать не будем, так как старец наш, отец Егор, уже указал тебе путь (На университетские курсы Московского Лицея в память Цесаревича Николая (Катковский Лицей)), а принять благословение и просить молитв у такого человека для нас с тобой чрезвычайно важно. Пойдем непременно к нему, если только он дома: пусть и он благословит тебе твой новый путь.
У Черниговской поклонились чудотворной иконе Черниговской Божией Матери.
– Старец отец Варнава, – спрашиваю, – дома?
– Дома-то, – отвечают, – он дома, только его сейчас нет в келье.
– А где же он?
– У генеральши Кротковой.
– Это где ж?
– За Вмфанией. Домом часа через два-три будет.
– Видно, – говорю сыну, – не придется нам видеть старца.
А про себя думаю: и получить его фотографию. Почему явилась у меня такая мысль, не знаю, тем более, что ни у кого из духовных знакомых мне лиц я никогда портретов в то время не просил. Помню, я даже осудил себя за такой помысл: точно, мол, у мирской знаменитости просить хочешь – какие у монаха могут быть фотографии!..
Так и отъехали мы от Черниговского скита, не повидав отца Варнавы.
В Вифании, куда мы приехали от Черниговской, кроме нас никого не было. У святых ворот стоял один послушник, а другой, там же встреченный, взялся нас водить по Вифанским святыням. Поклонились мы гробу преподобного Сергия и только что успели положить поклон последнему на земле жилищу митрополита Платона – его гробнице, как увидали бегущего к нам послушника, кличущего нас:
– Батюшка Варнава вас обоих к себе требует! Мы подхватились что есть духу бежать к святым воротам Божьим и спрашиваем:
– Как он о нас узнал?
– Ничего, – отвечает, – не знаю; велел позвать, а сам вас дожидается у святых ворот.
У святых ворот стояла запряженная в одну лошадь, крытая, с поднятым верхом, плетеная пролетка; на козлах сидел кучер, из-под верха пролетки, нагнувшись вперед, выглядывала на нас седенькая головка старичка-монаха с необыкновенно живыми, добрыми и ласковыми, проницательными глазками. Это и был всероссийски известный православному люду старец Варнава от Черниговской…
– Вам, – встретил он нас такими словами, – мое благословение нужно; а тебе, – обратился он непосредственного к сыну, – благословение нужно на новый путь: так езжайте за мной, – я домой сейчас еду.
Посмотрел пристально на меня и неожиданно спросил:
– А ваше здоровье-то как?
Я был совершенно здоров и по самочувствию, и по виду.
– За ваши, – ответил я, – святые молитвы, слава Богу!
– Ну, езжайте же за мной ко мне!
И отец Варнава быстро покатил по направлению к Черниговскому скиту. Мы едва поспевали за ним на паре заморенных извозчичьих клячонок.
– А, ведь, это я вам отца-то Варнаву оборудовал, – сказал, обернувшись к нам в полоборота, извозчик, – это я его оборотил к вам, когда он проехал мимо Вифании.
Холодной водой обдали меня эти слова. Бедный малый думал угодить, а не ведал, что “род сей”, к которому принадлежал и я, “знамений и чудес ищет”, и что его извозчичья услуга сразу в моем сердце низвергла прозорливости старца с высот чудесного до низин обыденной человеческой встречи.
“…Ну, что ж! – подумал я, – отец Варнава, все-таки, иеромонах: получим и простое, но все же иерейское, благословение”. И опять мелькнула мысль: а я попрошу у него портрет с надписью.
Подъехали мы к Черниговской вслед за батюшкой. Забежал он в лавочку, что у святых ворот, взял мелочи, дал своему кучеру и быстрой походкой пошел с нами по направлению к своей келье.
Поджидавшего его народа было довольно много, и все теснились к старцу, оттирая нас от него…
– Батюшка, а батюшка! – так и сыпались на него со всех сторон призывные восклицания. Нас, было совсем от него оттеснили.
– Ну, вы подождите! Подождите, говорю я вам! – громко сказал старец теснившей его толпе, – а вот вы-то со студентом, со студентом-то идите за мной.
Толпа раздалась и пропустила нас к старцу.
В это время старец уже поднимался по ступенькам своего крылечка. И опять он неожиданно спросил меня:
– Ну, а здоровье-то ваше как?
Мне что-то стало, вдруг, не по себе от повторения этого вопроса.
– Слава Богу! – ответил я смущенно. Каким-то не то крюком, не то палкой батюшка сунул в отверстие замка своей двери, открыл ее и в темненькой своей прихожей опять обернулся ко мне и в третий уже раз предложил мне в той же форме все тот же вопрос о моем здоровье; и опять я еще смущеннее ответил:
– Слава Богу!
Старец пристально взглянул на меня, помолчал, что-то подумал, а, может быть, и помолился – продолжалось это одно мгновение – и, вдруг, точно повеселел и радостно воскликнул:
– Ну, если слава Богу, так и – слава Богу!
И с этими словами ввел нас обоих в первую комнатку своей кельи.
На стареньком письменном столе, покрытом ветхой клеенкой, лежала какая-то небольшая икона. Батюшка взял ее в руки, поднял над нашими головами – мы стали на колени – и, благословляя ею наши склоненные головы, сказал:
– Вам было нужно мое благословение: да благословит вас Господь сей святой иконой Чудотворца Николая. Запомните ж мое слово: святитель Николай и в сем веке, и в будущем есть и будет ваш заступник и ходатай.
Потом, благословляя тою же иконой сына, сказал ему:
– Да благословит Господь, молитвами святителя Николая, твой новый путь!
Подумал немного, поглядел на меня…
– А тебе, – сказал он, – я еще и свей “патрет” дам.
Так и сказал “патрет”.
У меня от сердца к горлу подступили слезы… Верующие знают это сладкое чувство.
Так, вот он какой этот старец Варнава!
А уж он из соседней комнаты вынес свою фотографическую карточку и, подавая мне ее, сказал:
– Вот тебе и патрет мой!
– Батюшка! – воскликнул я, задыхаясь от волнения, – благоволите что-нибудь написать на ней своей ручкой!
– Эх, друг, некогда… ну да, ладно!
И отец Варнава на обороте карточки написал: “Иеромонах Варнава 1901 июния 18”. Святыня эта и поныне у меня цела.
– А я тебе и еще свой патрет дам, – сказал старец, – вот тебе книжка об моей обители Иверской, а в ней тоже патрет мой есть. Возьми себе да навести когда обитель-то!
И разгорелось тут мое сердце великой любовью к прозорливому старцу; припал я к его ножкам и говорю:
– Помолитесь, батюшка, чтобы сын мой до конца дней своих имел в сердце своем страх Божий!
– Будет, будет у него страх Божий в сердце, – ободрил меня старец, – он у тебя пятую заповедь помнит. И скажу тебе, друг, – продолжал батюшка, – как моя мать звала меня своим “кормильщиком”, так я тебе про твоего сына скажу: он будет твоим кормильщиком… Как имя твое? Я ответил:
– Сергий!
В соседней комнате показался батюшкин келейник.
– Запиши-ка, – обратился к нему батюшка, – двух Сергеев: за них помолиться надо!.. Ну да благословит вас Господь! А про святителя Николая-то не забудьте: он и в сем веке, и в будущем ходатай ваш и заступник.
Это были последние слова к нам старца Варнавы. С тех пор я уже не видал больше батюшки, а осенью того же года заболел такою тяжкою болезнью, что в январе 1902 года едва не умер. Спасло чудо Божие, не без молитв, верую, великого старца Варнавы от Черниговской, утвердившего во мне уверенность в том, что наш Амченский угодник, святитель Николай, Мир Лнкийских Чудотворец, мой ходатай и заступник и в сем веке, и в будущем.
Прошло пять лет. Наступил апрель 1906 года. В тот год весна была необыкновенно ранняя: уже в последних числах апреля север России, от Петербурга начиная, был окутан зеленой дымкой берез, ракит и тополей, сквозящих теплом и светом на изумрудной зелени торжествующей весны. Стояли дивные солнечные теплые дни; даже вечера и ночи теплы были, как в конце мая. Природа как-то по особенному красовалась и благоухала. Не то было с природой человеческой: взбаламученное, недоброй памяти, революцией, народное море все не могло успокоиться, искусственно волнуемое всеми новшествами, которых не знала раньше смиренная м святая Русь; непотухшие еще головешки бунтов и непокорств чадили еще во многих местах, местами вспыхивая и разгораясь в зловещее пламя…
Страшное было время, – не тем оно будь помянуто!..
В те дни и в моей меленькой жизни совершалась великая революция, и следствием ее было то, что мы с женой очутились как бы за бортом жизни, не зная куда деваться и где главы подклонити.
Великая то была милость Божия мне грешному. Да будет благословенна память о ней во все дни моей жизни!
И тут святитель Николай незримо протянул руку помощи и скорбь, и плач в радость претворил и утешение.
А дело было так.
Помолились мы с женой у иконы Царицы Небесной Казанской и решили уехать из Петербурга куда глаза глядят, только бы не оставаться в этом городе, где столько пришлось испытать всякого горя. Взяли мы билеты по железной дороге до Твери, а в конторе пароходства “Самолет” – от Твери по Волге до Нижнего и направили свой путь через Нижний – Арзамас в Сэров и Дивеев к Серафиму преподобному, от которого я столько чудес и милости на своем веку видел.
Что за красота и успокоение было путешествие наше по Волге! Оно было так прекрасно, что даже отдельные эпизоды его, напоминавшие о той буре, которую только что пережила и еще продолжала переживать родина, – вроде негожих речей и пения революционных песен, – даже и эти отголоски мерзости житейской не могли нарушить гармонии и безмятежия дней этого чудесного путешествия. Так доехали мы до Ярославля.
Пока стоял и грузился наш пароход в Ярославле, у нас в распоряжении было около трех часов, и мы воспользовались ими, чтобы съездить поклониться Ярославским святыням, и тут мы вспомнили, что ниже Ярославля по Волге находится знаменитый Николо-Бабаевский монастырь, особенно нам дорогой и известный тем, что там погребен один из любимейших наших духовных писателей, епископ Игнатий Брянчанинов. О том, что там есть часть мощей святителя и его чудотворная, прославленная на все Поволжье, икона, о том мы не знали, а если и знали, то в то время не вспомнили.
Заедем в этот монастырь! Ночь переночуем (из Ярославля мы уходили часов в семь вечера, а на “Бабайки” пароход приходит часа три спустя), проведем день в монастыре, а на следующем “Самолете” поедем дальше, в Нижний. Так говорили, так и решили.
И так нам все там понравилось, так все пришлось по духу, начиная со святыни Бабаевской и простоты монашеской, что вместо одного дня прожили мы там на гостинице без малого шесть месяцев. Так, верую, угодно было святителю Николаю, нашему ходатаю и заступнику перед Святой Троицей.
Там состоялась наша встреча с отцом Иоанном Кронштадтским, окончательно определившая дальнейший путь моей жизни и деятельности, примирившая мое прошлое с моим настоящим и… будущим. Дивное это было для меня и многознаменательное свидание, такое дивное, что о нем не леть ми и глаголати по моему недостоинству: только небесным предстательством моего небесного покровителя и можно было получить то велие утешение, какое в те дни нашей скорби я получил от великого Кронштадтского пастыря. И как бы в утверждение этой веры отец Иоанн дважды благословил меня с женой двумя иконами, – одной Бабаевской, а другой своей келейной – и обе иконы те были святителя Николая Мирликийских Чудотворца.
И там же, под покровом святителя Николая, состоялось и другое для меня и моей деятельности не менее того многознаменательное свидание с епископом Вологодским, преосвященным Никоном (Мирское имя – Николай), в то время только что назначенным на самостоятельную кафедру в Вологду. С того свидания и началось бессменное мое сотрудничество в изданиях владыки, моего редактора и цензора.
И чего только там, на Бабайках, ни сотворил нам дивный угодник Божий, утешая нас утешением всяческим и научая жить не по своей, а по воле Божией!..
Величаем тя, святителю отче Николае, и чтим святую память твою, ты бо молиши о нас Христа Бога нашего.
Перезнакомились мы за время нашего пребывания в Николо-Бабаевском монастыре со всею братнею, начиная с только что назначенного туда настоятелем архимандрита Адриана и кончая последним, вновь поступившим послушником. Особенно мы по духу сошлись с одним уже немолодым рясофорным послушником, слепцом отцом Иаковом. Замечательный раб Божий был (быть может он и теперь еще жив) этот отцом Иаков, труженик и молитвенник, исполненный чистейшей детской веры в Бога и в свое призвание. Церковные службы он, как клиросный певчий, посещал все неопустительно, а в свободные от службы часы умудрялся ходить в соседний с монастырем лес. иногда версты за три, за четыре от монастыря, надрать там корней от разных кустарников и вернуться домой с тяжелой ношей и всегда без провожатого. У отца Иакова ресницы росли внутрь глаз. Болезнь эта сопровождалась тяжкими страданиями и постепенно ослепляла Божьеготрудника. Мы всегда дивились трудам отца Иакова и тому, как он мог обходиться, совершенно слепой, без посторонней помощи, когда ходил за своими корнями, и как он мог плесть из этих корней удивительно искусно сработанные корзины.
Вот уже истинно. Господь умудряет слепцы!
Всегда и во всяких случаях своей монастырском жизни был благодушен наш отец Иаков, но и в его закаленном в терпении и смирении сердце таилась одна великая скорбь: девять уже лет был он примерным монастырским послушником, и, несмотря на свои пятьдесят пять лет и примерную жизнь, даже еще и приукажен не был.
– Что буду я делать, если меня какой-нибудь новый настоятель возьмет да и выгонит за ненадобностью? куда я, слепец, тогда денусь?
Так обмолвился он мне за беседой и заплакал.
Как-то, к слову, я сказал отцу архимандриту об этой скорби отца Иакова. Он принял ее близко к сердцу и в тот же день, зайдя с нами вместе в келью своего слепого послушника, предложил ему постричь его в тайную мантию.
– Мы тебя, отец Иаков, – сказал архимандрит, – пострижем как бы на одре болезни, а там отрапортуем о сем владыке: тогда тебя поневоле приуказят.
Архимандрит был внове и не решался представлять к открытому пострижению.
Подумал немного отец Иаков и что же ответил?
– Нет, ваше высокопреподобие, – сказал отец Иаков, – не тот это путь: не хочу я у Бога обманом брать монашество – я же, ведь, всем, – благодарение Господу, – здоров. Спаси вас. Господи, за любовь, но неправды я боюсь. Уповаю на милость Царицы Небесной: уж пусть она Сама совершит надо мною Свою волю.
Разговор этот был на первый Спас. – только что заговелись на Успенский пост, – а четвертого августа, совершенно неожиданно для “Бабаек”, приехал в монастырь епархиальный владыка Тихон. Идет он по монастырю с архимандритом, а из собора, от вечерни, навстречу им бредет наш слепец, ощупывая перед собою палкой дорогу в свою келью. Ни владыка, ни архимандрит не заметили, как из-за поворота аллеи наткнулся прямо на них отец Иаков, наткнулся и опешил от возгласа архиерея:
– Это что у вас – слепец что ли?
– Послушник Иаков, ваше преосвященство, – ответил архимандрит, – истинный раб Божий, примерной жизни.
– Давно он тут?
– Девятый год идет, да вот все не приукажен, владыко.
– Чего ж вы ждете? На Успеньев день извольте его постричь в мантию и мне донести о постриге на основании моего словесного приказания… Подойди-ка поближе, раб Божий Иаков, я хочу сам тебя благословить… Да благословит тебя Царица Небесная принять на день Ее честного Успения ангельский образ! Молись обо мне.
И вместо тайного пострига, на велик Богородичен день, в присутствии бесчисленного множества молящихся, отец Иаков был пострижен в мантию с именем Илии.
Вот что вспомнилось мне сегодня при чтении письма из краев, что около святой обители Николо-Бабаевской.
1 июня
Божии рабы, Вера, Сержик и Колюсик. “Пустите детей приходить ко Мне…”
Сегодня уехала из Оптиной новая наша знакомая, за короткое время ее пребывания в обители ставшая нам близкой, как сестра родная, ближе еще – как сестра по духу Христову.
Назову ее Верой, по вере ее великой (Серафима Николаевна Вишневская: живет в Тамбове).
В начале января нынешнего года я получил из города Т. письмо, в котором чья-то женская христианская душа написала мне несколько теплых слов в ободрение моей деятельности на ниве Христовой. Письмо было подписано полным именем, но имя это было мне совершенно неизвестно.
Двадцать пятого мая стояли мы с женой у обедни. Перед Херувимской мимо нашего места прошла какая-то дама, скромно одетая, и вела за руку мальчика лет пяти. Мыс женой почему-то обратили на нее внимание. По окончании Литургии, перед началом царского молебна (25 мая – день рождения Государыни Императрицы Александры Феодоровны), мы ее вновь увидели, когда они мимо нас прошла к свечному ящику. Было заметно, что она “в интересном положении”, как говорили в старину люди прежнего воспитания.
Вот раба-то Божия! подумалось мне: один ее ребенок с детских лет, а другой еще в утробной жизни – оба освящаются молитвами и святыми впечатлениями матери, – умница! Благослови ее Господь и Матерь Божия!
В эту минуту она подошла к иконе Божией Матери “Скоропослушницы”, перед которой мы обычно стоим во Введенском храме, и стала перед ней на коленях молиться. Я нечаянно увидел ее взгляд, устремленный на икону. Что это был за взгляд, что за вера излучалась из этого взгляда, какая любовь к Богу, к божественному, к святыне!.. О, когда б я так мог молиться!.. Матерь Божия! – помолилось за нее мое сердце: сотвори ей по вере ее!
При выходе из храма северными вратами, у иконы “Споручницы грешных”, мы опять встретили незнакомку. В руках у нее была просфора…
– Вы не Сергей ли Александрович Нилус? – обратилась она ко мне с застенчивой улыбкой.
– Да… с кем имею честь?
Оказалось, что это была та, которая мне в январе писала из Т.
Эта и была Вера с пятилетним сыном, Сережей, которых мы сегодня провожали из Оптиной.
На этой христолюбивой парочке стоит остановить свое внимание, воздать за любовь любовью, сохранить благодарной памятью их чистый образ, отсвечивающий зорями иного нездешнего света…
– Сегодня, – сказала нам Вера, – мы с Сержнком поготовпмся, чтобы завтра причаститься и пособороваться, а после соборования позвольте навестить вас. Теперь так отрадно и радостно найти людей по духу, так хочется отдохнуть от тягостных мирских впечатлений не откажите нам в своем гостеприимстве!
И в какую ж нам радость было это новое знакомство!..
В тот же день, когда у иконы “Споручницы грешных” мы познакомились с Верой, мы проходили с женой мимо заветных могил великих оптинских старцев и, по обычаю, зашли им поклониться. Входим в часовеньку над могилой старца Амвросия и застаем Веру и ее Сережу: Сережа выставил свои ручонки вперед, ладошками кверху, и говорит:
– Батюшка Амвросий, благослови!
В эту минуту мать ребенка нас заметила…
– Это уж мы с моим Сержиком так привыкли: ведь, батюшка-то Амвросий жив и невидимо здесь с нами присутствует, – так надо ж и благословения у него испросить, как у иеромонаха!
Я едва удержал слезы…
На другой день я заходил к батюшке отцу Анатолию в то время, когда он соборовал Веру с ее мальчиком. Кроме них соборовалось еще душ двенадцать Божьих рабов разного звания и состояния, собравшихся в Оптину с разных концов России. Надо было видеть, с какой серьезной сосредоточенной важностью пятилетний ребенок относился к совершаемому над ним таинству Елеосвящения!
Вот как благодатные матери от молока своего начинают готовить душу дитяти к Царству Небесному! Не так ли благочестивые бояре Кирилл и Мария воспитывали душу того, кого Господь поставил светильни ком всея России, столпом Православия, – преподобного Сергия?..
– Когда я бываю беременна, – говорила нам впоследствии Вера, – я часто причащаюсь и молюсь тому угоднику, чье имя хотелось бы дать будущему своему ребенку, если он родится его пола. На четвертый день Рождества 1905 года у меня скончался первенец мой, Николай, родившийся в субботу на Пасхе 1900 года. До его рождения я молилась дивному святителю Николаю, прося его принять под свое покровительство моего ребенка. Родился мальчик и был назван в честь святителя. Вот этот, Сержик, родился на первый день Рождества Христова, в 1903 году. О нем я молилась преподобному Сергию… С ним у меня произошло много странного по его рождении и, пожалуй, даже знаменательного. Крестины, из-за его крестного пришлось отложить до Крещения Господня, а обряд воцерквления пришелся на Сретение. И с именем его у меня произошло тоже нечто необычное, чего с другими моими детьми небывало. Молилась я о нем преподобному Сергию, а при молитве когда меня батюшка спросил, какое бы я желала дать ребенку имя, у меня мысли раздвоились, и я ответила: – “Скажу при крещении”.
А произошло это оттого, что в том году состоялось прославление святых мощей преподобного Серафима, которому я всегда очень веровала. К могилке его я еще девушкой ходила пешком в Са-ров из своего города. А тут еще и первое движение ребенка я почувствовала в себе как раз во время всенощной под девятнадцатое июля. И было мне все это в недоумение, и не знала я, как быть: назвать ли его Сергием, как ранее хотела, или же Серафимом? Стала я молиться, чтобы Господь открыл мне Свою волю: и в ночь под Крещение, когда были назначены крестины, л увидела сон, что, будто, я с моим новорожденным поехала в Троице-Сергиеву Лавру. Из этого я поняла, что Господу угодно дать моему мальчику имя преподобного Сергия. Это меня успокоило, тем более, что и батюшка преподобным Серафим очень любил великого этого угодника Божия, и с его иконочкой и сам-то был во гроб свой положен…
Я внимал этим милым речам, журчащим тихим ручейком живой воды святой детской веры, и в сердце мое стучались глаголы великого обетования Господня Святой Его Церкви:
– И врата адова не одолеют ей!
Не одолеют! истинно, не одолеют, если даже и в такое, как наше, время у Церкви Божиен могут быть еще подобные чада.
И опять полилась вдохновенная речь Веры:
– Вам понравился мой Сержик; что бы сказали вы, если бы видели моего покойного Колю! Тот еще и на земле был уже небожитель… Уложила я как-то раз Колюсика своего спать вместе с прочими детишками. Было около восьми часов вечера. Слышу зовет он меня из спальни.
– Что тебе, деточка? – спрашиваю.
А он сидит в своей кроватке и восторженно мне шепчет:
– Мамочка моя, мамочка! посмотри-ка, сколько тут ангелов летает.
– Что ты, – говорю, – Колюсик! где ты их видишь?
А у самой сердце так ходуном и ходит.
– Да, всюду, – шепчет, – мамочка; они кругом летают… Они мне сейчас головку помазали. Пощупай мою головку – видишь, она помазана!
Я ощупала головку: темечко мокрое, а вся головка сухая. Подумала, не бредит ли ребенок; нет! – жару нет, глазенки спокойные, радостные, но не лихорадочные: здоровенький, веселехонький, улыбается… Попробовала головки других детей – у всех сухенькие; и спят себе детки, не просыпаются. А он мне говорит:
– Да, как же ты, мамочка, не видишь ангелов? Их тут так много… У меня, мамочка, и Спаситель сидел на постельке и говорил со мною…
О чем говорил Господь ребенку, я не знаю. Или я не слыхал ничего об этом от рабы Божией Веры, или слышал, да не удержал в памяти: немудрено было захлебнуться в этом потоке нахлынувшей на нас живой веры, чудес ее, нарушивших, казалось, грань между земным и небесным…
– Колюсик и смерть свою мне предсказал, – продолжала Вера, радуясь, что может излить свое сердце людям, внимающим ей открытой душой. Умер он на четвертый день Рождества Христова, а о своей смерти сказал мне в сентябре. Подошел ко мне как-то раз мой мальчик да и говорит ни с того, ни с сего:
– Мамочка! я скоро от вас уйду.
– Куда, – спрашиваю, – деточка?
– К Богу.
– Как же это будет? кто тебе сказал об этом?
– Я умру, мамочка! – сказал он, ласкаясь ко мне, – только вы, пожалуйста, не плачьте: я буду там с ангелами, и мне там очень хорошо будет.
Сердце мое упало, но я сейчас же себя успокоила: можно ли, мол, придавать такое значение словам ребенка?!. Но, нет! прошло немного времени, мой Колюсик опять среди игры, ни с того ни с сего, подходит, смотрю, ко мне и опять заводит речь о своей смерти, уговаривая меня не плакать, когда он умрет…
– Мне там будет так хорошо, так хорошо, дорогая моя мамочка! – все твердил, утешая меня, мой мальчик. И сколько я ни спрашивала его, откуда у него такие мысли, и кто ему сказал об этом, он мне ответа не дал, как-то особенно искусно уклоняясь от этих вопросов….
Не об этом ли и говорил Спаситель маленькому Коле, когда у детской кроватки его летали небесные ангелы?..
– А какой удивительный был этот ребенок, – продолжала Вера, – судите хотя бы по такому случаю. В нашем доме работал старик-плотник, ворота чинил и повредил себе нечаянно топором палец. Старик прибежал на кухню, где emя была в то время, показывает мне свой палец, а кровь из него так и течет ручьем. В кухне был и Коля. Увидал он окровавленный палец плотника и с горьким плачем кинулся бежать в столовую к иконе Пресвятой Троицы. Упал на коленки пред иконою и, захлебываясь от слез, стал молиться:
– Пресвятая Троица, исцели пальчик плотнику!
На эту молитву мы с плотником вошли в столовую, а Коля, не оглядываясь на нас, весь ушедший в молитву, продолжал с слезами твердить свое:
– Пресвятая Троица, исцели пальчик плотнику!
Я пошла за лекарством и за перевязкой, а плотник остался в столовой. Возвращаюсь и вижу: Колюсик уже слазил в лампадку за маслом и маслом от иконы помазывает рану, а старик-плотник доверчиво держит перед ним свою пораненную руку и плачет от умиления приговаривая:
– И что ж это за ребенок, что это за ребенок! Я, думая, что он плачет от боли, говорю:
– Чего ты, старик, плачешь? на войне был, не плакал, а тут плачешь!
– Ваш, – говорит, – ребенок хоть кремень и тот заставит плакать!
И что ж вы думаете? – ведь, остановилось сразу кровотечение, и рана зажила без лекарств, с одной перевязки. Таков был общий любимец, мой Колюсик, дорогой, несравненный мой мальчик… Перед Рождеством мой отчим, а его крестный, выпросил его у меня погостить в свою деревню, – Коля был его любимец, и эта поездка стала для ребенка роковой: он там заболел скарлатиной и умер. О болезни Коли я получила известие через нарочного (тогда были повсеместные забастовки, и посланной телеграммы мне не доставили) и я едва за сутки до его смерти успела застать в живых мое сокровище. Когда я с мужем приехала в деревню к отчиму, то Колю застала еще довольно бодреньким; скарлатина, казалось, прошла, и никому из нас и в голову не приходило, что уже на счету последние часы ребенка. Заказали мы служить молебен о его выздоровлении. Когда его служили, Коля усердно молился сам и все просил давать ему целовать иконы. После молебна он чувствовал себя настолько хорошо, что священник не стал его причащать, несмотря на мою просьбу, говоря, что он здоров, и причащать его нет надобности. Все мы повеселели. Кое-кто, закусив после молебна, лег отдыхать; заснул и мой муж. Я сидела у постели Коли, далекая от мысли, что уже наступают последние его минуты. Вдруг он мне говорит:
– Мамочка, когда я умру, вы меня обнесите вокруг церкви…
– Что ты, – говорю, – Бог с тобой, деточка! мы еще с тобой. Бог даст, живы будем.
– И крестный скоро после меня пойдет за мной, – продолжал, не слушая моего возражения Коля.
Потом помолчал немного и говорит:
– Мамочка, прости меня.
– За что, – говорю, – простить тебя, деточка?
– За все, за все прости меня, мамочка!
– Бог тебя простит, Колюсик, – отвечаю ему, – ты меня прости: я строга бывала с тобою.
Так говорю, а у самой и в мыслях нет, что это мое последнее прощание с умирающим ребенком.
– Нет, – возражает Коля, – мне тебя не за что прощать. За все, за все благодарю тебя, миленькая моя мамочка!
Тут мне что-то жутко стало; я побудила мужа.
– Вставай, – говорю, – Колюсик, кажется, умирает!
– Что ты, – отвечает муж, – ему лучше – он спит.
Коля в это время лежал с закрытыми глазами. На слова мужа, он открыл глаза и с радостной улыбкой сказал:
– Нет, я не сплю – я умираю. Молитесь за меня!
И стал креститься и молиться сам:
– Пресвятая Троица, спаси меня! Святитель Николай, преподобный Сергий, преподобный Серафим, молитесь за меня!.. Крестите меня! помажьте меня маслицем! Молитесь, за меня все!
И с этими словами кончилась на земле жизнь моего дорогого, ненаглядного мальчика: личико расцветилось улыбкой и он умер.
И в первый раз в моей жизни возмутилось мое сердце едва не до ропота. Так было велико мое горе, что я и у постельки его, и у его гробика, не хотела и мысли допустить, чтобы Господь решился отнять у меня мое сокровище. Я просила, настойчиво просила, почти требовала, чтобы Он, Которому все возможно, оживил моего ребенка; я не могла примириться с тем, что Господь может не пожелать исполнить по моей молитве. Накануне погребения, видя, что тело моего ребенка продолжает, несмотря на мои горячие молитвы, оставаться бездыханным, я, было, дошла до отчаяния. И вдруг, у изголовья гробика, где я стояла в тяжком раздумьи, меня потянуло взять Евангелие и прочитать в нем первое, что откроется. И открылся мне шестнадцатый стих восемнадцатой главы Евангелия от Луки, и в нем я прочла: “…пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие”.
Для меня эти слова были ответом на мою скорбь Самого Спасителя, и они мгновенно смирили мое сердце: я покорилась Божией воле.
При погребении тела Колюсика исполнилось его слово: у церкви намело большие сугробы снега, и чтобы гробик пронести на паперть, его надо было обнести кругом всей церкви. Это было мне и в знамение и в радость. Но когда моего мальчика закопали в мерзлую землю, и на его могилку лег холодный покров суровой зимы, тогда вновь великой тоской затосковало мое сердце, и вновь я стала вымаливать у Господа своего сына, не зная покоя душе своей ни днем, ни ночью, все выпрашивая отдать мне мое утешение. К сороковому дню я готовилась быть причастницей Святых Тайн и тут, в безумии своем, дошла до того, что стала требовать от Бога чуда воскрешения. И – вот, на самый сороковой день я увидела своего Колю во сне, как живого. Пришел он ко мне светленький и радостный, озаренный каким-то сиянием и три раза сказан мне:
– Мамочка, нельзя! Мамочка, нельзя! Мамочка, нельзя!
– Отчего нельзя? – воскликнула я с отчаянием.
– Не надо этого, не проси этого мамочка!
– Да почему же?
– Ах, мамочка! – ответил мне Коля, – ты бы и сама не подумала просить об этом, если бы только знала, как хорошо мне там у Бога. Там лучше, там несравненно лучше, дорогая моя мамочка!
Я проснулась, и с этого сна все горе мое, как рукой сняло.
Прошло три месяца, – исполнилось и второе слово моего Коли: за ним в обители Царя Небесного следом ушел к Богу и его крестный”.
Много мне рассказывала дивного из своей жизни раба Божия Вера, но не все поведать можно даже и своим запискам: живы еще люди, которых может задеть мое слово… В молчании еще никто не раскаивался: помолчим на этот раз лучше!..
Пошел я провожать Веру с ее Сержиком через наш сад по направлению к монастырской больнице. Это было в день их отъезда из Оптиной. Смотрю: идет к нам навстречу один из наиболее почетных наших старцев, отец А., живущий на покое в больнице. Подошли мы под его благословение; протянул и Сержик свои ручонки…
– Благословите, – говорю, – батюшка!
А тот сам взял да низехонько, касаясь старческой своей рукой земли, и поклонился в пояс Сержику…
– Нет, – возразил старец, – ты сам сперва – благослови!
И к общему удивлению, ребенок начал складывать свою ручку в именословное перстосложение и иерейским благословением благословил старца.
Что-то выйдет из этого мальчика?
5 июня
Еще о старце Варнаве от Черниговской
Была у меня в Москве одна хорошая знакомая, Татиана Егоровна Жиченёва (Скончалась девятнадцатого декабря 1916 года). По профессии акушерка (Всегда работала со Снегиревым), она имела очень хорошую практику во многих именитых московских домах, где ее уважали и любили, и где принята она бывала не только как специалистка своего дела, а как друг тех семейств, в которых она “принимала”. Сколько помнится, она по своему делу близка была и дому нашего Рафаэля, Виктора Михайловича Васнецова, дети которого едва ли не все увидели свет Божий при помощи Татианы Егоровны.
Чудный была человек эта девушка с хорошей чисто русской православной душой. Коли жива, дай ей Бог доброго здоровья, а померла – Царство Небесное!
Вот вспомнил вчера про отца Варнаву, – приходится теперь вспомнить и о ней, ибо и в ее жизни великий старец от Черниговской сотворил немалое, как прозорливец и духовный руководитель и, кто знает, не спас ли ее души для вечной жизни?
Было время, когда Татиана Егоровна, которую я знал уже исповедницей чистого, беспримесного Православия, веровала по-своему: от Церкви не отставала, но церковное принимала не все, а по выбору – что нравилось. Монашества и монастырей, например, она не признавала и знать не хотела: ее время было временем поклонения новоявленному божку – общественной деятельности, – а монах, разве он общественный деятель в глазах тех, кто этого божка лепил на замену христианского делания? О том, что “много может молитва праведника ко благосердию Владыки”, и что ради только десяти бес попечительных праведников Бог обещал помиловать тысячи многозаботливых содомлян с их городами, об этом умникам того времени и в голову не могло придти; а жизнь текла, как и теперь течет, по руслу, которое указывали эти умники образованным людям. Татиана Егоровна была образованная, жившая самостоятельным трудом, девушка и потому монашеского “тунеядства” не переносила.
Впрочем, она, кажется, ни в одном монастыре “из принципа” и не бывала, а монахов встречала вблизи только изредка на московских улицах.
В последний раз я видел Татиану Егоровну после моей встречи с отцом Варнавой.
В разговоре с нею речь у нас зашла на тему этого ее благого суеверия. Под впечатлением от моего недавнего общения с батюшкой Варнавой, я спросил Татиану Егоровну, слыхала ли она об этом старце.
– Отца Варнаву я знаю, – был ответ, – и не только знаю, но почитаю в нем Божьего угодника и истинного прозорливца. Он разбил все мои мудрования о монастырях и о монашествующих и уверил собою, что и в наше лукавое время есть еще святые на нашей грешной земле.
И тут Татиана Егоровна поведала мне следующее:
– Вы, вероятно, помните тот шум в московском интеллигентном обществе, который наделана одна английская дама, некая Кэт Марсден, открывшая среди инородцев Сибири целые поселки, зараженные проказою? Подняла она тогда на ноги не только в одной Москве, но кажется, и во всей России все, что еще не утратило сердца, способного отзываться на скорби ближнего. Задела она тогда за живое и мое сердчишко; и задумала я бросить все и ехать туда, в Сибирь, к прокаженным: казалось мне, что выше служения этим несчастным нет и подвига на свете. Завела я по этому поводу и переписку с уездным начальством той местности, где Кэт Марсден сделала свое страшное открытие: и стала мое дело налаживаться так, что оставалось только распродать свои пожитки да и ехать. И всю эту переписку свою, и даже самое свое намерение я таила на своем сердце и никому, даже ближайшим мне людям, своих замыслов не открывала.
Почти накануне окончательного сведения счетов моих с московской жизнью я была у всенощной в храме Христа Спасителя, – это мой любимый и ближайший к моей квартире храм, – а от всенощной зашла к одним моим близким знакомым: потянуло меня открыть им тайну моего сердца и дать им прощальное целование. О перемене моего решения не могло быть и речи.
Знакомых моих я застала в каком-то особо приподнятом настроении. На мой вопрос, что случилось, мне ответили, что с минуты на минуту к ним ждут отца Варнаву.
– Кто такой этот отец Варнава? – спросила я с неудовольствием.
– Да, вы разве не знаете отца Варнавы от Черниговской, что у Троице-Сергиевой Лавры? – ответили мне вопросом, в котором мне почудилось что-то вроде упрека. И стал мне этот гость после этого еще неприятнее: очень мне уж обидно показалось, что вечер мой у близких людей его приездом будет испорчен. Я замкнулась в себя, как улитка в свою раковину, и решила посидеть немного из благовоспитанности и удалиться до встречи с неприятным монахом. Но не успела я привести свое намерение в исполнение, как в передней послышался звонок, и вслед за звонком в столовую, где мы сидели за чайным столом, вошел старичок иеромонах с наперстным крестом, сопровождаемый толпой прислуги моих знакомых. Я отошла к сторонке, чтобы не мешать излияниям чувств домохозяев, втайне желая как-нибудь ускользнуть от нежеланной встречи.
Зоркий взгляд отца Варнавы сразу меня заметил.
– А это у вас кто? – спросил он, указывая на меня.
Меня представили.
– Э! – воскликнул он радостно, – да какая ж ты у меня хорошая!
В сердце у меня шевельнулось враждебное чувство: и с чего, мол, он у меня заискивается? видит меня в первый раз, а уж, похваливает! Вот оно монашеское ханжество и лицемерие… А отец Варнава не унимался, – охватил руками мою голову да и говорит:
– Хорошая-то хорошая, да нехорошее думает. Пойдем-ка, дочка, со мною в другую комнату, поговорим по секрету!
Подчиняясь какой-то неведомой мне власти в голосе старца, пошла за ним в соседнюю гостиную.
Отец Варнава затворил за нами дверь и сел на диван, посадив меня с собою рядом.
Опять что-то враждебное и гадкое закопошилось в моей душе. Старец взял мою руку в свою… Мне стало еще тяжелее…
– Скажи-ка мне, дочка, – заговорил старец, – что это ты задумала в своей головушке? Иль тебе здесь дела нет? иль ты здесь совсем бесполезна и никому не нужна? Скажи же мне, родная, зачем ты туда собралась ехать?
Я так и обомлела. Старец сразу мне сделался, что отец родной.
– Батюшка! – воскликнула я, – там страданье, там подвиг! Некому утешить, некому придти на помощь; там гибнут люди, отверженные людьми, а здесь…
Батюшка перебил меня:
– А здесь нет разве страданий, дочка? разве на том деле, к которому тебя приставил Господь, не нужна твоя помощь? разве нет страданий, которые ты можешь облегчить? Не нужно утешение, которое ты могла бы дать и делом, и словом? На кого ты бросишь тех, кто привык доверяться твоему опыту? и для чего? чтобы бежать неведомо куда, неведомо зачем, к людям, которых ты и языка-то даже не знаешь, на дело, которому ты не обучалась, в обстановку жизни такую, которой и не снесешь? Тебе дан крест твоей жизни, указан путь, и на нем ты полезна, потому что он дан тебе Богом, и на него тебе отпущены и нужные силы, и нужные знания. А то, что ты задумала, то – крест самоизвольный, и на него сил не будет тебе дано от Бога, потому что это не подвиг, а духовная гордость: не хотим незаметного делания в малом винограднике Христовом, предуказанном нашим силам, давай нам большого да видного.. – Передать нельзя, с какой властью говорил мне батюшка; слова его тяжким молотом разбивали все мои намерения, как черепки старой глиняной посуды, и – странно! от ударов этого молота все легче и яснее становилось у меня на душе…
– Слушай же, дочка! – сказал мне под конец беседы старец, – скажу тебе я, грешный иеромонах Варнава: нет тебе пути туда, нет тебе на него Божьего благословения! оставайся тут, а туда, если будет нужно, Господь пошлет иных делателей.
Батюшка говорил мне эти слова, а я, склонясь головой к его старческому плечу, рыдала как малый ребенок, легко и радостно билось мое бедное сердце; точно гранитную скалу снял с моих плеч великий прозорливец… Я плачу, а он-то, благодатный, сидит со мною, гладит своей ручкой мою голову и с невыразимой любовью в голосе приговаривает:
– Так, так, дочка! Так моя радостная, так родимая!
Я не поехала к прокаженным. И как же благодарю теперь за это Бога, тем более, что и Кэт Марсден-то оказалась впоследствии едва ли не теми бубнами, что славны за горами.
Отходят на небо от нас один по одному великие праведники. Кто их заменит?
7 июня
Посещение епископом Оптиной и нас. – Отец Н. меня смиряет. – Искушение. – Юродство отца Н.
Третьего июня Оптину пустынь посетил ангел Калужской церкви, преосвященный Вениамин. Провел он под кровом обители около суток, служил Литургию, обошел монастырь и скит, побывал в некоторых кельях, заехал и к нам, в наш дорогой уголок. У нас он побыл минут с двадцать, был очень сердечен с нами и со всеми нашими домочадцами и уехал, оставив по себе самое светлое воспоминание.
Жать, что погода была плохая, и владыке не пришлось как следует насладиться всей красотой оптинской.
Четвертого у отиа архимандрита был обед с архиереем. Мы с женой были в числе приглашенных. Владыка очень много говорил со мною за обедом. После трапезы, вернулись домой, я застал у нас нашего друга отца Н. и говорю ему:
– Устал я, мой батюшка; все время за обедом пришлось быть центром, около которого сосредоточивалась беседа.
– Ну, уж и центр! – засмеялся отец Н., – хорош центр, нечего сказать! Поставили вас в угол – вот, и весь центр ваш!
И то – правда! где уж тут, стоя в углу, мнить себя центром?!. Но если мое оптинское уединение, в котором так хорошо и думается, и живется, и работается, – угол, как бы в наказание за многие грехи мои, то да будет благословенна вовеки та воля, которая меня этим углом наказала!
“Наказуя наказа мя Господи, смерти же не предаде мя”.
Готовимся к восьмому быть причастниками Святых Христовых Тайн. Враг не дремлет и сегодня перед исповедью хотел, было, угостить меня крупной неприятностью, подав повод к недоразумению с отцом настоятелем, которого я глубоко почитаю и люблю. Но не даром прошли для меня два года жизни бок о бок с монашеским смирением оптин-ских подвижников – смирился и я, как ни было это моему мирскому самолюбию трудно. Было это искушение за поздней обедней, после которой мы должны были с женой идти на исповедь к нашему духовнику и старцу, отцу Варсонофию. Вернулись после исповеди домой, а дома – новое искушение: вхожу на подъезд, смотрю, – а на свеженаписанном небе моего этюда масляными красками кто-то углем крупными буквами во все небо написал по-французски – “La nuee” (Туча).
Я сразу догадался, что виновником этого “озорства” не мог быть никто другой, кроме нашего друга, отца Н.: это так было похоже на склонность его к некоторому как бы юродству, под которым для меня часто скрывались назидательные уроки той или другой христианской добродетели. Это он, несомненно он, прозревший появление тучки на моем духовном небе; он, мой дорогой батюшка, любящий иногда, к общему изумлению, вставить в речь свою неожиданное французское слово!.. Заглянул я на нашу террасу, а он, любимец наш, сидит себе в уголку и благодушно посмеивается, выжидая, что выйдет из этой шутки.
– Ах, батюшка, батюшка! – смеемся я вместе с ним, – ну, и проказник!
А “проказник” встал, подошел к этюду, смахнул рукавом своего подрясника надпись и с улыбкой объявил:
– Видите, – ничего не осталось!
Ничего и в сердце моем не осталось от утренней смуты.
Несомненно, у друга нашего есть второе зрение, которым он видит то, что скрыто для глаза обыкновенного человека. Не даром же и благочестного жития его в монастыре без малого сорок лет.
14 июня
Припадочная Груша. – Ее болезнь и видение. – Предотвращенный пожар. – Чудо спасения Груши от отравы
К дому нашему привилась и в нем прижилась едва ли не с первых дней водворения нашего на жительство в Оптиной припадочная крестьянская девушка из деревни Стениной. Зовут ее Грушей. Раба она Христова и великая страдалица от детских лет. Теперь ей годам к сорока, а мучается она от своего недуга, кажется, с пяти лет. Болезнь ее – падучая, а по ученому – эпилепсия. Бедная! что только с ней творится во время приступов этой болезни!.. Я узнал от нее, что ей это приключилось во время каком-то семейной ссоры между старшими.
– Черным словом, – сказывала мне Груша, – дюже ругались; тут-то меня и схватило: как вдарит обземь, так и стала я как без памяти, а изо рта пена, а сама колочусь об пол чем ни попало. Так вот из-за черного слова-то и бьюсь я до гробовой крышки.
Припадки у Груши бывают иногда по несколько раз в день и без всякой видимой причины: стоит или сидит, что-нибудь делает и – вдруг, хлоп оземь, головой о что ни попало, и бьется в страшных судорогах, испуская изо рта пену…
– Бог милостив, – говорю, – Груша, не до гробовой крышки это тебе будет: когда-нибудь и пройдет.
– Нет, – возразила она, – это до гроба. Да и слава Богу, – добавила она весело, – ведь, это ж душе моей на пользу: ведь это ж воля Божия!
Во время одного из припадков Груша раз без памяти пролежала “под святыми” трое суток. Ее отец, семидесятилетний старик, Павел говорит мне:
– Думали, что померла, да больно живности в лице много было, – так хоронить побоялись.
Во время этого припадка Груша удостоилась видеть святую великомученицу Варвару, которая ее водила по разным небесным обителям, показывала места блаженства и мучения, учила, как надо молиться Богу, как стоять в церкви, как жить, как разуметь волю Божию. Груша наша “не письменная”, да к тому же еще и страшно заикается, когда волнуется, и потому многого из ее повествования и не поймешь. Но одно для меня из ее рассказов ясно, это то, почему так умиляется мое сердце от слов Евангелия:
“В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение!” (Лк. 10,21)
Как совершилось поселение у нас Груши, я теперь не очень помню. Припоминается, что мое внимание сперва остановил на себе ее отец, старик Павел, ежедневно по всякой погоде и дороге прибредавший из Стениной (Версты полторы от Оптиной, по ту сторону реки Жиздры) молиться воптинские храмы. Сначала с ним завелось знакомство, а затем, как-то само собой, и с Грушей. Помню еше, что когда она у нас поселилась, то нас предупреждали:
– Смотрите, как бы она вас не спалила: долго ли ей во время припадка уронить лампу и сделать пожар.
Мы поблагодарили добрых людей за предостережение, но Грушу оставили жить у себя – помогать на кухне чистить картошку.
Не прошло и месяца, прибегает встревоженная Груша с надворья на кухню и, страшно заикаясь от волнения, объясняет:
– Ой, девочки! никак у нас где-то горит: чтой-то гарью пахнет!
Было это часов в одиннадцать ночи: у нас уже собирались укладываться спать.
– Где горит? что ты. Груша?
Выбежали на крыльцо, понюхали; обошли дом, заглянули в сарай для дров, на ледник, в кладовую (все это в деревянном строении под одной крышей, в пяти шагах от дому). Нигде ничего, и гарью не пахнет. Посмеялись над Грушей: припадочная, мол – что с нее взять?!. На шум и беготню вышел и я.
– Что тут у вас случилось?
Рассказали со смехом. Я дозору их не поверил и пошел с фонарем осматривать саран. И что же? у самой стенки сарая, сколоченном из толстых досок, сухих, как порох, отыскал деревянную кадушку с золой, а под золой уже разгоравшиеся угли. Клепка прожглась, начинала уже тлеть и стенка сарая. еще полчаса, и мы бы горели. Чья-то умная голова у одной из здоровых прислуг умудрилась выгребать горячую золу в деревянную кадушку и чуть не сделала пожара, а больная припадочная Груша оберегла от пожара и самих хозяев, и здоровую прислугу.
Так и “оправдалась премудрость чадами ея”.
Вот с этой самой Грушей нынче ночью и совершилось чудо чудное, диво дивное.
Вчера, в субботу. Груша с нашей кухаркой Дуней, были причастницами. Сегодня ночью, – стало быть, под воскресенье, – с Грушей приключился один из обычных ее припадков. После припадков она бывает некоторое время, как бы, вне себя и плохо сознает, что кругом нее творится. Захотелось Груше после припадка пить. В людской все спали. И сказал ей точно чей-то голос:
– Пойди в святой угол: там стоит в бутылке святая вода – возьми и выпей!
Так она и сделала. Но только она успела влить себе в рот с глоток из бутылки, как тут же и выплюнула: показалось ей, что вода ей обожгла губы. Так не пивши и заснула. Проснувшись утром, смотрит: передник весь прожжен и висит лохмотьями, а был новый, крепкий, – и угол рта у губы тоже обожжен. Оказалось, что вместо воды Груша себе в рот влила серной кислоты: та же прислуга, что, было, нас спалила, она же и бутылку с кислотой умудрилась поставить к образам в божницу… Узнали мы о том, что сотворил Господь Груше, как Он спас ее от страшной отравы, и все пошли дивиться на Грушу, на обожженную губу ее и на ее передник, от которого одни только клочья остались.
“Аше смертное что испиете, не вредит вам”.
И как все это просто совершается! Впрочем, и там, в миру, не так же ли просто совершается в жизни каждого христианина ежедневные проявления чудес милости Божией? Только их там мало примечают: некогда!
16 июня
Петроградский протоиерей. – Отец Н. о “знатной даме”
Несколько дней в Оптиной погостил один известный Петербургский протоиерей (Отец Павел Левашев, настоятель церкви Главного Штаба), близкий нам по духу и по давности дружеских отношений. Он, конечно, с высшим образованием, академик; но сердце его, к счастью, не засушено академической схоластикой и способно воспринимать и чувствовать красоту и глубину не мудрствующей лукаво детской веры. В прошлом году, проездом с кумыса (он каждое лето ездил в Самарские степи на кумыс), отец протоиерей заехал на денек навестить нас в Оптиной, отнюдь не имея никакого желания знакомиться с жизнью ее духа. Я свел его к нашим старцам: и теперь он – оптинец. За этот год не третий ли уж он раз приезжает в Оптину?
Вчера он уехал.
Заходил отец Н. (Отец Нектарий) – и ни с того, ни с сего завел речь о какой-то знатной даме, которую нам нужно ждать к себе – что бы это была за дама? Наш друг спроста не говорит.
19 июня
Знатная дама – путаная головка. – Кафедра церковного красноречия и притча по ее поводу отца Н. о слове сельского иерея, “пронзившем” сердце царево, и о слове епископа Макария. – Послушник Стефан и “авторское самолюбие”
К нам просится О. Ф. Р. (Олимпиада Федоровна Рагозина), давнишний наш друг и большая наша любимица. Сегодня от нее получили письмо, – она давно нам не писала, – и в письме этом она умоляет принять ее в общение с нашей жизнью. Пишет, что готова жить хоть в Козельске, лишь бы поближе быть к тому источнику, из которого мы черпаем живую воду, жить тем, чем жива душа наша.
Не наша ли Липочка (ее имя Олимпиада) та знатная дама, которую нам предвозвестил отец Н. (Отец Нектарий)? Не знатна она родовитостью и богатством, но душа ее поистине знатная – добрая, любящая, кроткая… Головка, вот только, у нас путаная: живя постоянно в Петрограде в общении с людьми нового толка, не исключая духовных лиц обновленческого направления, наша Липочка соскочила с оси подлинного Православия и теперь мечется из стороны в сторону, нигде не обретая себе покоя.
Найдет ли она его у нас? – ведь, мы из непримиримых: стремимся жить по старой, подлинно-старой, вере и никаких обновленческих новшеств неприемлем. Однако, написали ей сегодня же ответ, что ждем ее к себе с великой любовью и радостью.
Дошло до моего слуха, что один довольно мне близкий по прежним моим связям с орловской губернией человек имеет намерение по смерти своей оставить значительный капитал на учреждение при одной из духовных академий кафедры церковного ораторского искусства. Скорбно мне стало такое извращение понимания хорошим человеком источника церковного проповедничества. Беседовала мы на эту тему с отцом Нектарием… Говорил-то, правда, больше я, а он помалкивал да блестел тонкой усмешкой в глубине зрачков и в углах своих ярких, светящихся глаз.
– Ну, а вы, – спрашиваю, – батюшка, что об этом думаете?
– Мне, – отвечает он с улыбкой, – к вам приникать надобно, а не вам заимствоваться от меня. Простите меня великодушно: вы, ведь, сто книг прочли, а я-то? утром скорбен, а к вечеру уныл…
А у самого глаза так и заливаются детским смехом…
– Ну-те, хорошо! (это у отца Н. такое присловье). Ну-те, хорошо! Кафедру, вы говорите, хотят красноречия завести при академии. Что ж, может быть, и это к добру. А не слыхали ли вы о том, как некий деревенский иерей, не обучившись ни в какой академии, пронзил словом своим сердце самого царя? да еще царя-то какого? спасителя всей Европы – Александра Благословенного!
– Не слыхал, батюшка.
– Так не поскучайте послушать. Было дело это в одну из поездок царских по России, чуть ли не тогда, когда он из Петрограда в Таганрог ехал. В те времена, изволите знать, железных дорог не было, и цари по царству своему ездили на конях. И вот, случилось государю проезжать через одно бедное село. Село стояло на царском пути, и проезжать его царю приходилось днем, но остановки в нем царскому поезду по маршруту не было показано. Местный священник это знал, но по царелюбию своему, все-таки, пожелал царский поезд встретить и проводить достойно. Созвал он своих прихожан к часу проезда к храму, у самой дороги царской; собрались все в праздничном наряде, – вышел батюшка в светлых ризах, с крестом в руках, а о бок его дьячок со святой водой и с кропилом – и стали ждать, когда запылит дорога и покажется государев поезд. И вот, когда показался в виду царский экипаж, поднял священник крест высоко над головой и стал им осенять грядущего в путь самодержца. Заметил это государь и велел своему поезду остановиться, вышел из экипажа и направился к священнику. Дал ему иерей Божий приложиться ко кресту, окропил его святой водою, перекрестился сам и сказал такое слово:
“Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Царь земный! вниди в дом Царя Небесного, яко твое есть царство, а Его – сила и слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь”.
И что ж вы, мой батюшка С. А., думаете? ведь так пронзило слово это сердце царское, что тут же царь велел адъютанту выдать священнику на церковные нужды пятьдесят рублей. Мало того: заставил повторить слово и еще пятьдесят рублей пожертвовать. Во сто целковых оценил государь краткое слово сельского батюшки…
Прервал свой сказ отец Нектарий и засмеялся своим детским смехом…
– Впрочем, – добавил он с серьезным видом, – вы, батюшка-барин, изволили сто книг прочесть – вам и книги в руки.
Потом помолчат немного и сказал:
– Когда посвящал меня в иеромонахи бывший наш благостнейший владыка Макарий, то он, святительским своим прозрением проникнув в мое духовное неустройство, сказал мне, по рукоположении моем, тоже краткое и тоже сильное слово, и настолько было сильно слово это, что я его до сих пор помню, – сколько уж лет прошло, – и до конца дней моих не забуду. И много ль всего-то и сказал он мне? Подозвал к себе в алтарь да и говорит: “Нектарий! Когда ты будешь скорбен и уныл, и когда найдет на тебя искушение тяжкое, то ты только одно тверди: Господи, пощади, спаси и помилуй раба Твоего, иеромонаха Нектария!” – Только всего, и сказал мне владыка, но слово его спасло меня не раз и доселе спасает, ибо оно было сказано с властью.
“Да, – подумалось мне, – власти этой, кроме как от Бога ниоткуда не получишь, хотя бы с академической кафедры, которую имеет в виду устроить мой орловский знакомый”. От какой беды спасло нашего друга слово владыки Макария, того он мне не поведал, да я и спросить не решился. Мало ли скорбей и бед наводит враг рода человеческого на монаха, особенно если он старается “добре подвизатися” на тесном и прискорбном пути монашеского подвига!..
Сегодня тот же отец Нектарий, в беседе о тесноте монашеского пути, вспомнил об одном своем товарище почжиту, некоем отце Стефане, проводившем благочестное житие в обители двадцать пять лет и все-таки не устоявшем до конца в своем подвиге. И с какою тон костью поведен был вражий приступ на Стефана с той стороны, откуда можно было ожидать не врага, а ангела света!
– Этот Стефан, – сказывал мне отец Нектарий, – был богатого купеческого рода Курской губернии, и за ним в его родном городе числился и капиталец порядочный, и дом двухэтажный; а брат его родной, так тот и городским даже головой был на его родине – словом, из именитых людей был наш Стефан в миру, да и в обители у нас тоже пользовался доброй славой. Пришел он к нам еще совсем молодым человеком, прожил у нас двадцать пять лет послушником, получил рясофор (тогда у нас даже рясофор был великое дело); и так он хорошо и внимательно жил, что был приближен и к старцу Амвросию, и кошу Ювеналию Половцеву (В то время оптинскому иеромонаху, впоследствии архиепископу Виленскому); отец Ювеналий так любил Стефана, что когда получил назначение наместником в Киевскую Лавру, то звал его ехать с ним, чтобы посвятить в иеромонахи.
– Будь только со мною, – говорил ему отец Ювеналий, – и прими священство, а я тебе, если жалуешься на слабость здоровья и послушания даже никакого не назначу.
Такого, значит, высокого о Стефане мнения был отец Ювеналий. И что же впоследствии вышло? Стефан, как человек книжный и любитель святоотеческих писаний, особенно занимался изучением святителя Иоанна Златоуста и из его творений делал выписки. Привел он эти выписки в порядок, а затем, не сказав никому ни слова, взял да и издал их на свой счет под своим именем, с указанием точного своего адреса. К имени своему он и прозвище придумал – “монах – мирянин” – и прозвище это тоже пропечатал рядом со своим именем. Издание это, к слову сказать, в свое время среди мирян имело успех немалый… Дошла эта книжонка и до рук оптинского настоятеля, архимандрита Исаакия. Позвал он к себе Стефана да и говорит, показывая па книжку:
– Это чье?
– Мое.
– А ты где живешь?
– В скиту.
– Знаю, что в скиту. А у кого благословлялся это печатать?
– Сам напечатал.
– Ну, когда “сам”, так чтоб твоей книжкой у нас и не пахло. Понял? Ступай!
Только и было у них разговору. И жестоко оскорбился Стефан на архимандрита, но обиду затаил в своем сердце и даже старцу о ней не сказал ни слова. Так пришло время пострига, – его и обошли за самочиние мантией: взял Стефан да и вышел в мир, ни во что вменив весь свой двадцатипятилетний подвиг. Прожил он на родине, в своем двухэтажном доме, что-то лет с пять, да так в миру и помер.
Рассказал мне отец Нектарий скорбную эту повесть, заглянул мне в глаза, усмехнулся и сказал:
– Вот что может иногда творить авторское самолюбие!
А у меня и недоразумение-то мое с отцом архимандритом возникало на почве моего авторского самолюбия. К счастью, не возникло.
И откуда отец Н. это знает? А знает, и нет-нет да и преподаст мне соответственное назидание.
Уходя от нас и благословив меня, отец Н. задержал мою руку в своей руке и засмеялся своим детским смехом.
– А вы все это непременно запишите! Вот и записываю.
26 июня
Гнев Божий. – Дурные вести из деревни. – Пророка надо. – Монах Авель и участь его как пророка
Третий день стоит такая погода, что, кажется, еще немного – и задохнешься: дождит, парит, а тяжелые тучи спускаются так низко, что задевают иногда за верхушки яблонь нашего сада. За всю свою жизнь я не запомню такого ненастного и грозного лета. С Козельском сообщение на лодках по новому разливу Жиздры. Луга уже в цвету затоплены, а вода все прибывает и прибывает.
Гнев Божий!
Да как и не быть ему?.. Приходит сегодня отец нашей припадочной Груши, просить чайку.
– Ну, как, – спрашиваю, – живут у вас, Павел, на деревне? Опоминается народ?
А я знал и по рассказам, и поличным наблюдениям, что жизнь в деревнях стала, что называется, – “не приведи. Господи!”
– Какое там, – махнул безнадежно рукою Павел, – опоминается! Опомнится он? час от часу все хужеет народ, звереет, точно и смерти на него нет: ни Бога, ни души – ничего не стал признавать. За то и дохнуть стали, как скоты: где застала смерть без покаяния, там и помирают. Сколько их у нас по полям да по дорогам поперемерло и не перечесть!
– Что ж? иль хворь какая зашла?
– Нет, так просто – с удару что ль, или там от сердца: ударит в голову иль под сердце подкатил, и – дух вон. Плохой, совсем плохой народ стал!
Это я уж давно не от одного Павла слышу.
Анархия в человеке – анархия и в природе. Воздвигни, Господи, пророка миру, да призовет его к покаянию! Не явится пророк, не обратит отступнического сердца к Богу, – не миновать предреченной “скорби, какой не было от века и не будет”…
* * *
Виделся с отцом Н. Поговорил на эту тему.
– Пророка бы надо! – говорю.
– Пророка? – вопросительно повторил за мною это слово отец Н., – вот что я расскажу вам на это. Во дни великой Екатерины, в Соловецком монастыре, жил-был монах высокой жизни. Звапи его Авель. Был он прозорлив, а нравом отличался простейшим, и потому что открывалось его духовному оку, то он и объявлял во всеуслышание, не заботясь о последствиях. Пришел час и стал он пророчествовать: пройдет, мол, такое-то время, и помрет царица, – и смертью даже указал какою. Как ни далеки Соловки были от Питера, а до шло, все-таки, в скорости Авелево слово до тайной канцелярии. Запрос к настоятелю, а настоятель, недолго думая, Авеля – в сани и – в Питер; а в Питере разговор короткий: взяли да и засадили пророка в крепость… Когда исполнилось в точности Авелево пророчество и узнал о нем новый государь, Павел Петрович, то, вскоре по восшествии своем на престол, повелел представить Авеля пред свои царские очи. Вывели Авеля из крепости и повели к царю.
– Твоя, – говорит царь, – вышла правда. Я тебя милую. Теперь скажи: что ждет меня и мое царствование?
– Царства твоего, – ответил Авель, – будет все равно что ничего: ни ты не будешь рад, ни тебе рады не будут, и помрешь ты не своей смертью.
Не по мысли пришлись царю Авелевы слова, и пришлось монаху прямо из дворца опять сесть в крепость… Но след от этого пророчества сохранился в сердце наследника престола, Александра Павловича. Когда сбылись и эти слова Авеля, то вновь пришлось ему совершить прежним порядком путешествие из крепости во дворец царский.
– Я прощаю тебя, – сказал ему государь, – только скажи, каково будет мое царствование.
– Сожгут твою Москву французы, – ответил Авель и опять из дворца угодил в крепость… Москву сожгли, сходили в Париж, побаловались славой… Опять вспомнили об Авеле и велели дать ему свободу. Потом опять о нем вспомнили, о чем-то хотели вопросить, но Авель, умудренный опытом, и следа по себе не оставил: так и не разыскали пророка… А вы, С. А., хотели бы, чтобы в наше-то время да чтобы пророк явился! Сто лет тому назад, вишь, куда пророков-то за слово пророческое сажали, а теперь, – усмехнулся он, – и слова сказать не дадут, как за – клин засадят.
Так закончил свою повесть отец Н. о соловецком монахе Авеле.
О монахе Авеле у меня записано из других источников следующее.
Монах Авель жил во второй половине восемнадцатого века и в первой половине девятнадцатого. О нем в исторических материалах сохранилось свидетельство, как о прозорливце, предсказавшем крупные государственные события своего времени. Между прочим, он за десять лет до нашествия французов предсказал занятие ими Москвы. За это предсказание и за многие другие монах Авель поплатился тюремным заключением. За всю свою долгую жизнь, – он жил более восьмидесяти лет, – Авель просидел за предсказания в тюрьме двадцать один год. Во дни Александра I он в Соловецкой тюрьме просидел более десяти лет. Его знали: Екатерина II, Павел I, Александр I и Николай I. Они – то заключали его в тюрьму за предсказания, то вновь освобождали, желая узнать будущее. Авель имел многих почитателей между современной ему знатью. Между прочим, он находился в переписке с Параскевой Андреевной Потемкиной. На одно ее письмо с просьбой открыть ей будущее Авель ответил так: “сказано, ежели монах Авель станет пророчествовать вслух людям, или кому писать на хартиях, то брать тех людей под секрет и самого Авеля и держать их в тюрьмах или в острогах под крепкою стражею”… “Я согласился, – пишет далее Авель, – ныне лучше ничего не знать, да быть на воле, а нежели знать, да быть в тюрьмах и под неволею”. Но недолго Авель хранил воздержание и что-то напророчил в царствование императора Николая Павловича, который, как видно из указа Святейшего Синода от двадцать седьмого августа 1826 года, приказал изловить Авеля и заточить “для смирения” в Суздальский Спасо-Евфимиевский монастырь. В этом монастыре, полагать надо, и кончил свою жизнь прозорливец.
В другом письме к Потемкиной Авель сообщал ей, что сочинил для нее несколько книг, которые и обещал выслать в скором времени. “Оных книг, – пишет Авель, – со мною нет. Хранятся они в сокровенном месте. Оные мои книги удивительные и преудивительные, и достойны те мои книги удивления и ужаса. А читать их только тем, кто уповает на Господа Бога”.
Рассказывают, что многие барыни, почитая Авеля святым, ездили к нему справляться о женихах своим дочерям. Он отвечал, что он не провидец и что предсказывает только то, что ему повелевается свыше.
Дошло до нашего времени “Житие и страдания отца и монаха Авеля”; напечатано оно было где-то в повременном издании, но, по цензурным условиям, в таком сокращенном виде, что все касающееся высокопоставленных лиц было вычеркнуто.
По “Житию” этому, монах Авель родился в 1755 году в Алексинском уезде Тульской губернии. По профессии он был коновал, но “о сем (о коновальстве) мало внимаше”. Все же внимание его было устремлено на Божественное и на судьбы Божий. “Человек” Авель “был простой, без всякого научения, и видом угрюмый”. Стал он странствовать по России, а потом поселился в Валаамском монастыре, но прожил там только год и затем “взем от игумена благословение и отыде в пустыню”, где начал “труды к трудом и подвиги к подвигом прилагати”. “Попусти Господь Бог на него искусы великие и превеликие. Множество темных духов нападаше нань”. Все это преодолел Авель, и за то “сказа ему безвестная и тайная Господь” о том, что будет всему миру. Взяли тогда Авеля два некий духа и сказали ему: “буди ты новый Адам и древний отец и напиши яже видел еси, и скажи яже слышал еси. Но не всем скажи и не всем напиши, а только избранным моим и только святым моим”. С того времени и начал Авель пророчествовать. Вернулся в Валаамский монастырь, но, прожив там недолго, стал переходить из монастыря в монастырь, пока не поселился в Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии, на Волге. Там он написал свою первую книгу, “мудрую и премудрую”.
Книгу эту Авель показал настоятелю, а тот его вместе с книгой проводил в консисторию. Из консистории его направили к архиерею, а архиерей сказал Авелю: “сия твоя книга написана смертною казнию” – и отослал книгу с автором в губернское правление. Губернатор, ознакомившись с книгой, приказал Авеля заключить в острог. Из костромского острога Авеля под караулом отправили в Петербург. Доложили о нем “главнокомандующему Сената”, генералу Самойлову. Тот прочел в книге, что Авель через год предсказывает скоропостижную смерть царствовавшей тогда Екатерине II, ударил его за это по лицу и сказал: как ты, злая глава, смел писать такие слова на земного бога?” – Авель отвечал: “меня научил секреты составлять Бог!” – Генерал подумал, что перед ним простой юродивый и посадил его в тюрьму, но все-таки, доложил о нем государыне.
В тюрьме Авель просидел около года, пока не скончалась Екатерина. Просидел бы и больше, но книга его попалась на глаза князю Куракину, который был поражен верностью предсказания и дал прочесть книгу императору Павлу. Авеля освободили и доставили во дворец к государю, который просил благословения прозорливца:
– Владыко, отче, благослови меня и весь дом мой, дабы твое благословение было нам во благое.
Авель благословил. “Государь спросил у него по секрету, что ему случится”, а затем поселил его в Невской Лавре. Но Авель скоро оттуда ушел в Валаамский монастырь и там написал вторую книгу, подобную первой. Показал ее казначею, а тот ее отправил к Петербургскому митрополиту. Митрополит книгу прочел и отправил в “секретную палату, где совершаются важные секреты и государственные документы”. Доложили о книге государю, который увидал в книге пророчество о своей скорой трагической кончине. Авеля заключили в Петропавловскую крепость.
В Петропавловской крепости Авель просидел около года, пока не умер, согласно предсказанию, император Павел. После его смерти Авеля выпустили, но не на свободу, а под присмотр в соловецкий монастырь, по приказанию императора Александра I.
Потом Авель получил полную свободу, но пользовался ею недолго. Написал третью книгу, в которой предсказал, что Москва будет взята в 1812 году французами и сожжена. Высшие власти осведомились об этом предсказании и посадили Авеля в Соловецкую тюрьму при таком повелении: “быть ему там, доколе сбудутся его предсказания самою вешию”.
В Соловецкой тюрьме, в ужасных условиях, Авелю пришлось просидеть десять лет и десять месяцев.
Москва, наконец, была взята Наполеоном, и в сентябре 1812 года Александр I вспомнил об Авеле и приказал князю А.Н. Голицнну написать в Соловки приказ освободить Авеля. В приказе было написано: “ежели жив здоров, то ехал бы к нам в Петербург; мы желаем его видеть и нечто с ним поговорить”. Письмо пришло в Соловки первого октября, но соловецкий архимандрит, боясь что Авель расскажет царю о его (архимандрита) пакостных действиях”, от писал, что Авель болен, хотя тот был здоров. Только в 1813 году Авель мог явиться из Соловков к Голицину, который “рад бысть ему до зела” и начал его “вопрошати о судьбах Божиих”. И сказывал ему Авель “вся от начала веков и до конца”.
Потом Авель стал опять ходить по монастырям, пока не был, в царствование уже Николая Павловича, пойман по распоряжению властей и заточен в Спасо-Евфммиевский монастырь в Суздале, где, по всей вероятности, и скончался.
5 июля
Обращение сестры отца Феодота из раскола в Православие
У одного из монастырских друзей моих отца Феодота, живет в городе Уральске родная сестра, Александра. Она старше своего брата лет на десять. Сестра вышла замуж за раскольника, и лет двадцать тому назад и сама уклонилась в раскол, в секту, именуемую “старушечья”. Секта эта, как сказывал мне отец Феодот, с Церковью не общается, священства не признает и заменяет его “благочестивыми” старухами. Лет пять тому назад муж Александры, ярый раскольник, отправился на заработки в Сибирь, и с той поры о нем не стало ни слуху, ни духу. Об этом отец Феодот знал от третьих лиц; сама же Александра с братом уже давно прекратила всякое общение.
И вот в конце прошлого мая она внезапно приехала в Оптину.
– Посмотреть, – сказала она, здороваясь с братом, – спасаешься ли ты, или погибаешь.
Оптина произвела на нее такое сильное впечатление, что у нее, как мне говорил отец Феодот, “открылись источники слез”, и она решила воссоединиться с Православною Церковью, поговеть и причаститься Святых Тайн, которых в безумии своем была лишена столько лет.
– Я все двадцать лет, – говорила Александра брату, как окованная была, а последние годы стала ровно каменная. И мучило это меня, и камнем лежало на сердце, а поделать с собой ничего не могла, хотя и сознавала, что это у меня от моего отпадения от Церкви. А тут еще и хозяйка моя, раскольница, все пугала меня “лицевыми книгами”.
– Что это за книги? – спросил ее отец Феодот.
– А это такие раскольничьи книги с картинками. На картинках изображена Православная Церковь, как престол антихристов, а священники ее – как эфиопы или мурины (Мурин то же, что и эфиоп – черным – негр. В житиях святых под муринами нередко разумеются бесы). В книгах этих есть, например, такая картинка: священник помазывает народ елеем, а рука его в это время обвивается страшным змием; сам же священник изображен с копытами, вместо ног, и с хвостом, торчащим из спины.
– Неужели ты и у меня, – засмеялся отец Феодот, – и хвост, и копыта видишь?.. Ну, – сказал сестре своей отец Феодот, – живи, смотри, ко всему присматривайся, молись, ходи на могилки к старцам, а там уж сама как знаешь, так поступай: у тебя самой свой разум есть.
И всем сердцем обратилась сестра отца Феодота к покинутой, родной матери Церкви.
Перед исповедью Александра говорила брату, что у нее глубоко засело и сидит враждебное чувство к таинству покаяния.
– Меня, – говорила она, – двадцать лет наставляли в том, что исповедываться вздор. Кому исповедываться-то? Попу? – да он и сам-то сплошь бывает хуже и грешнее тебя…
Когда сестра от исповеди пришла к отцу Феодоту, он, сам не зная почему, спросил ее:
– А что, ты в эту ночь ничего во сне не видала?
– Ничего. Почему спрашиваешь?
– Да так – спросилось.
И тут отец Феодот рассказал что-то из области знаменательных сновидений, подходящих к ее обстоятельствам.
Александра прослушала со вниманием и говорит:
– Правду сказать, сон-то и я нынче ночью видела, только такой поганый да глупый, что я его и за сон почесть не могу.
– А что видела?
– Да себя самое: будто, я такая грязная, лохматая, растрепанная, а по мне по всей ползают вши. Я их обираю, а кто-то около меня стоит и вшей этих обирать помогает.
– Как же ты сон этот за ничто почитаешь? – подивился отец Феодот, – ведь, он тебе показал, что такое есть исповедь: была грязная и вшивая, а задумала исповедываться, – и стала вшей обирать. Вши – грехи, а кто помогал тебе их обирать, тот иерей Божий, без чьей помощи тебе бы и во веки не обобраться.
Когда же Александра причастилась Святых Таин (ее присоединение совершено было келейно исповедью), то на следующую за причастием ночь она увидела такой сон: стоит она пред могилками трех великих оптинских старцев – Льва, Макария и Амвросия, – и видит: окружены могилки эти таким сиянием, что глаза ломит от света. И, вдруг, между могилками вырывается сноп такого света, что слепнут очи, и из света этого слышит Александра голос:
– Не думай, что исповедовал тебя священник: тебя исповедовал Сам Я, Господь и Бог твой. Смотри, как сияют эти могилы! Это все исповедники Мои, творящие Мою волю и таинством покаяния приводившие ко Мне кающихся грешников. Не буди неверна, но верна!
Слезами обливалась Александра, когда это рассказывала.
7 июля
Порок курения. – Старцы о курении
Сегодня ночью со мною был тяжелый приступ удушливого кашля. Поделом! – это все от курения, которого я не могу бросить, а курю я с третьего класса гимназии и теперь так насквозь пропитал себя проклятым никотином, что он уже стал, вероятно, составною частью моей крови. Нужно чудо, чтобы вырвать меня из когтей этого порока, а своей воли у меня на это не хватит. Пробовал бросить курить, не курил дня по два, но результат был тот, что на меня находила такая тоска и озлобление, что этот новый грех становился горше старого. Отец Варсонофий запретил мне даже и делать подобные попытки, ограничив мою ежедневную порцию курения пятнадцатью папиросами (прежде я курил без счета).
– Не все сразу, не все сразу, – говорил мне старец, – всему свое время: придет ваш час, и курению настанет конец.
Старец Иосиф велел мне молиться святому мученику Вонифатию и сказал:
– Надейся, не отчаивайся: в свое время. Бог даст, бросишь!
То же и почти в тех же выражениях говорил мне и отец Анатолий. И, тем не менее, я все курю да курю, несмотря даже на раздирающий мои внутренности курительный катар дыхательных путей.
Было время, я в Сарове, в источнике преподобного Серафима, исцелился на некоторое время от своего кашля, но курить не бросил, хотя Саровский духовник мой и очень на этом настаивал, – и вновь вернулась ко мне моя болезнь, от которой я так мучительно страдаю.
В ограде нашей усадьбы живут два оптинских подвижника; один из них – мой любимец, отец Вонифатий: буду просить его святых молитв к его Ангелу – на свои-то я плохо надеюсь.
8 июля
День Казанской Божией Матери. – Странности Липочки. – Мое курение и отец Вонифатий. – “Переоценка математики”. – Наука в безумии. – Знамение антихристова времени. – Награда сторицею
В Оптиной храмовой праздник – день Казанской Божией Матери, но народу было немного в храме Божием. Не пошла ни ко всенощной, ни к обедне и наша Липочка, ссылаясь на нездоровье. Со дня своего приезда она не была ни в храме, ни на могилках старцев, ни к живым не пошла, как мы ее ни уговаривали. Становится нервной, беспокойной, как только заведешь об этом речь, и волей-неволей приходится от нее отступаться и не настаивать, видя, какое на нее производят действие наши уговоры. Вывел ее как-то за нашу ограду в лес погулять и, гуляя, в беседе с ней, незаметно для нее, стал приближаться к скиту. Липочка понятия не имела об окрестностях Оптиной, и, где расположен скит, не знала. Вдруг, она остановилась и, прервав разговор, тревожно спросила:
– Вы не в скит ли к старцам думаете меня вести?
– И не думал, – ответил я ей. (Признаться, такой помысл был).
– Нет, уж нет, пожалуйста, – заторопилась Липочка, – я в скит не пойду: мне холодно, сыро; я и без того простужена. Пойдемте домой… Это когда-нибудь, в другой раз, а теперь пойдемте, домой поскорее – я озябла.
И голос-то какой-то точно чужой!.. Странно мне это показалось.
Встретил у нашей садовой калитки отца Вонифатия.
– Батюшка, помолись своему угоднику, чтобы я курить бросил.
– Я и то, – говорит, – об этом молюсь: барин ты хороший, а привычка твоя плохая. Молюсь, молюсь! – успокоил меня отец Вонифатий.
А я, грешник, вслед, – не утерпел, закурил свое зелье.
“Бедный я человек!.. – умом хочу служить закону Божию, а плотью служу закону греха”. Чьи молитвы избавят меня от моего порока?..
Наша гостья дала нам в разговоре такой образец путаницы и анархии мысли, что, просто, жутко слушать.
Сидели мы с ней за обедом и вели беседу о том, что теперь творится в мире, из которого она только что приехала, и от которого мы, слава Богу, давно уже отстали.
– Знаете ли вы, – обратилась к нам Липочка, – что теперь идет такая всему переоценка, что даже математические аксиомы и те поколеблены. Вы, вот небось, до сих пор уверены, что две параллельные линии не пересекаются в бесконечности, а теперешняя наука это отвергает и доказывает, что линии эти в бесконечности сходятся.
– Липочка! – воскликнули мы все, сидевшие за столом, – да ведь это ж – безумие!
– Нисколько! – возразила с горячностью, – никакого нет в этом безумия! Станьте на железнодорожном пути, посреди рельс, на длинной прямой, и посмотрите на них вдаль: разве вы не увидите перед своими глазами точки, где линии рельс пересекаются?
– Липочка! да ведь это ж оптический обман! Кто же на обмане математические теории строит?!”
– Ну-да, ну-да, – обман! – кричала Липочка, – но в мире видимом все только наше представление о нем и ничего больше, а наше представление о мире тоже обман…
Батюшки-светы, чего тут только мы ни понаслушались! Возражать было бесполезно, ибо для Липочки вся ерунда переоценки математики была основана на авторитете ее родственника, одного небезызвестного профессора, – не тем он будь помянут.
– Послушайте, – обратился тут ко мне один из разделявших с нами трапезу, – я все не мог склонить своего сердца к тому, чтобы поверить вашему убеждению в близости антихриста; но если правда, что наука дошла теперь до подобного безумия, то начинаю верить, что “презренный” действительно близко, ибо большей анархии мысли, чем эта теория, миру не дождаться.
– И, обратите внимание, – заметил тут еще один из собеседников, – теория эта, при всей ее видимой бессмысленности, не лишена некоего прикровенно сатанинского смысла: заставляя верить лжи пересечения параллельных в бесконечности, она отвергает бесконечность, а, следовательно, вечность, стало быть, и Самого Бога.
Не знамение ли это времени? – подумалось и мне.
Конечно, – знамение.
Но когда та же Липочка отрешает себя от влияния на нее переоценщиков духовных ценностей и говорит свое, а не наигранное на ней, как на граммофоне, тогда и в ее речах и рассказах обретаются такие перлы, которые могут служить украшением любой сокровищницы.
Зашла речь о прошлом Липочки, – а оно у нее было не из легких, – жена и вспомнила то время, когда впервые завязались ее отношения с нею. Слово за словом, и Липочке пришел на память один эпизод из того времени, который она тут же и рассказала:
– Было это, – вспомнила она, – лет тридцать тому назад. Я тогда еще была совсем молоденькая, хотя уже и с немалым горем на плечах: у меня на руках был муж, страдавший тяжелой формой умопомешательства. Средств к существованию у нас не было никаких. Бог не без милости: нашлись добрые люди, определили нас: меня к месту, а мужа в лечебницу для душевнобольных, и я могла зажить сколько-нибудь спокойно, без страха за завтрашний день. Трудновато, правда, было мне и на месте: жалованье было маленькое, и оно почти все целиком уходило на содержание и лечение больного мужа; но стол и квартира были казенные, и я, хотя с грехом пополам, да перебивалась. Большой для меня в то время нравственной поддержкой была моя сестра, которая с мужем жила на Удельной: к ней я часто ездила мыкать свое горе.
Чтобы попасть к сестре на Удельную, мне надо было садиться на конку на Михайловской площади и ехать до Финляндского вокзала. И вот села я раз в открытый вагон на Михайловской площади и вижу, что около конки стоит какой-то простой рабочий с окровавленной рукой в повязке. Потянулось к нему мое сердце: очень мне его жалко стало. Я встала с своего места, подошла к нему.
– Что это у тебя с рукой? – спрашиваю.
– На работе руку, – отвечает, – сломал, сударыня.
Вижу, – сложный перелом: кровь сочится.
– Тебе, – говорю, – в больницу надо поскорей!
– Да, вот, – говорит, – был в Обуховской, а там не приняли: мест нет. Дали больничный билет на Удельную, а мне туда ехать не на что – денег нет.
– Садись, – говорю ему, – со мной: я тебя довезу до Удельной.
Рабочий мой сам взлезть в вагон не мог: я попросила близ стоявшего городового помочь ему; сама помогла чем могла: кое-как усадила его с собой рядом, и мы поехали. И показалось мне тут достойным внимания то, что из публики на все это глядевшей, не нашлось никого сочувствующего; напротив – на меня смотрели с нескрываемой насмешкой: делать, мол, бабе нечего – вот и рисуется своей добродетелью!
Казалось ли мне это, или на самом деле было так, но мне впору было бы отказаться от своего намерения, если бы не жалость – и жалость преодолела ложное смущение.
Довезла я рабочего до Удельной. На станции меня встретил зять; с ним вместе мы и устроили страдальца в больницу. Дала я ему полтинник на чай и на сухарь, заглянула в кошелек, хотела прибавить на булку, а в кошельке уже и нет ничего: было около четырех рулей, а осталось немного мелочи – только на обратную дорогу домой. Три рубля, ровным счетом, стоил мне мой раненый рабочий.
– Барыня! – со слезами на глазах спросил он меня, когда мы с ним стали прощаться, – скажи мне твое имя, чтобы знать, как поминать тебя на молитве.
Я сказала. С тем мы и простились, и я уже более никогда рабочего этого не видала.
Пошли мы с зятем из больницы к нему на дачу. Я иду и думаю: жить тебе. Олимпиада, до жалованья еще больше недели, занять негде: с чем ты теперь осталась? А было бы три рубля-то дома, если бы… Я поймала тут себя на лукавой мысли и в ответ на нее чуть вслух ни сказала:
– А Бог-то! ведь. Он же сторицею обещал воздать за всякое добро, сделанное ближнему: да будет Его святая воля – Он уж как-нибудь обо мне промыслит.
Подходим мы с зятем к их даче, а сестра, завидя нас с террасы, еще издали мне кричит:
– Липочка, поздравляю! Иди расписывайся скорее: тебе на наш адрес сейчас с почты триста рублей принесли!
У меня от нечаянной радости едва ноги не подкосились. Распечатываю конверт и глазам не верю, лежат три радужные бумажки и при них письмо от совершенно неизвестного мне господина. Пишет: “я – давнишний друг вашего мужа и был ему должен триста рублей. Узнал, что он болен, а Вы находитесь в тяжелом положении – и решил свой долг уплатить Вам”. Только всего, и было в письме; я даже и подписи разобрать не могла. – Так и не узнала и не знаю, кто был мой благодетель… Но вы подумайте только: три рубля пожертвовала вдовьей своей лепты, а триста тут же получила! Бог-то Бог, что только Он делает!
Мы все бросились целовать нашу Липочку, растроганные, умиленные…
– А помните. Олимпиада Феодоровна, – спросила ее жена моя, – как вы тропарь к празднику Казанской Божией Матери выучили?
– Еще бы не помнить! – с живостью воскликнула Липочка, – разве такие вещи забываются?
– Как? что? – посыпались на нее расспросы, – расскажите, милушка!
– Весь и рассказ-то мой, как и самое дело всего-навсего три слова: Матерь Божия выучила!
– Как так?
– Да, видите ли, вот как! – Я всегда очень чтила икону Казанской Божией Матери и много на себе самой от нее чудес испытала. Вот кто-то мне и скажи: “а тропарь-то вы Казанской Царице Небесной знаете?” – А я как раз и не знаю. Стала я его учить, – а он такой длинный (“Заступнице Усердная”), – и не могу выучить. Ну, вот, что хотите, не дается он мне да и полно! Один раз, твердя его, я даже до слез дошла: ну ни в зуб, что называется, толкнуть, – только и помню что “Заступнице Усердная”, а дальше – ни слова. И вот, заснула я раз ночью и вижу: пришла Сама Царица Небесная и говорит мне:
– Отныне тропарь Мой ты будешь знать и помнить до самой твоей смерти!
От невыразимого умиления я проснулась в слезах и, конечно, тропарь этот до сих пор помню (Достойно замечания, что друг наш, Олимпиада Феодоровна. скончалась четырнадцатого октября 1911 года, и девятым день ей таким образом, пришелся на двадцать второе октября, на Казанскую).
И зачем только наша Липочка, с таким-то сердцем, возится с разными профессорами, переоценивающими ценности?!
10 июля
Спор с Липочкой. – Смерть курсистки и видение рая
Опять спор с Липочкой.
– Христос Своею крестною смертью, – кричит она на меня, – всех искупил! всех, всех, – слышите ли, – всех! Я знать не хочу ваших средневековых понятий о Христе, как о каком-то инквизиторе…
Бедненькая наша Липочка была в свое время ревностной посетительницей известных в Петрограде “религиозно-философских” собраний: там-то ей больше всего и спутали головку.
– А что и неверующие, и даже противящиеся Христу, и те не лишатся части своей в Царстве Света, на это я вам приведу свое доказательство!
– Приводите! – попросил я.
– И приведу, – заартачилась Липочка, – да еще такое, против которого у вас и возражений не найдется.
– Что ж это за доказательство? – спрашиваю.
– Доказательство свыше – видение, – ответила она мне уже спокойно – серьезно.
Я знал тонкую духовную природу нашей Липочки и верил ее способности кое-что видеть из того мира, куда редко кому дается безнаказанно заглядывать – тому я уже имел примеры. Я насторожился.
– У нас на курсах училась одна курсистка, на редкость хорошенькая и пресимпатичная, но, к сожалению, внутренний ее человек был заражен и насквозь пропитан духом времени и притом не только неверия, но и злейшим его – противления, вражды ко всему, что относилось к области веры… Заболела девушка эта, и наши врачи определили, что ей уже больше не жить на этом свете. Увидела я, что к ее земным счетам подводятся итоги, и стала я понемногу, исподволь, уговаривать ее обратиться к Церкви, а, главное, поисповедоваться и причаститься Святых Тайн. Куда тебе! – она и слушать не захотела, так и умерла во вражде к Православной вере… Если бы вы только знали, как тяжело мне было это!..
Вы знаете расположение помещений наших курсов и помните, что как раз над моей квартирой находилась наша домовая церковь. В эту церковь до отпевания и был поставлен гроб с телом почившей. Накануне погребения я зашла пред сном в церковь, помолилась у гроба, как только могла от всего сердца, о упокоении души моей курсисточки, сошла к себе вниз, помолилась на сон грядущий и легла спать с мыслью о ее загробной участи. Хотела, было, уже тушить свечку, да вижу, что от тяжелых дум заснуть не могу; прочла Евангелие… Не могу спать, лежу с открытыми глазами; свечка горит!.. В спальне моей было четыре окна: два в одной стене и два в другой, а между окнами было по простенку… И внезапно в одном из этих простенков явилась передо мною, как живая, фигура усопшей в том ее повседневном облике, в котором я ее привыкла видеть: в платье и косынке – форме наших воспитанниц. Явилась эта фигура и исчезла. В то же мгновение другой простенок исчез, как бы раздвинулся, и перед глазами моими явилось нечто до того невообразимо прекрасное, чудесное, что сердце мое замерло от восторга. Я вскочила с кровати и только успела вскрикнуть – ах! – видение это исчезло. Пока я опомнилась, пришла в себя, картина виденного из памяти моей уже изгладилась, и только сердце все еще продолжало трепетать от восхищения, перед тем, чему нет слов на языке человеческом.
Когда несколько улеглось мое волнение, я схватила бумагу и карандаш, – они у меня всегда лежали на спальном столике, – хотела записать хотя бы тень и… не могла, ибо нет образа виденному ни на земле, ни в представлениях и понятиях человека… И подумалось мне в ту минуту – суд Божий не есть суд человеческий: я печалилась о загробной участи моей воспитанницы, а милость Божия открыла мне то райское селение, в которое она призвала ее для вечного наслаждения.
Не без волнения выслушал я рассказ этот: сердце чувствовало, что все в нем святая правда, именно – святая, а не лживая, не прелесть вражия, но то же сердце не могло мириться с тем выводом, который из этого видения вывела “путаная головка” Липочки.
– Липочка! – переспросил я ее, – вы как вашу курсистку видели? она была в одном простенке, а райское видение – в другом?
– Да!
– И в раю том, – продолжал я, – вы ее не видели?
– Нет.
– Ну, тогда ясно, что ваше толкование неверно. Да оно и не могло быть верно, ибо вражду на Бога и Христа Его не соединить с любовью Божественной в Эдеме сладости. И душе вашей воспитанницы и вам был показан рай, – это для меня несомненно, – но врата рая, для души той оказались затворенными, и она не вошла туда и не могла туда войти – иначе надо отречься от всей веры нашей, чего вы ни себе ни даже врагу вашему не пожелаете.
Сказал я это с большой горячностью и, к удивлению моему, Липочка, склонная на каждом шагу спорить со мною зуб за зуб, на этот раз ничего мне не возразила.
Записываю я события и речи дня с возможной точностью, занес на страницы своего дневника и этот удивительный рассказ нашей Липочки, и свои речи. А теперь думаю: вправе ли я произносить такой категорический суд над душой воспитанницы Олимпиады Феодоровны? Даже Отец наш Небесный не судит никого, а весь суд предоставил Своему Сыну (Ин. 5,22).
Буди над покойницей воля Божия и милость суда Спасителя нашего и Бога, а не наши пересуды.
13 июля
Искушение и утешение. – Преподобный Серафим и монахини. Вразумление скитскому послушнику
Вчера вечером заходил ко мне студент четвертого курса Московской Духовной Академии некто С. И. В. ( Сергей Иванович Воинов, ныне иеромонах Серапион).
– Это, ведь, вы, – спрашивает, – опубликовали беседу о цели христианской жизни преподобного Серафима с Мотовиловым?
– Я.
– Мне было бы желательно узнать: действительно ли вы ее нашли в бумагах Мотовилова, или же сами эту беседу составили?
– Иными словами, – переспросил я, – вам желательно удостовериться, не налгал ли я на преподобного?
– Ну зачем же так грубо? просто: не выдали ли вы своего за чужое?
Подивился я вопрошавшему, но конфузить молодого человека не захотел. Ответил ему безгневно:
– Да не будет ми лгати на святого.
– Да, ведь, я почему так спрашиваю, – спохватился он, – дело в том, что я очень близко стою по духовным своим отношениям к пустыни (он назвал очень известную в центральной России пустынь), и там некоторые монахи сожгли вашу брошюру с этой беседой, находя ее еретической.
Я-то на преподобного не солгал, а, вот, монахи-то той пустыни не плод ли твоего, друже, измышления? – Подумалось, но не сказалось.
Сегодня наш благочинный привел к нам двух монахинь: казначею и просфорню одного из монастырей Т. епархии. С ними пришла еще и вдова их бывшего священника.
– Если бы вы только знали, – сказала мне мать казначея, – какую пользу христианской душе приносит книга ваша! Сколько духовной радости дала нам обретенная вами беседа преподобного Серафима с Мотовиловым!
С сегодняшней литургии мы с женой начали готовиться (Готовиться к причастию – говеть, чтобы в известный день удостоиться причащения) к девятнадцатому июлю, ко дню преподобного Серафима; надо же было за эти сутки случиться двум таким встречам?! Кто их подготовил? Кто их осуществил?
Дивное дело!
– Мы к вам с просьбой, – продолжала мать казначея, – не найдете ли вы полезным записать, что с нами было по милости преподобного Серафима?
О, Божья река моя! бездонны глубины, неистощимы недра твои, таящие в себе тьмочисленные уловы, которых не вместить в себе и мрежам целого мира, если бы только захотел мир отдать себя этой ловитве! Но молва его и шум, и купли житейские не дают слуху его слышать, оку, чтобы видеть, чтобы обратиться ему, да исцелит его Господь…
Первой повела рассказ свой мать Агния, просфорня.
– Было это, – сказывала она, – в тот год, когда наш батюшка-царь справлял войска на войну с японцами. Помните, он, кормилец, все ездил тогда по городам, где полки наши стояли, еще не ходившие на войну, и царским словом своим и благословением напутствовал их в поход на Дальний Восток. Так вот, в том самом году, в начале августа, собрались мы с одной нашей монахиней в Саров поклониться преподобному угоднику Божьему Серафиму. Из обители нашей, чтобы попасть в Саров, путь лежал нам на Рязань, а с Рязани на Сасово, а с Сасова на лошадях в Саров. В Рязани нам была пересадка, и угодили мы к ней, как раз в тот самый день, когда государь был в Рязани, и все поезда по этому случаю были задержаны. По расписанию нам из Рязани надо было бы выехать на Сасово около полудня, а выехали мы только в десять часов вечера. На Рязанском вокзале народу от скопившихся поездов было видимо-невидимо, так что яблоку упасть было негде. Дорожных пожитков с нами было по чемоданчику у каждой, да по свертку. В одном из чемоданов было положено все, что нам более всего для дороги было необходимо: деньги, даровые проездные билеты от станции нашего города до Оптиной (мы после Сарова должны были ехать к оптинским старцам) – словом, в чемодане этом было все, без чего нам и шагу двинуться было нельзя. С собою, по карманам, было ровно столько, сколько нужно было, чтобы доехать до Сарова.
Когда подали Казанский поезд, с которым нам надо было ехать, забрали мы наспех наши веши и бросились поскорее к вагонам, чтобы успеть занять место. Толкотня и давка были ужасные. Едва мы кое-как примостились, как поезд наш тронулся. Пока успокоились, осмотрелись, поезд уже был далеко от Рязани. Хвать! – а чемодана-то самого нужного и нет. Стали искать, припоминать, соображать… Нет чемодана! Что было делать? Потужили мы тут, наплакались вволю, а, как слезами горю не поможешь, то и порешили предать себя на волю Божию и на милость угодника Божия. Однако, доехали до Сасова и смалодушничали: увидали жандарма и заявили ему о пропаже чемодана.
– Да где он у вас, – спрашивает, – остался?
– На платформе, – говорим, – у входа в вагон!
– Ну, – говорит, – пишите тогда – пропало! Мы и сами ровно так же думал и: не стоило и малодушничать!
С последними крохами добрались мы кое-как до Сарова, оттуда до Дивеева, прожили там дней десять, помолились, поплакали, поговели и, с помощью добрых людей, пустились в обратный путь в свою обитель. Об оптинских старцах и думать было нечего.
И уж как же мы молились и плакали у преподобного, один только батюшка, угодник Божий знает!
Приехали в Рязань. Пошли в вокзал дожидаться своего поезда в наш город. Хотели, было, сделать заявку о своей пропаже станционному начальнику, да порешили – не стоит: больше десяти дней прошло – какие там заявки?!.
Сели мы на вокзале за столик, положили рядом свои веши на пол, взглянули нечаянно под столик, а под ним – наш чемодан! Поверите ли, мы даже испугались: может ли это быть? Смотрим, – он! щупаем, – он! Приподняли, – не порожний ли? Нет, тяжелый, с вещами, как и быть должно, целехонький. Господи, да что же это? Руки дрожат, насилу ключ вставили. Открыли: все до нитки цело-целещенько. Ну, и радость же тут была нам, какой, кажется, во всю жизнь нам не бывало! Плачем от радости и благодарим преподобного в причет:
– Спасибо тебе, батюшка, спасибо, угодничек Божий!
Смотрим: метет вокзальную залу мальчик лет пятнадцати. Подозвали его.
– Ты, – спрашиваем, – мальчик, всегда тут убираешь?
– Всегда.
– И после царя тоже ты убирал?
– И тогда убирал. Я всякий день тут, после каждого поезда убираю.
– Не видал ли ты тут, – показываем на место, – чемодана, похожего на этот?
– Нет, – говорит, – ни такого и никакого тут не было!
– Вот, какие дела-то и в наши времена бывают от Божьих угодников, – такими словами закончила рассказ свой мать Агния. А по ней и мать Августа, казначея, сообщила мне следующее:
– То, что я хочу вам поведать, было со мною в 1901 году, за два, стало быть, года до открытия мощей преподобного Серафима. Я тяжко заболела: была у меня ифлуэнца, после нее воспаление легких, а за воспалением – гнойный плеврит. Смерть моя пришла. Пригласили ко мне лучшего хирурга, собрали консилиум и, так как сердце мое едва работало, то на операцию прокола не решились и предоставили меня воле Божией. Невыразимы были тогда страдания мои. Довольно вам сказать: не имея ни днем, ни ночью покоя, я провела без сна и пиши ровно месяц и девять дней. Придет ночь, думаю: ну, может Бог даст, ночью будет легче! День придет: авось, днем полегчает! И так – тридцать девять суток!.. И вот, наступила сороковая ночь. Я сидела в кресле, в своей келье, – лежать я не могла. В келье со мною не было никого… Перед креслом моим два окна, и в них льется яркий лунный свет. Я томлюсь без сна, хочу принудить себя заснуть и заснуть не могу… Вдруг, вижу: стоит предо мною в епитрахили высокого роста, но несколько сгорбленный, старец-иеромонах…
– Ты что это, – спрашивает, – не спишь? ведь цари и те спят!
Тут старец наложил мне на голову свою руку, и я тотчас же заснула. Была полночь. Проснулась я в час ночи, и хоть сна моего было всего час один, но я себя почувствовала окрепшей настолько, что навестивший утром меня доктор решил мне сделать прокол, который я перенесла легко, и вскоре и совсем выздоровела.
Кто был Божий угодник, меня навестивший, я не знала; думала на свяшенномученнка Антипу-врача, или на кого-нибудь из прославленных святых Православной Церкви, но на Саровского старца не думала никак, веры к нему не имела и даже лица его не знала. После Саровских торжеств приехал к нам наш епархиальный владыка и в дар нашему монастырю привез икону преподобного Серафима, освященную на святых мощах его. Как взглянула я на эту икону, так сразу и признала в ней моего целителя.
Записываю я эти речи по уходе моих посетительниц и слышу, кто-то обращается ко мне из соседней комнаты:
– Боже наш, помилуй нас! К вам можно? Оборачиваюсь: скитский рясофорный послушник, отец Никита (Никита (Сучков), теперь Нестор).
– Давно, – говорит, – у вас не был: а. вот, сегодня точно сила какая-то невидимая меня к вам потянула. Здравствуйте!
Вошел в кабинет.
– Я вам помешал: вы что-то пишете?
– Хочешь (мы с ним приятели) послушать?
– Благословите: очень хочу! Я прочел.
– Ну, – говорит, – видно сам угодник Божий потащил меня сегодня к вам!
– А что, – спрашиваю.
– Да, видите ли, ему в субботу положен полиелей, а я ему мало верую и на полиелей идти не хотел. В воскресенье, думал я, ему все равно праздник; в субботу бдение: чего, мол, себя еще лишний раз утруждать? Вот, батюшка мой, как опасно мы ходим! – вздохнул отец Никита, сокрушаясь о своем нерадении и неверии.
Отец Никита родом из раскольничьей семьи и с молоком матери всосал недоверие к святости всех подвизавшихся после патриарха Никона угодников Божиих. Он сознает в себе эту неправду, борется с ней, но она, как притаившаяся змея, нет-нет да и выпустит свое ядовитое жало…
Сообщила мне и вдова монастырского священника случай ее исцеления от чахотки молитвами преподобного Серафима еще в те времена, когда не молебны ему пели, а служили на его могиле панихиды, но таких чудес его милости как звезд на тверди небесной…
14 июля
Весть о кончине моего духовника. – Последнее его письмо ко мне. – Весть о кончине Валдайского протоиерея
Вчера, в четвертом часу дня, я получил телеграмму из Орла и в ней четыре слова:
“Скончался отец Петр Рождественский”.
Царство Небесное святой его душе!
Отец Петр, протоиерей Георгиевской церкви в Орле и член Орловской духовной консистории, был долгое время моим духовником, другом духовным и неусыпным молитвенником. В прошлом году в “Троицких Беседах” я напечатал брошюру под заглавием “Жатва жизни” и в ней описал, между прочим, смерть Митроши-праведника. Митроша этот был сын отца Петра. Когда вышла в свет моя брошюра, я послал ее батюшке и в ответ получил от него горячее, исполненное любви, письмо. В письме этом он благодарит меня за утешение и пишет: “прочитав ваше повествование о кончине нашего Митроши, я, действительно, крепко плакал, а жена не могла выслушать до конца вашего сказания о нем, расплакалась и удалилась в другую комнату. Думаю, что она потом, когда я ушел из дома, прочитала его наедине, потому что книжка эта очутилась в ее комнате, на столе… Скажу вам, что я долго не видал покойного Митроши во сне, а незадолго, дня за три, до получения от вас письма и книжки, я очень ясно видел его ходящим в комнате жены, одетым в сюртук. Митроша виделся мне в благодушном настроении. Обрадованный таким видением, я вскрикнул – “Митроша!” и тут же проснулся. Сон этот я тотчас же рассказал жене, собиравшейся идти к обедне (служил в тот день отец Симеон) и приказал ей взять просфору и помянуть Митрошу”…
Письмо это я получил в декабре прошлого года. Тогда во сне видел отец протоиерей своего Митрошу, теперь, полгода спустя, видит его уже лицом к лицу в бесконечной неисследимой вечности. Царство вам Небесное, дорогие мои усопшие, не оставьте меня там своими молитвами!..
Странное совпадение! Сегодня из Валдая, где мы с женой жили в 1906 году, я получил письмо, извещающее меня о кончине двенадцатого июля Валдайского соборного протоиерея, отца Павла Лебедева. Мы очень любили этого прекрасного человека и чистейшего сердцем совершителя тайн Божиих. В один и тот же день, на севере и в центре России, скончались два протоиерея, близких нам по духу и по отношениям: один – Петр, другой – Павел. Быть может, и нет действительной духовной связи между этими двумя событиями, но в моем представлении они связались, как будто, в какое-то знамение.
19 июля
Серафимов день. – Странное повеление нашей гостьи. – Страшная смерть
Серафимов день! Сколько с этим великим днем связано у меня святых воспоминаний!.. Да, глубокую борозду на ниве моей жизни вспахал угодник Божий благодетельным своим плугом, обсеменив ее семенем, могущим принести плод сторичный.
Увы мне рабу неключимому!
Сегодня мы с женой причастники Святых Христовых Тайн. Сотвори, Господи, соединение с Тобою в жизнь вечную!..
Наша Липочка все еще с нами пребывает, но все продолжает под разными предлогами не ходить ни в церковь, ни к старцам. Сидит в ней точно какой-то дух противления всякой святыне, и она слышать не хочет выйти куда-либо за нашу ограду, кроме леса.
– Липочка, родная! – говорю я ей, – мне странно ваше поведение: приехали в старческую обитель, и никого из старцев и видеть не хотите.
– Они, – отвечает Липочка тоном капризного ребенка, – страшные: возьмут да меня и обличат и осудят.
– Что вы, что вы, говорю, – Липочка! К нам в Оптину за утешением к старцам ездят, а не за обличением.
– Нет! – уперлась она, – они страшные – я не пойду к ним.
– Липочка! это не вы старцев боитесь, а приставший к вам бес: он-то вас и не пускает ни к ним, ни в храм Божий, ни на могилки старцев.
– И откуда вы это взяли? – с негодованием возразила мне Липочка, – бес? Откуда он ко мне пристал?
– Из религиозно-философского собрания, куда вы повадились бегать за новыми путями.
– Вы скажете! Не верю я в ваших бесов: никаких бесов нет, а если когда и были, то Христос их всех победил и разогнал, и их теперь больше нету.
На эту тему у нас с Липочкой уже не раз затягивался продолжительный диалог, переходивший в спор и заключавшийся неистовым на меня криком Липочки. То же произошло и теперь: я, было, оглох от ее крика.
А вот, сегодня, за утренним чаем та же Липочка, с пеною у рта отвергающая бытие бесов, сообщила нам из своих воспоминаний следующее:
– Когда на наших курсах школой заведывала, как попечительница, некто А. (Мария Васильевна Дурново), дочь одной из очень высокопоставленных особ, близкой к Высочайшему Двору покойного государя Александра 111, – эта А. меня очень любила, звала “бессеребреницей” и, несмотря на знатность свою, богатство и на то, что она была моим начальством, обращалась со мною запросто, как с близкой, хорошей своей знакомой. В ее доме я бывала часто, и там иногда мне приходилось сталкиваться с ее матерью, княгинею В. (Княгиня Кочубей Елена Павловна, гофмейстерша императрицы Марии Феодоровны, рожденная Быкова, по первому браку княгиня Белосельская-Белозерская) Боже мой, что это была за женщина! Сколько ни перевидала я на своем веку знатных и богатых, спесивых и надменных, но такой гордости и спеси, такой властности, такого пренебрежительного отношения к людям, ниже ее стоящим в обществе, я в жизни своей ни в ком не встречала. Даже дочь ее, женщина чрезвычайно умная, самостоятельная и тоже властная, и та находилась под давлением неприступного величия своей матери. Сидишь, бывало, у А., пьешь с ней чай, беседуешь по душам. Вдруг, докладывают:
– Княгиня В.!
Это – матушка значит А. И что тут только делалось после этого доклада! Сама А., как маленькая девочка, бросалась навстречу своей матери чуть ли не в швейцарскую, а я, ничтожная козявка, уползала в самый дальний угол кабинета и там заблаговременно принимала самую что ни на есть униженную позу. Когда входила княгиня, я, не выходя из своего угла, творила перед ней такой поклон, что головой едва не касалась земли; и в ответ получала кивок не столько головой величавой княгини, сколько ее бровями. Я любила всем сердцем А. и ради нее за грех не считала этой комедии.
И вот, настало время и этому великолепию смириться до пути, общего и царям, и нищим: заболела княгиня к смерти и стала умирать; и была ее болезнь такая, что ей пришлось чуть не каждую минуту нуждаться в посторонней помощи иначе от болезненного одра ее пошел бы смрад невыносимый. Каково это было переносить ее величию!.. Нужна была опытная интеллигентная сиделка, и А. выпросила в сиделки к матери лучшую в школе нашей воспитанницу, некую Зибольд, хотя и лютеранку, но очень верующую девушку. Говорила эта воспитанница свободно на трех европейских языках, кроме русского, и фельдшерское дело знала прекрасно. Эта З. провела у одра княгини все время ее болезни до последнего вздоха, который княгиня и испустила на ее руках. И что же это была за страшная смерть! Верите ли, что когда мне З. под свежим впечатлением рассказывала некоторые эпизоды этой кончины, она сама тряслась, как в лихорадке, от только что пережитого ужаса, заражая страхом и мое испуганное сердце.
Невыносимы были страдания княгини, но, как ни были они тяжки, они не могли сломить тщеславия гордого сердца: в промежутках между припадками мучительных болей, когда ей становилось полегче, не о душе своей думала княгиня, не о вечной жизни, не о грехах своих, а только о том, почему не едут навестить ее те, которых она одних почитала выше себя. И когда это давно жданное событие, наконец, совершилось, тогда вслед за ним началось то, от чего долго не могла придти в себя наша воспитанница. Только что закрылась дверь за высокопоставленными посетителями, княгиня, бывшая в возбужденно-радостном настроении, внезапно чего-то испугалась и закричала неистовым голосом:
– Спасите меня, спасите!
– Что с вами, княгиня? – подбежала к ней З.
– Спасите! Смотрите туда: разве вы не видите, как ко мне отовсюду лезут духи зла?.. Вот они, вон они!.. Вот дух гордыни… Спасите, спасите!
И с этого момента началась леденящая ужасом мука души от лютых бесовских видении и терзаний, и мука эта, длившаяся, казалось без конца, не прерывалась ни на одно мгновение, пока на руках у З. гордая душа не покинула изможденного болезнью тела. Княгиня все это страшное время была в полном сознании, всех, кто только ни был у ее одра, узнавала и ко всем вопила только об одном – о защите от бесовских угроз и нападений. Моя З. долго не могла вспоминать без волнения пережитых тогда ужасов, от этих душу раздиравших воплей, от ощущения присутствия незримой силы зла и человекоубийственной ненависти.
Липочка кончила свой рассказ, и у нее с женой моей начался оживленный разговор, основанный на общих воспоминаниях и о школе, и о А., и о кончине В., и о воспитаннице З. А я сидел и думал: какой логикой руководится наша Липочка, рассказывая такие истории и в то же время отрицая существование духов зла, которые в этих историях принимали такое непосредственное, живое и явное участие?!
Вот они, плоды искательства “новых путей” по разным философским и, якобы, религиозным собраниям! Лезут люди в “глубины сатанинские” и, как пошехонцы, запутываются “в трех соснах” на торжество и радость бесовским шайкам, бродящим теперь едва ли не безвозбранно повсюду…
21 июля
Возвращение наших авв с монашеского съезда. – Знамение времени. – Отъезд нашего друга
Наши аввы вернулись с монашеского съезда: отец Варсонофий – семнадцатого, а отец архимандрит – восемнадцатого вечером.
Сегодня отец архимандрит заходил к нам. Своей поездкой он остался доволен. Побыл он у нас минут с двадцать (это, кажется, его второе посещение нас за оба года нашего пребывания в Опти-ной), кое-что сообщил из впечатлений от съезда и затем отправился в монастырь. Я пошел его провожать. Дошли до больницы. У больницы стоит подвода, запряженная монастырской лошадью.
– Вы любитель отмечать “знамения времени”, – вот вам и “знамение”, – сказал мне отец архимандрит, указывая на подводу, – шел сегодня к нам утром из Козельска малый, – сказывает, жил у нас когда-то. – Повстречались ему на пути какие-то его приятели; пошли мирно вместе. Под Оптиной они о чем-то заспорили… слово за слово!.. И стали приятели приятеля бить; переломали ему руку, ребра, разбили голову и кинули в Жиздру. В Жиздре он опомнился от побоев, переплыл ее и дополз к нам в больницу. Отец Пантелеймон (фельдшер) дивится, как он с такими повреждениями мог все это проделать. Теперь, вот отправляем его к хирургу, в городскую больницу.
Если отмечать все такие “знамение” в дневнике своем, то ни места, ни времени не хватит: ими полна теперь вся соскочившая с рельс горемычная русская жизнь.
Гнев Божий не за горами.
Сегодня уезжает от нас наша бедная Липочка, уезжает неудовлетворенная и расстроенная…
– Я хотела у вас слушать о Христе, а слышала только о диаволе. Не нашло мое сердце успокоения!
Ни в церкви, ни у старцев Липочка так и не побывала, кроме отца Анатолия, к которому жена моя каким-то образом ухитрилась-таки ее проводить.
Что делать! не нашей, видно, меры найти было доступ к сердцу Липочки, в котором, по всем признакам, свилось гнездо “обновленчеств”, и “бого-искательств” в духе протестантствуюшего высокоумия. А как бы хотелось и ей, и себе побольше младенчества и в сердце, и в разуме!..
23 июля
Послание монашеского съезда. – Весть из Испании. – “Современный Калиостро”. – Проповедь конца мира. – Идет подготовка к чему-то, чего еще не было
В полученном сегодня номере “Колокола” напечатано “Послание монашеского съезда ко всем русским инокам”. Кончается оно такими словами:
“О, возлюбленная братия! Время подвига настало. Кто знает? Быть может, знамения времен исполняются; быть может, близок час грозного суда Божия: час убо нам от сна восстати! Пора уготовать светильники свои, чтобы встретить Небесного Жениха… Если простые, богобоязненные люди, взирая со страхом на торжество зла на земле, внимая стихийным бедствиям, – засухам и непогодам, голоду и эпидемиям, говорят: “не настали ли уже последние времена”; если сама неодушевленная тварь, по слову апостола, совоздыхающая и соболезнующая нам, содрогается, и земля сотрясается, поглощая в ужасных землетрясениях тысячи людей и разрушая в несколько минут цветушие города, то не следует ли и нам прислушаться к гласу громов Божиих, грядущих на вселенную и готовиться услышать глас трубы архангельской, имеющей в последний день мира возбудить мертвецов от их гробов?.. Мы обращаем к вам свой скорбный глас, из наболевших сердец исходящий, призыв от гроба небесного нашего всероссийского игумена, Сергия.
Господь близ: час уже нам от сна восстати! Аминь”.
Это – из обители Сергиевой. А из заграницы следующее:
“Дейли телеграф” телеграфирует из Барселоны: “десятки священников и монахинь были безжалостно перерезаны. (Во время восстания, организованного Ферреро) Некоторые из них убиты в алтарях, преклоненные пред Распятием, другие после мужественной зашиты святынь от революционеров. Последние всюду поджигали дома. Весь город казался залитым морем огня. Чернь препятствовала каретам Красного Креста въезжать в монастырь. Монахини отталкивались от окон горевших зданий и гибли живыми в огне. Никто не оказывал гибнущим помощи… До десяти тысяч революционеров нескончаемыми процессиями проходили по улицам города, неся на палках и жердях головы и другие обуглившиеся части тел своих жертв с криками “виват” и пением “марсельезы”.
Другая телеграмма:
– Сервер. (Испания).
“Испанские газеты утверждают, что с двадцать шестого по тридцатое июля (нового стиля) сожжено тридцать пять монастырей и церквей”.
Такими-то известиями дарит нас Старый Свет из “страны Марии Пречистой”, как еще в наши дни называли Испанию побывавшие в ней путещественники.
Но есть известия и из Нового Света, и эти вести, в связи с “посланием монашеского съезда” и личными моими наблюдениями и предчувствиями, мне представляются еще того более страшными. Вести эти сообщаются американскими газетами.
Беру их в извлечении двух петроградских газет – “Свет” и “Петроградский Листок”.
Вот что пишет “Петроградский Листок” в статье, озаглавленной “Новости о современном Калиостро”:
“Мы уже беседовали с нашими читателями о таинственном враче, кудеснике и предсказателе, явившемся в Бостоне и представившем документы, выданные одним из французских королей известному в истории Европы Калиостро.
Все внешние признаки обоих Калиостро – современного и жившего полтора века назад – совпадают до мельчайших подробностей. Последние американские газеты дают новые сведения о бостонском враче, занявшем внимание холодных и практических янки. Нью-йоркская сыскная полиция, крайне интересующаяся таинственною личностью современного Калиостро, докопалась до происхождения последнего. Оказывается, что незнакомец – сын бостонского садовника Оскара Брауднера, живущего и до сих пор. Но подробности его появления в доме садовника очень загадочны и еще более взвинчивают любопытство американцев. Оказывается, что таинственный врач не родной сын Оскара Брауднера, а подкидыш. Накануне нового года садовник услыхал стук в свои двери и заунывный вой собаки. Открыв дверь, Брауднер увидел небольшой пакет, в котором шевелился ребенок, а вдали, через огород, стремглав убегала черная собака. Никаких следов человека не нашел Брауднер вокруг своего дома. Этого-то подкидыша и воспитал садовник, с большим трудом научив его читать, так как мальчик был немым.
Четырнадцати лет от роду молодой Брауднер, по имени Джон, покинул дом приютившего его садовника и пропадал около пяти лет.
Возвратившись домой, он привез с собою много золота в слитках и объяснил, что он учился в горах около Салтилло у каких-то незнакомцев.
С этого времени Джон, хотя и с трудом, но уже мог говорить.
Тут он показал Брауднеру несколько странных опытов.
У садовника была злая лошадь, которую с трудом удавалось запрягать. Она кусала и била ногами подходивших к ней людей, и ее приходилось держать все время работы в наморднике. Молодой Брауднер вошел в конюшню и, смело подойдя к лошади, заглянул ей в глаза. Лошадь начала дрожать всем телом и с той поры совершенно успокоилась. Поймав ядовитую змею “туалу”, молодой Брауднер одним своим взглядом превращал ее в палку, а затем, поглаживая ее по спине, заставлял выпускать яд. Когда он шел по лесу, то птицы слетались к нему со всех сторон, как бы притягиваемые какой-то силой.
Пробыв два года дома, молодой человек уехал в Балтимору, где слушал курс медицинских наук, после чего путешествовал и лечил.
“Гипнотическая сила его”, – говорит “New York Herald”, – безгранична: он приказывает одним взглядом и овладевает людьми и животными, лишь только коснется их своей длинной худой рукой”.
Таинственный врач этот уехал теперь в Новый Орлеан, и к его шатру (он живет в шатре), на поле около боень, стекаются тысячи людей. Идут за исцелением, за внушением, за советом и за предсказанием. Последние он пишет на особых душистых кусочках дерева с неизменным знаком Д. (Не G ли (Gnosis)? “Гнозис” – религиозно-философское учение, составленное из доктрин – Востока, христианства, философии Платона и каббалы. Одним из наиболее типичных представителей этого сатанинского лжеучения был Симон Волхв (I век по Р. X.), по нем Менандр, Керинф, Досифен, Филон и многие другие. Если же Д.. то не диавол ли?)
Газеты удостоверяют массу случаев исцеления”.
О той же таинственной личности газета “Свет” пишет так: “Мы уже сообщали нашим читателям о враче, которого называют современным Калиостро. Теперь о нем передают новые, весьма странные известия.
В городе Чарльстоуне, удаленном на сорок восемь часов пути от Бостона, где ныне проживает современный Калиостро, заболел местный крупный рыбопромышленник, мистер Питер Славен. Врачи, созванные со всего города, собравшись на консилиум, решили, что у Славена острый приступ грудной жабы, и что исход болезни, в виду преклонного возраста пациента, внушает серьезные опасения. Отчаянию родственников не было границ.
Кто-то вспомнил о таинственном бостонском враче, о котором так много говорили американские газеты. Схватились за эту последнюю надежду и отправили в Бостон телеграмму к одному родственнику мистера Славена, прося привезти врача. Но каково было удивление, почти ужас, семейства Славенов, когда в тот же вечер, через час после отправки телеграммы, в их дом вошел таинственный, молчаливый врач из Бостона. Осмотрев больного, он дал ему каких-то капель, после приема которых задыхающийся больной крепко заснул. Молчаливый врач сидел все время у постели больного, но когда тот проснулся, он встал, пристально взглянул ему в глаза и улыбнулся.
Старик Славен начал благодарить своего спасителя за возвращение ему жизни, просил пользоваться его гостеприимством и предложил крупную сумму денег. Но современный Калиостро отказался от того и от другого. Он, по своему обыкновению, разбил палатку в поле, вдали от жилья, а насильно данные ему деньги тут же на улице раздал кому попало. На другое утро за город, к палатке таинственного врача, потянулись сотни людей, и все они получили помощь от Калиостро и унесли от него на память таинственные амулеты из душистого дерева.
Старик Славен оправился очень скоро и рассказывал, что когда он проглотил данные ему капли, то почувствовал как бы вспышку огня внутри, а затем сразу же впал в глубокий сон. Интереснее всего то, что старый Славен был глуховат, но теперь он слышит совершенно ясно.
Журналист Доред, корреспондент нью-йоркских газет, беседовал с Калиостро по поводу его странного появления в Чарльстоуне без приглашения, которое не успело даже еще и дойти до него. На это загадочный врач написал на бумаге:
“Ровно три дня тому назад я услышал голос, звавший меня в Чарльстоун. Я всегда повинуюсь такому непонятному зову и потому поехал. На вокзале я взял в руки газету и прочел о болезни Славена, благодаря которой не состоялось какое-то общественное собрание. Я пришел к Славенам”.
Не лишено интереса сообщение американских газет, что таинственный врач из Бостона несколько недель тому назад начал давать амулеты, окрашенные в черный цвет, вместо прежних белых. На вопрос, что значит эта перемена, он ответил:
– Я чувствую, что дух черных людей сильнее белых. Идет великая победа черных, и в честь яркого огня их души я даю черные амулеты”.
Оставлю эти полусказочные сообщения на совести сотрудников американских и русских газет. Я бы не придал им особого значения, будь наше время иное, но… в Испании ферреровцы жгут и разрушают церкви и монастыри, бросая в огонь священников и монахов; во Франции изгоняют из всех учебных заведений Крест Господень… А в России?..
…Да! не то теперь время, чтобы не прислушиваться к тому, что творится в мире и не стараться уловить в шуме быстро сменяющихся событий их сокровенного смысла, освещая тайники его светом Священного Писания и Предания. По всему миру, видимо для желающих видеть, идет подготовка человечества к чему-то, чего, по слову Божию, еще не было и… не будет.
25 июля
И вратам адовым не одолеть Церкви Божией. – Преподобный Макарий Желтоводский и Петров пост. – Кончина Валдайского протоиерея. – “Обновленцы”. – Как опасно не исполнять старческих заповедей
Но как ни устремляются “врата адовы” на Церковь Христову, отвлекая от нее немощных в вере чудесами и знамениями ложными, а жизнь верных по-прежнему управляется Промыслом Божиим, и Божия река христианского пришельства и странничества все так же невозмутимо и мирно катит свои прозрачно-светлые, глубокие воды в безбрежное святое море дивной страны незаходимого Света.
Пишет жена… теперь вдова… Валдайского протоиерея, отца Павла Лебедева: “…Собиралась я посетить в этом месяце Оптину пустынь, но покойный меня отговорил:
– Потом съездишь: теперь постройка!
Мы строим дом. Не думала я, что достраивать его придется мне одной.
В понедельник мой дорогой Павел Васильевич отправился к заутрени, а я заснула. Вдруг слышу голос женский:
– А не достроит тебе отец Павел дом! Оборачиваюсь во сне на все стороны, но никого не вижу. Спрашиваю:
– Как же так он мне не достроит? Почему?
– Так надо! – получаю ответ.
– Да, ведь, – говорю, – у нас долг есть: на что же я дострою?
– Так надо – на то воля Божия, так надо! – ответил голос, и я просыпаюсь.
Сон этот все время у меня с ума не шел, и сердце болело. Рассказала покойному. Он сказал:
– Все может быть: может быть и не дострою!
В субботу, когда он совсем слег, сказал Сереже (сыну):
– А, должно быть, мамин сон исполняется, и я умру!
В четверг, до обеда, писал бумаги, в пятницу лежа диктовал Сереже, в субботу говорит, что вечером пойдет в Зимогорье (Зимогорье – большое село, смежное с Валдаем), а в воскресенье в девять часов утра его не стало”.
Боже мой, как это просто! как величаво – просто и трогательно!
Прошел слух, что кто-то из оптинских советует отцу архимандриту спилить для лесопилки вековые сосны, что между скитом и монастырем: все рав-но-де, на корню погниют от старости.
Приходил сегодня наш скитский друг отец Нектарий.
– Слышали? – спрашиваю.
– О чем?
Я рассказал о слухе.
– Этому, – с живостью воскликнул отец Нектарий, – не бывать, ибо великими нашими старцами положен завет не трогать во веки леса между скитом и обителью; кустика рубить не дозволено, не то что вековых деревьев.
И тут он поведал мне следующее:
– Когда помирал старец, отец Лев, то завешал скиту день его кончины поминать “утещением” братии и печь для них в этот день оладьи. По смерти же его, нашими старцами, – отцами Моисеем и Макарием, – было установлено править на тот же день соборную по нем панихиду. Так и соблюдалась заповедь эта долгое время до дней игумена (Впоследствии – архимандрита) Исаакия и скитоначальника Илариона. При них вышло такое искушение. Приходит накануне дня памяти отца Льва к игумену пономарь Феодосии и говорит:
– Завтрашнее число у нас не принято собором править.
Игумен настоял:
– А я хочу!
И что же после этого вышло? Видит во сне Феодосий: батюшка Лев схватил его с затылка за волосы, поднял на колокольню на крест и три раза погрозил:
– Хочешь, сейчас сброшу?
И в это время показал ему под колокольней страшную пропасть. Когда проснулся Феодосии, то почувствовал боль между плечами. Потом образовался карбункул. Более месяца болел, даже в жизни отчаялся. С тех пор встряхнулись, а то, было, хотели перестать соборне править. А в скиту, в тот же день, келейник отца Илариона, Нил, стал убеждать его отменить оладьи.
– Батюшка! – говорит, – сколько на это крупчатки уходит, печь их приходится на рабочей кухне, рабочего отрывать от дела, да и рабочих тоже надо потчевать: где ж нам муки набраться?
И склонил-таки Нил скитоначальника, – отменили оладьи. Тут вышло нечто посерьезнее Феодосиева карбункула: с того дня заболел отец Иларион и уже до конца жизни не мог более совершать Божественную службу; а Нила поразила проказа, от которой он и умер, обессилев при жизни до того, что его рабочий возил в кресле в храм Божий. Мало того: в ту же ночь, когда состоялась эта злополучная отмена “утешения”, на рабочей кухне в скиту угорел рабочий и умер. Сколько возни с полицией-то было! А там: и боголюбцы муку крупчатую в скит жертвовать перестали…
– Видите, что значит для нас преслушание старческой заповеди? – добавил отец Нектарий к своему рассказу и заключил его такими словами:
– Пока старчество еще держится в Оптиной, заветы его будут исполняться. Вот когда запечатают старческие хибарки, повесят замки на двери их келий, ну – тогда!., всего ожидать будет можно, а теперь – “не у прииде время”.
Батюшка помолчал немного, затем улыбнулся своей светлой добродушной улыбкой и промолвил:
– А пока пусть себе на своих местах красуются наши красавицы-сосны!
Действительно – красавицы.
29 августа
Служение сатане. – Необыкновенное сновидение жены моего друга
Совершившееся некогда отпадение от Бога сатаны с третью ангелов найдет перед концом мира свое отображение и на земле: последнее человечество не раскается “в делах рук своих, так чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить”; и не раскается оно “ни в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем” (Ап. 9, 20, 21).
А что даже и у нас, в Православной России, настало время, когда люди, отступив от Христа, стали поклоняться бесам, совершая отцу их, диаволу, служение по чину и обряду, известному жрецам сатанинского суеверия – тому свидетельство в необычайном распространении в обеих столицах и даже в провинции спиритизма, и оккультизма и прочих бесовских лженаук и лжеучений. Явление это, как болезнь интеллигентного общества, общеизвестно и доказательств своего существования не требует: книжный рынок завален произведениями в этом роде, готовящими богоотступников к новой вере и к новому “богу”.
Пишет мне из Петербурга один близкий, можно сказать, ближайший мне по духу человек:
“Во второй половине текущего месяца августа жена моя видела удивительный сон, продолжавшийся с перерывами до двадцать шестого августа.
Живем мы в доме номер X по улице (И номер дома, и улица мне известны), в верхнем этаже, и сон этот связан с примыкающей к нашей спальне квартирой соседнего дома под номером Z.
В первую ночь жене приснилось, будто она проснулась и, к ужасу своему, видит, что стена спальни, примыкающая непосредственно к соседнему дому, в части своей, незанятой святыми иконами, начала как бы исчезать. Получилось впечатление открытой арки. Сквозь эту арку жена увидела сперва, как бы в легком тумане, а потом совершенно ясно соседнюю комнату с обстановкой и лицами, находившимися в этой комнате.
Надо заметить, что ни в доме этом, ни в квартире ни жена моя, ни я никогда не бывали и никого из обитателей этого дома не знали.
Из тех лиц, которых жена увидала в этой квартире, она особенно заметила сидевшую лицом прямо к ней полную, лет пятидесяти, даму и высокого роста худого мужчину, с небольшой бородкой лопатой, бледного брюнета, с очень открытым жилетом (не то во фраке, не то в смокинге)… У жены в это время было чувство, что присутствовавшие в комнате шесть-семь лиц не подозревали, что жена наблюдает за ними… Дама была, по-видимому, хозяйкой квартиры или главным действующим лицом в том, что в этой квартире совершалось.
У двери, ведущей в соседнее помещение, для жены невидимое, сидела с левой стороны другая пожилая дама, а с правой находился ореховый темный шкафик, на изогнутых резных ножках, с полочкой наверху. На этой полочке лежали три или четыре большие черные книги. Напротив этого шкафика сидел помянутый худощавый господин. Господин этот что-то очень оживленно говорил, часто вставал со своего места и поворачивался лицом к моей жене. Его лицо, таким образом, и лицо хозяйки квартиры ясно запечатлелись в памяти моей жены; лица же остальных присутствовавших, в числе которых были и молодые девицы, остались как бы в тумане.
Обстановка комнаты, часть которой была видна моей жене, состояла из мягкой будуарной мебели, крытой кретоном цвета “крем” с темными цветами и листьями.
Жена чувствовала, что в недоступной для ее наблюдения части комнаты находилось еще несколько лиц.
Разговоров всех этих лиц жена не слыхала, но ясно понимала значение происходившего перед ее глазами, как оккультного сеанса.
Вскоре, по предложению хозяйки, все встали перед темным шкафиком и стали, по-видимому, произносить как бы некие заклинания. Жена поняла, что это вызывают духа.
Прошло немного времени, и из шкафчика выскочил страшного вида, серый, худой, маленький котенок с горящими, как огонь глазами, с большими черными когтями и со взъерошенной шерстью. Выскочил котенок этот и начал прыгать и ласкаться у ног присутствовавших на сеансе лиц.
Жене снилось, что при начале этого “радения”, она, будто бы, осторожно встала с постели, и, не желая меня тревожить спящего, вышла на середину спальни, чтобы лучше и ближе рассмотреть все, что виделось ей в этой квартире. Страшный котенок сразу ее заметил и стал, по-кошачьи крадучись и пригибаясь к полу, пробираться к нам в спальню. Чувствуя, что это не котенок, а нечистая сила, жена стала его усиленно окрешивать, непрерывно читая Иисусову молитву и стараясь его раздавить ногою. Котенок извивался и всячески увертывался, но жене удалось, все-таки, правой ногой надавить на него поперек туловища, и когда она его придавила, он извернулся и когтем больно оцарапал ей ногу. Жена вскрикнула от боли и проснулась в страхе.
Боль в оцарапанном месте чувствовалась и по пробуждении.
Через два-три дня после этого сна, жене опять привиделось, будто она просыпается и видит, что там же, что и в предшествующем сне, стена спальни вновь начинает, как бы, утончаться, колебаться, делаться прозрачной, и жена опять видит ту же комнату, те же лица, но на этот раз уже слышит все их разговоры. И видит жена, что собравшееся в той комнате общество находится в каком-то возбужденном состоянии и очень неприязненно относится к нашей квартире, хотя, как понимает жена, оно нас не видит.
“Так невозможно!” – слышит жена: там (то есть у нас) нам мешают, могут все испортить”.
Та же дама, которая казалась хозяйкой и играла главную роль в первом сне, волновалась и теперь больше всех и, в конце-концов, предложила перенести их “моленную” на другой конец квартиры, в крайнюю комнату, “в ту”, – говорила она, – “что на конце”.
На все происходящее жена смотрела скорее с любопытством, чем со страхом, совершенно забыв о первом сне и не отдавая себе отчета в том, что все, видимое ею теперь, является прямым продолжением предшествующего сна.
Среди присутствующих жена увидела вдруг новое лицо, поразившее ее своим отвратительным, отталкивающим видом; лицо это навело на ее душу леденящий ужас. Это был некто в образе человека, лет средних, с лицом темным (но не чернокожим), с курчавыми волосами, и блестящими, раскосыми глазами, толстыми губами, без усов и бороды, с низким лбом. Лицо это одето было в какое-то длинное, черное платье, наподобие пальто до пят, или лапсердака. Движения этого неизвестного были какие-то извилистые, как бы змеиные. В существе этом жена сразу почувствовала диавола. Когда то общество стало возмущаться нашим соседством, не видя, однако, что между нами и им стены уже не существует, тогда страшное это существо, извиваясь и, как бы, проползая между присутствующими, стало, крадучись, двигаться по направлению к нашей спальне. Жена в страхе увидала, что оно, устремив злорадно свой взгляд на меня спящего, начало приближаться уже и к моей кровати. Вскочив в ужасе со своей постели, жена быстро повернулась к висящей над нашими кроватями иконе Тихвинской Божией Матери, почитаемой нами за чудотворную (Она спасла раз моего друга от смерти), и с отчаянием увидала, что Матери Божией на обычном ее месте в киоте, нет, и что лампада горит перед пустым киотом. У бедной жены замерло сердце, и вся она похолодела, как бы окаменев от мысли, что в такой страшный миг Матерь Божия покинула нас. Взглянула она, в страхе за меня, в мою сторону и, к несказанной своей радости в то же мгновение увидела, что святая Тихвинская икона стоит на ночном столике, рядом с моим изголовьем, и сияет таким светом, что виден отчетливо в темноте и весь Лик Пречистой.
Тем временем, не замечая еще нашей Спасительницы, диавол продолжал, пристально глядя на меня, придвигаться к моей кровати. Приблизился он уже к средине кровати и в этот самый миг, как огнем палимый, отшатнулся, пригнулся к самому полу, схватился со злобой и отчаянием за голову и стал изрыгать в сторону иконы непередаваемые кощунственные ругательства, заключив их словами:
– Ты всегда стоишь на моей дороге!
В ту же минуту жена моя внезапно почувствовала прилив необыкновенной храбрости и бодрости, вскочила с постели, обежала вокруг диавола, стала пред ним лицом к лицу и со словами:
– Пресвятая Богородице, помоги нам! – стала наступать на диавола, скрещивая его и опаляя именем Пресвятой Богородицы. Диавол стал отступать от жены моей, но как-то вяло и неохотно. И, вдруг, жена почувствовала, что силы покидают ее, и рука ослабела до того, что уже не может творить крестного знамения. Послышался диавольский злорадно-торжествующий хохот. Жена вновь обратилась с мольбой к Божией Матери и тут увидела, что Тихвинская икона опять стоит на обычном своем месте. В то же мгновение силы к моей жене вернулись, и она с удвоенной энергией начала вновь наступать на диавола, творя крестное знамение, под которым диавол извивался, как червь и, отступая, шипел со злобою:
– Да, ухожу, ухожу!
И с этими словами он исчез, а жена проснулась в таком страхе, что разбудила меня, прося окрестить все кругом и с ней вместе помолиться.
Что касается меня, то я во время обоих этих жениных сновидений спал совершенно спокойно и ничего особенного во сне не видал.
Но дело этим не кончилось.
В ночь с двадцать пятого по двадцать шестое августа жена не спала, а находилась в каком-то особенном состоянии, как бы в полузабытьи, в полудремоте. Опять в том же месте, как и в предыдущих снах, ближе только к окну, жена увидела около окна высокую фигуру, много выше человеческого роста. Одета она была в голубую одежду, препоясанную розовым орарем с золотыми крестами. В волосах явившегося была узенькая розовая лента. Жена с радостью почувствовала в своем сердце, что явившийся – Ангел.
В том месте, где в стене открывалась, как бы арка, обои вдруг отошли, и обнажилась штукатурка. Ангел указательным перстом правой руки начертал на известке крест, который остался видимым и по начертании: и затем, обратясь к жене, сказал ей Ангел:
– Теперь будьте покойны!
С этими словами Ангел стал невидим, а обои вновь появились на своем месте.
Вчера жена была в Петергофском соборе и там впервые увидела изображения чинов Ангельских. То одеяние, в котором она видела Ангела, было, по этому изображению, одеянием Начал и Властей Ангельских”.
Это поразительно!
Друг мой и единомышленник окончил некогда Петроградский университет со степенью первого кандидата математических наук, а жена его – бывшая воспитанница Смольного института. Оба далеко еще нестарые и оба глубоко православные, готовые за веру постоять даже до крови, если то угодно будет Богу.
К тому, кажется, и приближается нынешнее время… Господи, помилуй!
30 августа
Борьба с пороком курения. – Отец Амвросий о курении. – Наш друг и его рассказ об архиепископе Калужском Григории и о своем “баловстве”. – Подземная работа
Продолжаю свою мысленную брань с пороком курения, но пока все еще безуспешно. А бросить это скверное и глупое занятие надо: он, чувствительно для меня, разрушает здоровье – дар Божий, и это уже грех.
Приснопамятный старец, батюшка отец Амвросий, как-то раз услыхал от одной своей духовной дочери признание:
– Батюшка! я курю, и это меня мучает.
– Ну, – ответил ей старец, – это еще беда невелика, коли можешь бросить.
– В том-то, – говорит, – и горе, что бросить не могу!
– Тогда это грех, – сказал старей, – и в нем надо каяться, и надо от него отстать.
Надо отстать и мне; но как это сделать? Утешаюсь словами наших старцев, обещавших мне освобождение от этого греха, “когда придет время”.
Покойный доброхот Оптиной пустыни и духовный друг ее великих старцев, архиепископ Калужский Григорий, не переносил этого порока в духовенстве, но к курящим мирским и даже к своим семинаристам, пока они не вступали в состав клира, относился снисходительно. От ставленников же, готовящихся к рукоположению, он категорически требовал оставления этой скверной привычки, и курильщиков не рукополагал.
Об этом мне сообщил друг наш, отец Нектарий, которому я не раз жаловался на свою слабость.
– Ведь вы, – утешал он меня, – батюшка-барин, мирские: что с вас взять? А вот…
И он мне рассказал следующее:
– Во дни архиепископа Григория, мужа духоносного и монахолюбивого, был такой случай: один калужский семинарист, кончавший курс первым студентом и по своим выдающимся дарованиям лично известный владыке, должен был готовиться к посвящению на одно из лучших мест епархии. Явился он к архиепископу за благословением и указанием срока посвящения. Тот принял его отменно-ласково, милостиво с ним беседовал и, обласкав отечески, отпустил, указав день посвящения. Отпуская от себя ставленника, он, однако, не преминул его спросить:
– А что ты, брате, куревом-то – занимаешься, или нет?
– Нет, высокопреосвященнейший владыко, – ответил ставленник, – я этим делом не занимаюсь.
– Ну, и добре, – радостно воскликнул владыка, – вот молодец-то ты у меня!.. Ну-ну, готовься, и да благословит тебя Господь!
Ставленник архиерею, по обычаю, – в ноги; сюртук распахнулся, а из-за пазухи так и посыпались на пол одна за другой папиросы.
Владыка вспыхнул от негодования.
– Кто тянул тебя за язык лгать мне? – воскликнул он в великом гневе. – Кому солгал? Когда солгал? Готовясь служить Богу в преподобии и правде?.. Ступай вон! Нет тебе места и не будет…
С тем и прогнал лгуна с глаз своих долой, лишив его навсегда своего доверия…
– Так-то, батюшка-барин, – добавил отец Нектарий, глядя на меня своим всегда смеющимся добротой и лаской взглядом. – А вам чего унывать, что не афонским ладаном из уст ваших пахнет? Пред кем вы обязаны?.. А знаете что? – воскликнул он, и лицо его расцветилось милом улыбкой, – вы не поверите! – я ведь и сам едва не записался в курильщики. Было это еще в ребячестве моем, когда я дома жил сам-друг с маменькой… Нас ведь с маменькой двое только и было на белом свете, да еще кот жил с нами… Мы низкого были звания и притом бедные: кому нужны такие-то?!. Так, вот-с: не уследила как-то за мной маменька, а я возьми да и позаимствуйся от кого-то из богатеньких сверстников табачком. А у тех табачок был без переводу, и они им охотно, бывало, угощали всех желающих. Скрутят себе вертушку, подымят-подымят, да мне в рот и сунут: “на – покури!” – Ну, за ними задымишь и сам. Первый раз попробовал: голова закружилась; а все-таки, понравилось. Окурок за окурком – и стал я уже привыкать к баловству этому: начал попрошайничать, а там и занимать стал в долг, надеясь когда-нибудь выплатить… А чем было выплачивать-то, когда сама мать перебивалась, что называется, с хлеба на квас, да и хлеба-то не всегда вдоволь было… И вот, стала маменька за мной примечать, что от меня, как будто табачком попахивает…
– Ты что это, Коля (меня в миру Николаем звали), никак курить стал поваживаться? – нет-нет да и спросит меня матушка.
– Что вы, – говорю, – маменька? – и не думаю! – А сам скорее к сторонке, будто по делу… Сошло так раз, другой, а там и попался: не успел я раз как-то тайком заемным табачком затянуться, а маменька – шасть! – тут как тут:
– Ты сейчас курил? – спрашивает. Я опять:
– Нет, маменька!
А где там – нет? – от меня чуть не за версту разит табачищем… Ни слова маменька тут мне не сказала, но таким на меня взглянула скорбным взглядом, что можно сказать, всю душу во мне перевернула. Отошла она от меня куда-то по хозяйству, а я забился в укромный уголок и стал неутешно плакать, что огорчил маменьку, мало – огорчил, обманул и солгал, вдобавок. Не могу и выразить, как было это мне больно!.. Прошел день, настала ночь, мне и сон на ум нейдет: лежу в своей кроватке и все хлюпаю (Плачу потихоньку (Орловский говор)), лежу и хлюпаю. Маменька услыхала.
– Ты что это, Коля? Никак плачешь?
– Нет маменька.
– Чего ж ты не спишь?
И с этими словами матушка встала, засветила огнюшка и подошла ко мне; а у меня все лицо от слез мокрое и подушка мокрехонька…
И что у нас тут между нами было!.. И наплакались мы оба и помирились мы, наплакавшись, с родимой, хорошо помирились!
Так и покончилось баловство мое с курением.
Такова была исповедь отца Нектария, одного из наших, в кажущейся простоте своей, “премудрых”. И вспомнилась мне невольно бедная наша Липочка:
– Я боюсь ваших старцев: они строгие, страшные!
Да, – строгие, страшные, только не для нас, грешных, а для тех “невидимых”, кто нас на грех толкает: тем, действительно, страшны наши оптинские неусыпаюшие в любви и молитвах стражи. Только бы нам не лишиться стражей этих за грехи наши многие!..
1 сентября
Новый Церковный год. – “Господи, как я мал пред Тобою! – Сколько было истинных общежитий. – Наш друг и котенок
Сегодня первый день нового церковного года. На целую четверть года мир отстал от Церкви, и так – во всем! От колыбели и до самой могилы идет теперь решительное и полное во всем отступление от матери-Церкви… А за могилой что будет?!.
Погода сегодня дивная. Солнце по-весеннему греет и заливает веселыми лучами наш садик и чудный оптинский бор, с востока и юга подступивший почти вплотную к нашему уединению. Я вышел на террасу и чуть не задохнулся от наплыва радостно благодарных чувств к Богу, от той благодати и красоты, которыми без числа и без меры одарил нас Господь, поселив нас в этом раю монашеском. Что за мир, что за безмятежие нашего здесь отшельничества! что за несравненное великолепие окружающей нас почти девственной природы! Ведь, соснам нашим, величаво склоняющим к нам свои пышно-зеленые могучие вершины, не по полтысячи ли лет будет? Не помнят ли некоторые из них тех лютых дней, когда злые татарове шли на Козельск, под стенами и бойницами которого грозный Батый задержан был на целые семь недель доблестью отцов теперешних соседей оптинских?.. И стою я, смотрю на всю эту радость, дышу и не надышусь, не налюбуюсь, не нарадуюсь…
– И вспомнил Иаков, – слышу я за спиной своей знакомый голос, – что из страны своей он вышел и перещел через Иордан только с одним посохом, и вот – перед ним его два стана. И сказал в умилении Иаков Богу: “Господи, как же я мал пред Тобою!” (Мне хотелось запечатлеть здесь в полной неприкосновенности слова нашего друга, но подлинный текст Священного Писания, откуда почерпнуты эти слова таковы: “недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты ( Господи) сотворил рабу Твоему: ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана” (Быт. 32. 10)).
Я обернулся, уже зная, что это он, друг наш. И заплакало тут мое окаянное и грешное сердце умиленными слезами к Богу отцов моих, и воскликнуло оно Ему от всей полноты нахлынувшего на него чувства:
– Господи, как же я мал пред Тобою!
А мой батюшка, смотрю, стоит тут же, рядом со мною и радуется.
– Любуюсь я, – говорит, – на ваше общежитие, батюшка-барин, и дивуюсь, как это вы благоразумно изволили поступить, что не пренебрегли нашей худостью.
– Нет, не так, – возразил я, – это не мое, а обитель ваша святая, не пренебрегла нами, нашим, как вы его называете, общежитием.
Он как будто и не слыхал моего возражения и, вдруг, улыбнувшись своей тонкой улыбкой, обратился ко мне с таким вопросом:
– А известно ли вам, сколько от сотворения мира и до нынешнего дня было истинных общежитий?
Я стал соображать.
– Вы лучше не трудитесь думать, я сам вам отвечу – три!
– Какие?
– Первое – в Эдеме, второе – в христианской общине во дни апостольские, а третье…
Он приостановился…
– А третье – в Оптиной при наших великих старцах.
Я вздумал возразить:
– А Ноев ковчег-то?
– Ну, – засмеялся он, – какое ж это общежитие? Сто лет звал Ной к себе в ковчег людей, а пришли одни скоты. Какое ж это общежитие?!
Сегодня, точно подарок к церковному новому году, батюшка наш преподнес нам новый камень самоцветный из неисчерпаемого ларца, где хранятся драгоценные сокровища его памяти.
– Вот и у нас в моем детстве тоже было нечто вроде Ноева ковчега; только людишечки мы были маленькие, и ковчежек наш был нам по росту, тоже малюсенький: маменька, я – ползунок, да котик наш серенький. Ах, скажу я вам, какой расчудесный был у нас этот котик!.. Послушайте-ка, что я вам про него и про себя расскажу!
Под свежим впечатлением от рассказа записываю я эти строки и умиляюсь, и дивлюсь красоте его благоуханной…
– Я был еще совсем маленьким ребенком, – так начал свое повествование отец Нектарий, – таким маленьким, что не столько ходил, сколько елозил (Ползал – по орловскому говору) по полу, а больше, сиживал на своем седалище, хотя кое-как уже мог говорить и выражать свои мысли. Был я ребенок кроткий, в достаточной мере послушливый, так что матери моей редко приходилось меня наказывать. Помню, что на ту пору мы с маменькой жили еще только вдвоем, и кота у нас не было. И вот, в одно прекрасное время мать обзавелась котенком для нашего скромного хозяйства. Удивительно прекрасный был этот кругленький и веселенький котик, и мы с ним быстро сдружились так, что, можно сказать, стали неразлучны. Елозию ли я на полу, – он уж тут как тут, и об меня трется, выгибая свою спинку; сижу ли за миской с приготовленной для меня пищей, – он приспособится сесть со мною рядышком, ждет своей порции от моих щедрот; а сяду на седалище своем, – он лезет ко мне на колени и тянется мордочкой к моему лицу, норовя, чтобы я его погладил. И я глажу его по шелковистой шерстке своей ручонкой, а он себе уляжется на моих коленках, зажмурит глазки и тихо поет мурлычит свою песенку.
Долго длилась между нами такая дружба, пока едва не омрачилась таким событием, о котором даже и теперь жутко вспомнить.
Место мое, где я обыкновенно сиживал, помещалось у стола, где, бывало, шитьем занималась маменька, а около моего седалища, на стенке, была прибита подушечка, куда маменька вкалывала свои иголки и булавки. На меня был наложен, конечно, запрет касаться их под каким бы то ни было предлогом, а тем паче вынимать их из подушки, и я запрету этому подчинялся беспрекословно.
Но, вот, как-то раз залез я на обычное свое местечко, а вслед за мной вспрыгнул ко мне на колени и котенок. Мать в это время куда-то отлучилась по хозяйству. Вспрыгнул ко мне мой приятель и ну – ко мне ластиться, тыкаясь к моему лицу своим розовым носиком. Я глажу его по спинке, смотрю на него и вдруг глазами своими впервые близко, близко встречаюсь с его глазами. Ах, какие это были милые глазки! чистенькие, яркие, доверчивые… Меня они поразили: до этого случая я и не подозревал, что у моего котенка есть такое блестящее украшение на мордочке…
И вот смотрим мы с ним друг другу в глаза, и оба радуемся, что так нам хорошо вместе. И пришла мне вдруг в голову мысль попробовать пальчиком из чего сделаны под лобиком у котика эти блестящие бисеринки, которые так весело на меня поглядывают. Поднес я к ним свой пальчик, – котенок зажмурился, и спрятались глазки; отнял пальчик, – они опять выглянули. Очень меня это забавило. Я опять в них, – тык пальчиком, а глазки – нырь под бровки. …Ах, как это было весело! А что у меня, у самого, были такие же глазки, и что они также жмурились, если бы кто к ним подносил пальчик, того мне и в голову не приходило… Долго ли – коротко ли я так забавлялся с котенком, уж не помню, но только, вдруг, мне в голову пришло разнообразить свою забаву. Не успела мысль мелькнуть в голове, а уж ручонки принялись тут же приводить в исполнение. Что будет, – подумалось мне, – если из материнской подушки я достану иголку и воткну ее в одну из котиковых бисеринок? Вздумано – сделано. Потянулся я к подушке и вынул иголку…
В эту минуту в горницу вошла маменька и, не глядя на меня, стала заниматься какой-то приборкой. Я невольно воздержался от придуманной забавы. Держу в одной руке иголку, а другой ласкаю котенка…
– Маменька! – говорю, – какой у нас котеночек-то хорошенький.
– Какому же и быть! – отвечает маменька, – плохого и брать было бы не для чего.
– А что это у него, – спрашиваю, – под лобиком, иль глазки?
– Глазки и есть; и у тебя такие же.
– А что, – говорю, – будет, маменька, если я котеночку воткну в глазик иголку?
Мать и приборку бросила, как обернется ко мне, да как крикнет:
– Боже, тебя сохрани!
И вырвала из рук иголку.
Лицо у маменьки было такое испуганное, что я его выражение до сих пор помню. Но еще более врезалось в мою память ее восклицание:
– Боже, тебя сохрани!
Не наказала меня тогда мать, не отшлепала, а только вырвала с гневом из рук иголку и погрозила:
– Если ты еще раз вытащишь иголку из подушки, то я ею тебе поколю руку.
С той поры я и глядеть даже боялся на запретную подушку. Прошло много лет. Я уже был иеромонахом. Стояла зима; хороший, ясный выдался денек. Отдохнув после обеденной трапезы, я рассудил поставить себе самоварчик и поблагодушествовать за ароматическим чайком. В келье у меня была вода, да несвежая. Вылил я из кувшина эту воду, взял кувшин и побрел с ним по воду к бочке, которая в скиту у нас стоит, обычно, у черного крыльца трапезной. Иду себе мирно и не без удовольствия предвкушаю радости у кипящего самоварчика за ароматной китайской травкой. В скитском саду ни души. Тихо, пустынно… Подхожу к бочке, а уж на нее, вижу, взобрался один из наших старых монахов и тоже на самоварчик достает себе черпаком воду. Бочка стояла так, что из-за бугра снега к ней можно было подойти только с одной стороны, по одной стежечке (Стежка, стежечка – узкая тропинка, по орловскому говору). По этой-то стежечке я тихохонько и подошел сзади к черпавшему в бочке воду монаху. Занятый своим делом да еще несколько и глуховатый, он и не заметил моего прихода. Я жду, когда он кончит, и думаю: “Зачем нужна для черпака такая безобразная длинная рукоятка, да еще с таким острым расщепленным концом? чего доброго, еще угодит и в глаз кому-нибудь!..” Только это я подумал, а мой монах резким движением руки вдруг как взмахнет этим черпаком, да как двинет концом его рукоятки в мою сторону! Я едва успел отшатнуться. Еще бы на волосок, и быть бы мне с проткнутым глазом… А невольный виновник грозившей мне опасности слезает с бочки, оборачивается, видит меня, и ничего не подозревая, подходит ко мне с кувшином под благословение…
– Благословите, батюшка!
Благословить-то его я благословил, а в сердце досадую: экий, думаю, невежа! Однако, поборол в себе это чувство, – не виноват же он, в самом деле, в том, что у него на спине глаз нет, – и на этом умиротворился. И стало у меня, вдруг, на сердце так легко, и радостно, что и передать не могу. Иду я в келью с кувшином, наливши воды, и чуть не прыгаю от радости, что избег такой страшной опасности.
Пришел домой, согрел самоварчик, заварил “ароматический”, присел за столик… И, вдруг, как бы, ярким лучом осветился в моей памяти давно забытый случай поры раннего моего детства – котенок, иголка и восклицание моей матери:
– Боже, тебя сохрани!
Тогда оно сохранило глаз котенку, а много лет спустя и самому сыну…
– И подумайте, – добавил к своей повести отец Нектарий, – что после этого случая рукоятку у черпака наполовину срезали, хотя я никому и не жаловался: видно всему этому надо было быть, чтобы напомнить моему недостоинству, как все в жизни нашей от колыбели и до могилы находится у Бога на самом строгом отчете.
Прячу я жемчужину этого рассказа в свою сокровищницу и вспоминаются мне слова библейского сказания о явлении Бога пророку Илии:
“И се дух велик и крепок разоряя горы и сокрушая камение в горе пред Господем, но не в духе Господь. И по дусе трус, и не в трусе Господь. И по трусе огнь, и не во огни Господь. И по огни глас хлада тонка, и тамо Господь”.
Разве не “глас хлада тонка”, не тихий, благоуханный ветерок вечной весны эта повесть нашего младенчествуюшего духовного друга?.. О, глубина богатства премудрости Твоей, Господи!
5 сентября
Ночной посетитель. – Что было и что стало. – На людях и смерть красна
Сегодняшнею ночью кто-то из обновленного “новыми свободами” человечества удостоил наш тихий уединенный приют своим посещением. Нетрудно догадаться, что и цели этого визита были тоже “освободительные”, чтобы освободить нас от части нашего имущества, а, при случае, быть может и самую душу от грешного тела. С вечера наша дворная собачонка Мушка все время была очень беспокойна и поминутно лаяла, перебегая с места на место. Пока в нашей моленной жена оправляла лампадки, я был в столовой и в открытое окно (у нас еще не вставляли рам) слышал свист, подманивающий собаку. В первом часу ночи слышен был какой-то шорох у парадной двери. Собака продолжала лаять в противоположной стороне. К счастью, я не придал особого значения этим ночным звукам и ночь проспал безмятежно. Ночевавший у нас француз не мог зато уснуть ни на минуту. Окно его комнаты выходит на террасу у парадной двери, где я слышал шорох, и открыв внезапно на шорох этот занавеску у окна, он увидел на террасе человека. “Освободитель” тотчас же скрылся, но собака еще долго не могла успокоиться и все лаяла тревожным возбужденным лаем.
От этих ночных страхов на семейном совете рещено было удвоить собачью стражу… Но “аще не Господь хранит град, всуе бдит стрегий”. Вот, вера-то моя больше на словах, чем на деле. Умножь, Господи, веру!
И подумаешь, давно ль то было, когда при “старом”, как теперь принято выражаться, “режиме”, мы у себя в имении, вдвоем с покойной матерью, жили в отдаленном от людских доме совершенно одни, оставляя открытыми на ночь все окна и не запирая на ключ ни одной двери? В деревне, да страхи?! Какие могли быть страхи в старой, богобоязненной, честной деревне?.. Об этом я вспомнил сегодня вслух, после того, как люди “нового режима” потревожили сон иностранца, изверившегося в правде своего народа и приехавшего ее отыскивать в “освобожденной” России. Теперь, видно, даже и близость такого святого места, как Оптина не спасает, а о деревне и говорить уже, стало быть, нечего.
Ходил к старцам просить святых молитв в ограждение от ночных посетителей.
– Вот тоже, – сказал мне один из них, – на днях в один монастырь забрались (он и монастырь назвал), но только одиннадцатью рублями воспользовались.
На людях, стало быть, и смерть красна.
6 сентября
“Течение воздуха”. – Корабль “князя силы воздушной”. – Суть дела все та же. – Меньшиковское – “свершилось”. – Лаодикийская Церковь
Давно что-то не заглядывал к нам наш друг и любимец, отец Нектарий.
Легок на помине! Пришел как раз во время обеда и, по случаю воскресного дня, отведал нашего пирога.
– Трижды, – говорит, – порывался к вам заглянуть, да не мог.
– Какая причина?
– Такое уж, – отвечает, – течение воздуха было.
Подали почту. Развертываю “Новое время” и читаю вслух:
“В солнечное утро, – пишет Меньшиков, – я подходил к Софийскому собору. Слышался издалека шум мотора. Вижу, какая-то женщина глядит на небо. Поднимаю голову. Боже, почти над головой моей в небесной вышине, плывет чудовище в виде желтой акулы. Это был первый “воздушный корабль”, какой я видел, наш “Лебедь”, привезенный из Франции”…
Я прервал чтение.
– Не из Франции ли, – говорю, – батюшка, и у вас течение воздуха было?
– Почему думаете?
– Да потому что думается – там “его” гнездо.
– Чье?
– Князя силы воздушной: корабли даже, видите ли нам свои посылает.
Француз наш услыхал мое замечание и спросил с живостью:
– Неужели вы это говорите серьезно?
– Конечно, серьезно.
– Но, ведь, это завоевание техники, гения человеческого!
– А Симон – волхв не летал?
– Летал.
– Чьей силой?
– Бесовской.
– Понимаете?
– Что ж тут общего? – воскликнул француз с ясно выраженным негодованием в голосе: там – чародейство, здесь – наука, ум человека.
– А источник этой силы все тот же, – возразил я спокойно, – разница только в способах ее проявления: проще было время, – проще действовал и “князь мира”; осложнились мы, – и он стал действовать сложнее. Возьмите прежних колдунов и ведьм и сравните их с теперешними спиритами и оккультистами обоих полов: какая разница! и тоже в якобы научном отношении, а суть-то дела все та же.
– Mais, vous savez, c’est par trop fort ce gue vous dites – вознегодовал француз, – это вы уже слишком перехватили через край. Неужели вы дошли до такой степени отрицания науки? Ведь это же проповедь возвращения к первобытному состоянию.
– Именно.
– К состоянию дикаря Полинезии?
– Нет – к первозданному Адаму до грехопадения, вернее – к новому Адаму, искупленному кровию нашего Спаса, к “духу животворящему”, для которого вся ваша наука есть зло и ничто.
Смотрю, мой батюшка сидит в своем уголку и посмеивается.
– А вы, – говорит, – извольте-ка прочитать, что дальше господин Суворин пишут.
– Не Суворин, а Меньшиков, батюшка!
– Это все одно. Почитай-ка!
Я продолжал прерванное чтение:
“…Так для меня лично открылась новая эра в истории. …Свершилось!.. Подавленный неизмеримостью великого события, я вошел в храм, где шла обедня. Чудное пение древних, когда-то священных для меня слов, прекрасный византийский купол над стройными коринфскими колоннами.
“Величит душа моя Господа”…
“Это отошло, – подумал я, – или стремительно отходит, но храм не хуже воздушного корабля”…
Я опять остановился.
– Стоит ли оскорблять ваш слух, батюшка?
– Читайте!
“Всем казалось, что эволюция идет вперед, а в сущности она развертывалась, как заведенная до конца пружина. Дошло до смешного: на наших глазах воскресают гнусные восточные культы, от которых погиб греко-восточный мир. Христианство не только отвергается публично, как во Франции, на него не только воздвигаются гонения, недавно дошедшие в барселонском бунте до нероновых жестокостей, но столь же публично и торжественно восстанавливается, например, магизм, развратные мистерии и сатанизм. Служение доброму Богу сменяется верою и служением злым богам. Если формальное язычество не охватывает массы, то не вследствие ревности к христианству, а вследствие массового равнодушия к какой бы то ни было вере… Отходит христианство – вот событие куда покрупнее плавающих в небе акул”…
– Не христианство отходит, – остановил мое чтение батюшка, – а люд и отошли от Христа и попали во власть диавола. Так продолжаться долго не может.
Если, действительно, – подумалось мне, – человечество в своей массе дошло до полного равнодушия к какой бы то ни было вере, то, ведь, это значит, что мы вступили в последний, седьмой, период Христианской Церкви на земле, – Лаодикийский, по Апокалипсису.
“И Ангелу Лаодикийской Церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих”.
Да, несомненно мы находимся в этой последней перед концом мира Церкви, перед извержением ее из уст Христовых.
Лаодикнйский! – “народоправческий”, если подстрочно перевести это слово с греческого. Разве не ясно выражено теперь во всем свете стремление к установлению “народоправчества”, как последнего слова науки государственного права, взамен христианских монархий, якобы отживших свой век и не удовлетворяющих принципу гражданской свободы? Не сегодня-завтра, вдень ведомый Богу, отнимется “держай”, и всемирная “Лаодикия”, во всей ее безбожной необузданности, возглавится “зверем из бездны”.
Господи помилуй!
О, если бы Русь моя могла всем сердцем обратиться к Богу, покаяться во вретише, как некогда Ниневия!..
9 сентября
Оптинские службы. – Бесноватые старого и нового фасона. – Влияние Оптиной
Вчера, по случаю дня Рождества Пресвятыя Богородицы, поздняя обедня окончилась в половине двенадцатого, а всенощная накануне – около полуночи. Итого на торжестве праздника Богоматери мы провели в храме восемь с половиною часов и без особой усталости.
Во время бдения пришлось повозиться с одной крестьянской женщиной, оказавшейся бесноватой. Перед величанием с ней начался припадок: она стала стонать и всхлипывать, а затем впала в беспамятство. К счастью, беснование в ней не сопровождалось бурными явлениями, а ограничилось тихими стонами да безудержными, обильными слезами.
Бедная страдалица! И сколько таких по градам и весям России, особенно по весям! Впрочем, теперь с распространением грамотности и благодаря сближению “темной” деревни с “просвещенными” центрами, такой простой вид беснования уже стал переводиться, принимая новые культурные, так сказать, формы. Беснования обоих полов остались и не только остались, даже умножились, но стали известны науке и людям под другим названием и с иным содержанием: неврастеники, истерички, декаденты… Эволюция та же, что и с колдунами и ведьмами: переменились клички, а суть осталась без изменения.
София Александровна Манаенкова, которую восемнадцать лет бес мучил по старому фасону, не прикрывая себя и не утаивая под научной кличкой, все еще живет в Оптиной, утешаемая старцами и дивной ее церковной службой. В том городе, где ее постоянное местожительство, есть одна домовая церковь, куда она прихожанка. Там священствует иерей лет уже пожилых, весьма неблаговолящий к Оптиной. Таково обычно, за редкими исключениями, отношение белого духовенства к монашествующей братии. На этой почве у Софии Александровны с иереем происходили частые пререкания, доходившие подчас до явного немирствия друг на друга. Но любовь победила. Когда нынешним летом Софие Александровне пришло обычное время ехать в Оптину, а ехать было не на что, тот же иерей из своих скудных средств принес ей на поездку десять рублей; мало того, – сам следом за нею приехал посмотреть, что это за Оптина такая. Приехал надень, на два, а прожил без малого две недели.
Сегодня София Александровна получила от его жены письмо; пишет, что муж, лет пять тому назад поссорившийся с дочерью, тотчас по возвращении своем из Оптиной, объявил неожиданно жене, что надо написать Лидочке. Лидочка – дочь.
“Затем подумал немного, – пишет матушка, – да и говорит, – чем писать-то да откладывать в дальний ящик, давай-ка, сами к ней поедем!” – Поехали, примирились, и теперь там, где был гнев и ссора, царит мир, любовь и благословение. Лидочка с ребенком гостит у нас уже третью неделю, а дедушка, который обычно не терпит в доме никакого шума целыми днями в свободное время возится и нянчится с внучкой”.
Такова Оптина, таково ее влияние. Да и в немощах Софии Александровны не сила ли Божия совершается?..
14 сентября
Всенощная под Воздвижение. – Да будет ми по глаголу святого. – Ангел говорит устами младенца
Что творилось у нас вчера за всенощной под Воздвижение, того и описать невозможно – такая была уйма народу! В храме было до того тесно, что не было возможности перекреститься, а народ еще, кроме того, сплошной стеной окружал собор, не вмещаясь в стенах довольно обширного летнего храма.
Ровно в одиннадцать часов отец архимандрит начал воздвизать крест, а бдение окончилось за полночь. Мы, с благословения отца архимандрита, всей семьей стояли на клиросе правого придела, и нам было исключительно хорошо, несмотря на то, что народ стоял вплотную к самым царским вратам придела. Величественное и трогательное было это зрелище! Вся эта огромная сила веры, подвигшая такое множество людей к подножию воздвизаемого Креста Господня, не обличение ли мне в моих эсхатологических ожиданиях и предчувствиях? Пусть, – думалось мне, – основанием их служит мое многолетнее изучение вопроса, но ведь, ин суд Божий, и ин человеческий! Не ошибаюсь ли я? более того, – не согрешаю ли, стремясь проникнуть пытливостью своею в такие тайны домостроительства Божня, которые не открыты были даже и Ангелам? Вон, сколько их еще, не подклонивших выи своей Ваалу! И это в одной Оптиной. А там, по церквам, монастырям и соборам всей великой России? Если здесь сотни и тысячи, то там – миллионы!.. Так думал я. Взглянул я на толпу, переполнявшую храм, и что же бросилось мне в глаза? Вся эта толпа состояла из одних только женщин. Были и мужчины, но они, как одинокие камни в безбрежном просторе открытого моря, терялись в среде богомолий, простых деревенских женщин, преимущественно среднего возраста и старше. Интеллигенции не было, не было и молодежи, кроме немногих девушек и женщин из Стениной. И опять подумалось: не такое ли же было множество народу при входе Христовом в Иерусалим, когда вайями устилали путь Его и возглашали “Осанна Сыну Давидову”? Много ли дней прошло с того дня до предания Его и Креста, при котором были, за исключением любимейшего ученика, одни только женщины, как и теперь в конце второй тысячи лет при воздвижении того же символа нашего спасения?.. И чего, чего только не передумалось мне за этой навсегда памятной для меня всенощной! И решил я в сердце своем: да будет воля Божия, но то, что я считаю своим знанием, тем обязан делиться со всяким, кто пожелает от этого знания попользоваться.
Святый Кирилл Иерусалимский заповедь дал: “знаешь признаки антихристовы, не сам один помни их, но и всем сообщай щедро”.
Да будет ми по глаголу Святого.
Кстати об антихристе. Живет с нами девочка-сиротка, Любочка. Ей шестой год идет только. До детского ее слуха нет-нет да и долетит то или другое слово об антихристе. Сидит она как-то раз вдвоем с моей женой и что-то щебечет своим детским язычком. И, вдруг:
– Тетя! скажи мне, что такое антихрист?
О Христе она уже многое знает.
Приноравливаясь к ее пониманию, жена ей дала довольно подробное объяснение вопроса; не забыла упомянуть и об антихристовой печати, без которой, не наложив ее на себя, нельзя будет ничего ни купить, ни продать.
– И хлебца нельзя будет купить без нее? – спрос ила Л юбочка.
– Ничего нельзя, – ответила жена.
– Но ведь мы, тетя, не дадим на себя накладывать эту поганую печать?
– С помощью Божией, конечно, не дадим, деточка.
– Тогда значит, умирать придется с голоду, – решила девочка. Потом задумалась и, вдруг, радостно воскликнула:
– А Бог-то, тетя! – Он, ведь, все может: Он и без хлеба сделает так, что мы сыты будем.
Рассказали мы об этом отцу С., одному из отцов оптинских.
– Это Ангел Божий внушил такое сильное слово Любочке: устами младенца изреклась сама истина; дал бы только Бог всю полноту веры, нужную для осуществления этой истины в то страшное время.
И тут опять влияние Оптиной. Счастливая Любочка!
17 сентября
День Ангела Любочки. – Нечто из оптинских тайн. – “Дочка” Царицы Небесной. – Спиритизм и “теплохладность”
Сегодня день Ангела нашей Любочки, а у нас, как на грех, с утра всякие недоразумения в домашнем хозяйстве. К приходу наших сирот от обедни все они рассеялись, и вновь чисто и безоблачно стало домашнее наше небо.
О тех. кого я называю “нашими сиротами”, о Любе и ее воспитательнице, Ляле, мне не миновать записать в свои заметки, только не сегодня: сегодня не о них поведется моя речь.
Недоразумения рассеялись, но “враженки” маленькие и побольше все же не унимаются и вьются, как летние комары, вокруг нашего тихого и мирного жития. Одного из них вчера обнаружил отец Ф., и мы общими с ним усилиями вывели все его козни на свежую воду. Произошло это при обстоятельствах, заслуживающих памяти, как характеристика той жизни духа, в которой мы, по великой милости Божией, живем и которою назидаемся.
Дело было так: ходил я к болеющему отцу Эрасту отнести ему одну брошюру, сердечно меня умилившую (мы с этим старцем частенько видимся и обмениваемся мыслями и впечатлениями по поводу всего, что до слуха нашего доходит из мира внешнего). Посидел я у него с часок и пошел домой. Иду от него и у архимандритской встретился с отцом Ф. Принял его благословение и спрашиваю:
– Ну, как в Москву съездили?
А он только что вернулся из Москвы, куда ездил по одному важному для одной души христианской делу.
– Съездить-то съездил, – ответил на мой вопрос отец Ф., – только результатов от своей поездки никаких, или почти никаких, не добился. Но и за то, что добился, и за то благодарение Богу. Но что с Москвой стало за эти десять лет, что я из нее выбыл: ее узнать нельзя! Люди стали, как звери: говорить с ними ни о чем нельзя – все их раздражает; на собеседника, особенно в рясе, смотрят, как на врага; любви совсем не осталось – там прямо ужас что стало твориться!
Тут по дорожке, на которой мы беседовали, повезли дрова. Мы сошли с нее и приблизились к келье отца Ф.
– Зайдите ко мне, – сказал он, – ведь вы у меня еще в этой келье не бывали.
Не успел я перешагнуть ее порога, как был поражен, точно небесным видением, образом Нерукотворенного Спаса, прямо против входной двери сверкнувшим на меня своею лампадой.
– Откуда у вас такая красота?
– Работа отца Даниила (Отец Даниил Болотов. О нем в моем книге “Великое в малом”, в очерке “Искатель града невидимого”).
Надо было видеть этот Божественный лик, эти Божественные очи, проницающие в душу, чтобы понять сердцем, что не одна кисть отца Даниила воспроизвела эту святыню, а что кисти этой сила и вдохновение даны были свыше: человек от себя, одним своим искусством не мог бы создать такой красоты небесной.
– У меня на исповеди и совете была одна монахиня, – сказал мне отец Ф., – монахиня эта сердцем ожесточилась до того, что решила снять с себя мантию и вернуться в мир. Как ни уговаривал я ее, как ни убеждал, она стояла на своем и меня слушать не хотела. Я упросил ее остаться одной в келье и помолиться перед этим образом.
Когда я вернулся к ней, то застал ее в слезах, и от ее страшной решимости не осталось и следа.
Я опять взглянул на этот пречистый лики едва мог оторвать взгляд от этого благодатию вдохновенного изображения: и самому окаменелому сердцу, правда, немудрено было перед ним раствориться… Отец Даниил, оказывается, написал его одному оптинскому монаху за три рубля, – за цену красок и холст, – а тот за ту же цену переуступил отцу Ф. Поистине, только в Оптиной и могут совершаться такие сделки (Отец Даниил окончил Петроградскую академию художеств, если не ошибаюсь в одном году с В.М. Васнецовым и был в свое время в Петрограде весьма известным портретистом).
Слово за слово, – разговорились мы с отцом Ф… Вдруг, он прервал ход беседы…
– А знаете, С.А., – сказал он мне, – у меня, ведь, на сердце есть тень, налегшая на наши с вами отношения.
– Да что вы, батюшка? – испуганно спросил я.
– Да, да! – подтвердил он, – тень легла. И как же это меня во время моей поездки тяготило, я вам и сказать не умею, даже жутко было. Ну, как, думалось мне, со мною в дороге да что-нибудь случится: поезд ли, в котором еду, потерпит крушение, или еще что приключится, – как предстану я там, на суде Господнем, не освободив души своей от этого чувства?
– Что же это такое? – спрашиваю я, не чувствуя за собой никакой вины перед батюшкой.
– А помните искушение с вашей рукописью “Святыня под спудом”, когда мне пришлось с вами о ней договариваться по поручению отца архимандрита. Едва я тогда повел с вами этот дипломатический разговор, вы мне и слова не дали вымолвить, вскочили, махнули рукой и ушли в церковь, откуда я вас вызвал для разговора. Помните ли вы это? Меня это тогда больно кольнуло в сердце: я же ведь ни при чем был в этом искушении, я был только лишь передаточной инстанцией и не заслужил к себе такого отношения. И вот, тогда в сердце мое залегла тень некоторой на вас обиды, и лежала она на нем, и тяготила его, и страшило меня это чувство страхом ответа на суде Христовом.
До того умилительна была тонкость ощущения греха, в котором и повинен-то был не отец Ф., а я, что я встал со стула и поклонился отцу Ф. в ноги…
– Простите, – кланяюсь я ему, – дорогой мой батюшка! Но Бог видит, что у меня и в мыслях не было нанести вам обиду.
Смотрю, и пожилой духовник оптинский, одно из наиболее почетных лиц в обители, стал тоже передо мною на колени и кланяется мне чуть не со слезами в землю.
– И меня, – говорит, – Бога ради простите!
И так до двух раз просили мы друг у друга прошения и, во второй раз поклонившись друг другу, благословил он меня и мы, по обычаю монашескому, в оба плеча расцеловались. И совершилось это таинство любви Христовой пред тем же Божественным ликом Нерукотворенного Спаса, который и строптивую монахиню привел к послушанию, и цена которому была на деньги только три рубля за холст да за краски.
Пришла от обедни наша маленькая именинница, вся сияющая, радостная, в новеньком беленьком платьице. На белом платьице голубые бусы, на белокурой головке голубые ленточки; поясок тоже голубой…
– Совсем точно дочка Царицы Небесной! – воскликнул “наш” француз.
А у верующих французов часто детей посвящали от рождения Матери Божией. Было это тогда, когда Франция была еще христианской. Таких детей до их конфирмации одевали во все голубое и белое, – цвета Царицы неба и земли: голубое – небо; белое – невинность. Кому-то теперь детей своих посвящает Франция?
Но наша Любочка, к счастью, родилась в России, чей свят – корень еще не успел ко дню ее рождения отпасть целиком от веры отцов своих… И живет-то Л юбочка в Оптиной, и день рождения-то ее двадцать шестого марта, день собора Святого Архистратига Гавриила, следующий за Благовещением день… Счастливая Любочка!
Откуда же у нас это дитя Божие, эта названная дочка Небесной Царицы, Матери Божией? Откуда Господь послал нам эту девочку?
Не хотел, было, говорить об этом сегодня, а, видно, придется, хотя бы и кратко. Было дело это в августе 1907 года. За два месяца до нашего поселения в Оптнной, мы приехали пожить около ее старцев недельки две да и поговеть кстати, благо и время к тому было подходящее – Успенский пост. Стоим мы как-то за поздней обедней и видим: няня причащает на руках маленькую девочку. Платьице на девочке беленькое, поясок голубенький, голубенькая ленточка в белокурых, как чистый лен, светлых волосиках. Поднесла няня девочку к святой чаше, а девочка, как взрослая исповедница Христова, перекрестилась истовым крестным знамением, сложила ручонки крестом на груди, причастилась, опять также большим крестом перекрестилась и благоговейно приложилась к краю потира. Дивное дело! – ребенка от земли не видать, а причащается так, как в наше время и из взрослых-то редкий кто умеет причащаться.
До слез это нас с женой умилило. Что же за сокровище, подумалось нам, мать этой девочки! Не утерпели мы, подошли к няне, поздравили и поцеловали ребенка.
– Чья это, – спросили мы у няни, – девочка?
– Это круглая сиротка, – ответила няня, – воспитывается она у оптинской жилички. Надежды Николаевны; а зовут ее Любочкой.
Это была наша первая встреча с Любочкой.
Потом поселились мы с первого октября того же года на житье в Оптиной, узнали Надежду Николаевну, Любочкину воспитательницу, узнали и Лялю (Елену), которая жила с ними – многое узнали из их жизни, за что их всех трех сирот полюбили; а померла после того через пять месяцев Надежда Николаевна, кормилица и поилица Любина и Лялина, они и перешли к нам, с благословения старцев, как близкие, родные, как дети обшей с нами матери, Оптиной.
Просто это совершилось, проще чего и быть не может: друг другу в одолжение во имя любви Христовой и послушания старческого. Так и прибавилась наша семейка на полтора человека, на две души христианские – на Лялю и на Любу.
Но какое море слез пролито было Лялеи о Надежде Николаевне! Да и было с чего: святая была покойница, эта удивительная женщина! Не помянет ли она и нас в дерзновении своем пред Престолом Всевышнего, с Лялей и Любой своими вместе?!.
Такова наша христианская вера. В миру на место Христовой веры стремятся ввести иную и, кажется, не без успеха. Для мира это как бы новое откровение, а для верующих христиан давно знакомые хитрости “бога” ” новой веры”, древнего диавола.
В отделе “Маленькая хроника” сегодня полученного номера “Нового Времени” читаю:
“У нас уже сообщалось, что известный английский публицист В. Стэд открыл в Норфолк-Стрите спиритический кабинет, где некая Юлия А. соединяла мертвых и живых за скромную плату в несколько шиллингов. Теперь Стэд в “Matin” рассказывает чудесный случай из практики спиритического кабинета, причем, мы, русские, сыграли видную роль в замечательнейшем явлении загробного мира.
Стэд встретил в Лондоне княгиню Вяземскую, которая его пригласила во Францию полюбоваться на полет ее сына на аэроплане. Полет предполагался близ Шалона.
В этот же день в спиритическом кабинете произошло следующее чудесное явление. Некий голос возглашает:
– Если вы поедете в Шалон, я поеду с вами!
Стэд: “Кто говорит?”
Голос: “Я недавно умер; моя фамилия Лефебр”.
Фамилия эта никаких воспоминаний в Стэде не вызвала. Как истый публицист, газет он не читает и о смерти авиатора Лефебра не знал.
Стэд: “Вы знаете аэроплан Болотова?”
Голос: “Знаю. Скажите молодому человеку, чтобы он был осторожнее. Пусть он внимательнее осмотрит свой мотор. Вы сами не садитесь в биплан”.
Стэд: “Вы знакомы с Болотовым?”
Голос: “Нет, но я его встречал”.
На другой день Стэд узнал, кто такой Лефебр, и решил задать еще несколько вопросов.
Стэд: “Что вызвало ваше падение?”
Голос: “Я не знаю: во время падения не думаешь”.
Стэд: “Сохранили ли вы хладнокровие?”
Голос: “Я чувствовал, что падаю; но прежде чем коснуться земли, я потерял сознание. Мне показалось, что душа моя вылетела из тела. Я витал в выси и видел свое тело распростертым внизу. Неприятного чувства я не испытывал. Какое-то высшее существо было около меня, и завтра это высшее существо попробует через ваше посредство писать на сеансе”.
Стэд (В 1912 году погиб на Атлантическом океане величайший в мире пассажирский пароход “Титаник”, и на нем погиб и Стэд. Не помогли, видно, спиритические бесы!) телеграфировал Болотову предостережения Лефебра и выехал в Шалон. Хотя мотор, неоднократно испытанный, работал, по-видимому, исправно, но в момент полета с ним что-то случилось, и Болотову так и не удалось подняться”…
Таков “чудесный случай”, сообщенный “Новым Временем” своим многочисленным читателям. Такова пропаганда “чудес и знамений ложных” наиболее распространенной русской газеты. Так на виду у теплохладных христиан подрываются корни веры Божией “за то, что они не приняли любви истины для своего спасения… да будут осуждены все не веровавшие истине, но возлюбившие неправду” (2 Сол. 10, 12).
18 сентября
Старинная русская верность
Есть в Оптиной в числе ее сокровенных святых один старичок-послушник. В миру он был когда-то крепостным графов Р., родственников моей жены с материнской стороны. Узнал он как-то об этом и прониклось старое и верное его сердце к нам особой любовью. Сегодня встретили мы с женою его: идет он с Амвросиевского колодца от скита и несет кувшин с водою. Поровнялся с нами, остановился и говорит:
– Как увижу вас, так и возрадуется во мне сердце мое.
– Спаси вас, – говорю, – Господи, за любовь. Чем только мы ее заслужили?
– Ах, мои батюшки. – отвечает старец, – чем заслужили? да, ведь, вы мне моих графов напоминаете, старых моих господ я в вас вижу!
Старцу едва ли не под восемьдесят лет, господ его уже лет пятьдесят, никак, как и на свете нет, а он в нас их вспоминает и любит.
Вот она старинная-то русская верность!.. Эх, Русь когда-то святая, куда ты мчишься? Уж не домчалась ли?..
19 сентября
Слово от “препоясанного свыше”. – Сны отца Арефы. – “Камни вопиют”. – Плод веры в старцев
Как бы в ответ на поставленный вчера вопрос, я сегодня получил письмо от одного человека, близкого к высшим сферам церковного управления. Пишет, между прочим:
“Болит моя печень не на шутку. Боюсь, не образовалось бы нарыва: тогда прощайте до свидания за гробом.
Отчего болит? Да как и не болеть при всем том, что приходится переживать? Жизнь духовная всюду гаснет, начиная с архиерея. Пастыри забыли “единое на потребу” и пекутся о многом. Чувствуется тяжелый гнет греха во всем. Вчера получил подарок – книгу профессора Беляева об антихристе: 1055 страниц, и только первый том. Вышла уже десять лет назад. Много поучительного в ней. Как быстро созревают плевелы сатаны! Ужели им отдаваться без борьбы?.. Но нам ли, столь немощным, столь грешным бороться? Разве только в самих себе, ибо и туда, в наше сердце, их корешки простираются. Как бы хотелось бежать, бежать не только со своего места, но и из России… да некуда! Разве на тот свет позовет Господь?..”
Такие-то вот теперь речи приходится частенько слышать даже от “препоясанных силою свыше”: что скажем о себе, бессильных?
Сказывал мне отец Арефа, один из наших мантийных монахов, человек в духовной жизни внимательный, что перед японской войной он видел два сна, сильно его поразивших и старцем отцом Иосифом, признанных “зрением”. В первом сне он видел Господа Иисуса Христа, окруженного сонмом Ангелов. Господь шествовал от востока, направляясь к западу, а на земле, опережая Его шествие, в том же направлении стремительно двигались несметные полки каких-то нерусских воинов, и все это бесчисленное полчище вело безостановочную стрельбу по каким-то отступающим войскам. Во сне отцу Арефе чувствовалось, что отступающие были русские.
Второй сон: небо и земля свились в огромном столбе пламени, как бы в огне светопреставления.
Оба сна видены были в период 1903-1905 годов.
С первого августа не выпало ни одной капли дождя, а уже начались ночные заморозки. По дополнительным прошениям к ектениям можно ясно видеть, что мы под гневом Божиим: пол-лета молились о прекращении дождей, а другую половину лета и всю осень молимся о их ниспослании. За суетой жизни люди не обращают внимания на знамения, а их и в низшей природе такое изобилие, что поистине сказать можно: “камни вопиют”…
Наша София Александровна Манаенкова все еще живет в Оптиной: выехать не с чем, да и далее проживать здесь не на что. Загрустила бедняжка и всю сегодняшнюю ночь проплакала над портретом батюшки Амвросия.
– Ты можешь все выпросить у Бога, – причитывает она над портретом, – и знаешь, как мне необходима Оптина: помоги же!
Днем сегодня сидела она у себя в номерке грустная, готовая уже отчаяться. Неожиданно входит к ней одна купчиха из Т., мало даже знакомая, и говорит:
– Я слышала о вашей скорби. Сколько вам нужно ежемесячно, чтобы хватало на прожиток и на поездки в Оптину?
А купчиха, оказалось, на ходу была, чтобы отговевши обратно ехать домой в Т.
Замялась, было, от такого вопроса София Александровна…
– Двадцати пяти рублей, – не без удивления сказала она, – было бы довольно.
– Ну, и хорошо! – воскликнула купчиха, – я сейчас уезжаю, а, по возвращении домой, вышлю вам денег, чтобы еще пожить в Оптиной, и на дорогу вышлю и, вообще, буду вам помогать, чтобы вы ни в чем нужды не имели.
Обнялись, расцеловались. Нечаянная благодетельница уехала, а София Александровна все сидит еще в своем номерке и от умиления молится и плачет, плачет – остановиться не может.
25 сентября
День преподобного Сергия Радонежского. – Подарок старца отца Иосифа
День преподобного Сергия Радонежского и всея России чудотворца. День моего Ангела. Вчера с вечера у нас в доме служили всенощную, и как же это было умилительно! И весь сегодняшний день сердце праздновало какою-то особенною праздничною радостью.
Ходили к старцам. Старец отец Иосиф поразил меня некоею неожиданностью, какой я от него никогда не видел и ожидать не мог. Принял он нас в своей комнатке. Сидел он слабенький, но очень благодушный, на своем диване, одетый в теплый подрясник серого цвета из какого-то очень мягкого пушистого сукна. Подрясник был опоясан довольно тонким шнурком, сплетенным из нескольких шнурков – белых и красных. Мы стали перед старцем на колени, чтобы принять его благословение. Батюшка благословил и, вдруг, порывистым движением снял с себя шнурок и со словами:
– Ну, вот, на тебе!
Надел мне его на шею и ловко завязал его мне на груди узлом, на редкость красивым и искусным.
Что бы это могло значить? (Шнурок этот доселе хранится у меня, как святыня в полной неприкосновенности).
1 октября
День Покрова Пресвятыя Богородицы. – “Два года” “отца Егора. – “Разговор о свободе”. – Лжепророки (Меньшиков и Самушиа)
Сегодня мы причастники Святых Христовых Тайн. Сегодня исполнилось два года, что мы под благословенным покровом Оптиной пустыни, созданной в честь и славу Введения во храм Пресвятыя Богородицы.
Два года!.. “Ну да, ну да, – сказал нам отец Егор Чекряковский, благословляя нас на житье в Оптиной, – годочка два-три поживете, поживете! а то, ведь, почетных мест-то теперь нет, сами, небось, знаете, что нет!”
Неужели суждено исполниться словам нашего батюшки, неужели ладье нашей придется сняться с оптинского якоря?.. Признаки тому, увы, начинают, как будто, примечаться: враг рода человеческого и завистник не дремлет.
Да будет воля Божия!
Прочел в “Новом Времени” фельетон Меньшикова “Разговор о свободе”. Не могу не выписать из этого фельетона следующих знаменательных строк:
“…Я держусь, – пишет Меньшиков, – мнения не нового, а скорее древнего, как история, что народы нуждаются в чужой воле, более совершенной, чем их собственная. Народы нуждаются в постоянном импульсе извне, более высоком, чем их собственная инертность. И только такой импульс путем повторения создает прогресс, культуру. Культура есть раскупоривание человеческой природы. Но раскупоривание есть акт внешней силы: нужно, чтобы кто-то пришел и отворил тайник, выпустил душу на свободу… Нужна признанная народом власть, нужен вождь, нужен мессия…”
Так вот что теперь стал проповедывать этот выразитель дум и чувств среднего русского человека! – “Нужна воля более совершенная?” “Нужна признанная народом власть?” “Нужен вождь?” “Нужен мессия?”
А воля Божия? иль она недостаточно для г. Меньшикова совершенна?
А власть царская? иль она г.г. Меньшиковыми уже не признается? А самодержавный вождь народа и воинства русского? иль его уже не стало?
А Господь наш Иисус Христос, Мессия истинный? иль г. Меньшиков уже успел перейти в антихристианскую веру? Разве же это не подготовка слугами антихриста к принятию антихриста за Христа? И в то время, когда Меньшиков зовет прийти мессию, как грибы из-под земли выползают “лжехристы”, а “лжепророки” бродят по улицам столицы и проповедуют:
– Братия! пора покаяться: кончина мира близка, и не сегодня-завтра разверзутся небеса, земля расступится, огонь и молния со всех сторон нахлынут и сожгут нас.
В то же время на Кавказе, в селе Пиргюшад, Эриванской губернии мусульмане-родители бьют сына, какого-то необыкновенного самородного счетчика, подозревая в нем “даждаля” (воплощение диавола – вроде нашего антихриста).
“На днях”, – пишет “Колокол”, – “некий Самушия, именующий себя монахом, подал на имя Кутаисского губернатора следующее прошение:
“Я – человек богомолец с малолетства. В настоящее время, по повелению свыше, с марта сего года живу в келий одиноким. То, что я живу в келий (в пещере) известно господину Зугдидскому уездному начальнику. В настоящий момент, по повелению Божию, я имею слово ко всем государствам. Когда я это слово передам всем государствам, и они не поверят, тогда низойдет справедливый гнев Божий на людей настоящей эпохи, без различия государств, веры и нации – голодом, всеобщей войной между государствами и заразными болезнями. Я прошу ваше превосходительство допросить меня о том, что я знаю свыше. Вы не примите меня за противника правительства или государства. Я являюсь противником тех, которые восстали против государственного режима и царя, а существование Бога отрицают. Будьте уверены, что я силою Божиею верно могу сопротивляться тем г.г. безбожникам. Здесь же скажу вам, что после, т.е. в скором будущем, будет на всем земном шаре лишь один государь, и какие законы тогда должны будут приняты мною уже подготовлены, по приказанию свыше. Я человек, но я свыше просвещен”.
И Меньшиков и лжепророки, и этот полуграмотный Самушия – не от одного ли духа вещают? Удивительное единодушие от “хладных Финских скал” и “до пламенной Колхиды” и притом в людях столь различных общественных положений! Кто творит такое единодушие в век распрей и разделения?
Не от Бога же ведется эта подготовка к принятию антихристова царства, антихриста за Христа…
5 октября
День Ангела наследника престола. – Наказанный кощунник. – “Святая Русь” начала XX века
Были у литургии; ходили молиться за наследника Всероссийского престола, этого удивительного, по отзывам всех его знающих, царственного ребенка.
Сохрани его, Господи, и родителей его во славу Твою и на благо родине!
На днях уехал приезжавший на богомолье в Оптину монах Вяземского монастыря и сказывал кое-кому из наших, что нынешней весной в одну из деревень Вяземского уезда прибыл к “вешнему Николе” на побывку фабричный одной из столичных фабрик, уроженец этой деревни.
Николин день он справил по-фабричному и к вечеру допился до такого остервенения, что, вернувшись с гульбища под кров родительский, выхватил с божницы икону святителя и с криком:
– Ну, ты, поворачивайся – пляши со мною! – пустился в пляс, обхватив икону обеими руками. Родные бросились его останавливать: не тут-то было! – удержать его уже не было никакой возможности. С ужасом смотрят несчастные родители на эту дикую пляску, а безумец все пляшет да пляшет. Пляшет час, пляшет два, пляшет третий: кружится, не останавливаясь, по горнице, видно, уже не в себе и не своею силою. Смекнули тут, что это уже не пляска, а Божья кара: бросились за священником… Пока бегали за священником, успела собраться толпа зрителей со всей деревни, а несчастный кощунник все продолжает плясать и кружиться. Пришел батюшка, стали в соседнем помещении служит молебен, и только после продолжительной и усиленной молитвы священника остановилась эта страшная пляска, и плясун рухнулся на пол, как мертвый. На другой день его свезли в Вяземскую больницу, где он находится еще и по сие время.
– Теперь, – сказывал монах, – у нас после этого случая совсем тихо стало. А что до него творилось с народом-то, и вспомнить страшно! Доходило до того, что идет не во время грозовая туча, а мужики и бабы ей кулаки показывают, грозятся на небо и кощунствуют самыми скверными словами.
Приехала из Усмани монахиня, привезла мухояр (Грубая шерстяная ткань, из которой шьются оптинскне монашеские мантии) работы сестер обители и рассказывала, что монахиням не стало никакой возможности ездить по железным дорогам: нет той ругани, насмешки, проклятия, которых бы не изливали на их бедную голову сатанинская злоба, действующая теперь в сынах противления.
– Приходится, – говорила нам монахиня, – надевать на себя синюю юбку, чтобы похоже было на мирскую старушку, а то проходу не дают ругательствами на монастыри и на монашествующих!
Такова “святая Русь” начала ХХ-го.
Бедный народ! Жалкая Россия!
20 октября
Тяжелые поминки. – Пещерка в лесу. – Пустынницы. – О том, как все “там” на счету
Ходили на соборную панихиду по государе Александре III. Служил отец архимандрит и четы ре иеромонаха. Пели панихиду по былой русской славе.
Тяжелые, горькие поминки!..
После обедни и обеда, пошли всей семьей гулять в лес к пещерке, выкопанной для уединенной молитвы двумя отцами, поревновавшими о подвигах древних пещерников. Какие есть еще на Руси, по ее монастырям, наивные детские души в среде ее взрослых сынов!
От пещерки пошли низом, по лощине речки Железенки, по направлению к большой поляне на косогоре, к трем соснам. Это любимое место прогулки наших монахов в часы, свободные от церковных служб и послушания. Немного их у нашей братии. Посидели там на пенечках, – один из них подо мною обвалился и обратился в гнилушечный порошок, – и пошли дальше по направлению к избушке пустынножительницы матери Ольги (Ольга (Васильевна, прозвищем “Лапеха” – не Лапина ли?)). Живет эта раба Божия в келийке, рядом с избой лесного сторожа, и мы изредка ходим ее навешать. Мать Ольга тайная монахиня, родом из дворянок Тульской губернии, поначалу устроилась, было, в одной из женских обителей, но “не понесла” монастырской жизни и устроилась при оптинских старцах в лесу соседнего помещика. И не год, и не два живет так-то мать Ольга, а уж лет едва ли не с десяток: ходит к службам в Оптину, а дома живет сам-друг с прислугой, подобно птице небесной, мало заботясь о завтрашнем дне.
Не успели мы от трех сосен направиться в гору к нашей пустыннице, как смотрим, из-под горы, от ключа, взбирается на косогор, еле дыша, сама старушка, мать Ольга, и тащит ведерко с водою. От ключа до ее избенки добрая верста и все на гору. Пожалели старушку и помогли ей снесть ведерко до дому. Пришли и уселись у нее на завалинке; пригрелись на солнышке и завели разговоры о том, о сем, а больше об удивительной погоде, которая в конце октября растит на полянах весенние цветы и отпускает сережки на осинах.
К беседе нашей вышла погреться на солнышко и приехавшая в гости к матери Ольге, и сестра ее Анна Васильевна Рикман. От погоды слово перекинулось к поездке матери Ольги к Киевским угодникам (она нынешним летом ездила в Киев). На какую-то шутку сестры по поводу этой поездки мать Ольга ответила:
– Я-то, быть может, и плохо Киевским угодникам молилась, но зато они хорошо все слышат.
– Да, – отозвался я, – так слышат, что лучше и не надо; да мало того, что слышат, еще и ответы дают.
И я рассказал, что со мною было, как знамение от преподобного Иоанна Многострадального (См. выше в записи под вторым января).
Рассказал я эту немудрую, но правдивую историйку на завалинке хатки матери Ольги, а сестра ее в ответ мне тут и свою рассказала:
– Ездили мы, – сказывала она, – с моим сыном-офицером к преподобному Сергию. Помолились Божьему угоднику, сын уехал обратно в Москву, а я осталась еще на сутки. Перед самым отъездом с постоялого двора, где мы останавливались, сын потерял свое пенсне, а без него он все равно что без глаз. Искали, мекали так и не нашли, и пришлось уехать сыну, как слепому. Было это дело зимою. В воротах постоялого двора снегу намело такую гору, что ворота едва можно было отворить, и для проезда через них оставалось места ровно на ширину крестьянских саней. Пошла я на другой день в Лавру к вечерне. Уже темнело. Передо мною в ворота только что ввезли бочку с водой. Вышла я на крыльцо, чтобы пройти этими воротами на улицу и внезапно вспомнила, что мне один человек дал шесть копеек на просфору, вынуть за здравие, а я об этом забыла. Вот, думаю, грех-то какой! – завтра же выну. И не успела я это подумать, глядь, а перед моими ногами в воротах что-то блеснуло. Смотрю – пенсне моего сына. Вы только подумайте, сколько через него проехало и прошло за сутки народа! передо мною бочку с водой через него провезли и никто его не заметил, и никто не раздавил. Заметила его и нашла только я, да и то когда? когда вспомнила забытое мною по небрежности поручение к угоднику и лепту в его обитель. Вот как там все на счету и на виду у Божьих угодников! – так закончила рассказ свой сестра матери Ольги, сидя с нами на завалинке убогой ее избеночки в лесу, что под святой нашей Оптиной пустынью.
21 октября
(День восшествия на престол государя.) – Преступные недра
Да пошлет Господь царю нашему помощь от святого! Ему более чем кому-либо нужна эта вышняя помощь, чтобы управить народ свой в мире, тишине и благоденствии. А как управить его, когда те, кто по рождению и воспитанию своему призываются стоять во главе и быть руководителями, а царю помощниками, те вырождаются теперь в зверей-Гилевичей (Известное убийство в Лештуковском переулке, в Петрограде), а в недрах народных могут совершаться преступления, подобные следующему (“Колокол” № 1081).
“В селе Пречистом, Любпмского уезда. Ярославской губернии священник отец Никандр Волков, исповедывал в церкви и затем намеревался причастить Святыми Дарами доставленную туда крестьянку Вологодской губернии, Нефедову, как впоследствии выяснилось, симулировавшую болезнь. Кроме совершавшего таинства священника и “больной” женщины, в церкви находился муж последней, С.И. Нефедов и сын его, Леонид, семнадцати лет, доставившие в церковь под руки мнимобольную, и, кроме того, церковный сторож, Ступин.
Только что священник приступил к исповеди, как вдруг семнадцатилетний Леонид Нефедов выхватил из кармана револьвер и произвел из него выстрел в церковного сторожа Ступина. Хотя пуля попала в последнего, но не причинила ему никакого вреда, застряв в толстом меховом пиджаке. Тем не менее Ступ и н от сильного нервного потрясения упал на пол. После этого семнадцатилетний преступник побежал к совершавшему таинство священнику и направил в него револьвер, но, однако, отец Никандр не растерялся и быстро загородил себя исповедывавшейся мнимобольною. Руки преступника сильно дрожали, и он, по-видимому, плохо владел револьвером. Далее, он совершенно неожиданно передал револьвер отцу, а сам бросился бежать и скрылся в соседнем лесу. Между тем оправившийся от испуга священник и церковный сторож, таща за собою мнимобольную и прикрываясь ею, выбрались из церкви и захлопнули за собою двери. Таким образом, Нефедов-отец оказался запертым в церкви. Была тотчас же поднята тревога и немедленно сообщено проживавшему в селе становому приставу. Последний вместе с собравшимся народом, пытаясь арестовать преступника, вошел в церковь. Нашелся смельчак, сторож местного почтового отделения, Петров, который приблизился к Нефедову с целью обезоружить его, но, сраженный сильным ударом по голове железным болтом, упал замертво на пол.
Двери снова были заперты. Вскоре из церкви послышались выстрелы. Войдя туда, увидали Нефедова лежащим в луже крови: он первоначально пытался имевшимся у него длинным кухонным ножом перерезать себе горло, а затем произвел в себя выстрелы из револьвера.
Причины этой необычайной по обстановке драмы пока в точности не выяснены. Нефедов-отец был церковным сторожем раньше Ступина.
Рана, нанесенная Петрову, оказалась смертельной. Нефедов находился в безнадежном положении.”
Это ли не гибель души народной? Это ли не прообраз грядущей на место свято “мерзости запустения”? Ой, страшно!
22 октября
День Казанской Божией Матери. – Мир и вера. – Всенощная под Казанскую. – “Един от древних”
В Оптиной храмовой праздник: главный престол теплого храма освящен в честь и славу Божией Матери Казанского явления Ея чудотворной иконы.
Давно ли сила и слава этой иконы сияла до восточной границы Московского царства, этого ядра современной нам великой Российской империи? Давно ли свет ее чудотворный охранял наш ближайший православный Восток от тьмы дальнего языческого Востока? И вот, нет уже этой силы, нет этой славы, нет этого света!..
Мир глумится: украли икону!
Вера плачет: ушла, грех наших ради, отступила от нас Царица Небесная!..
Пришли мы вчера с женой в храм задолго еще до начала бдения. Так и всегда приходим мы под великие оптинские праздники, чтобы занять заблаговременно привычное наше место в храме, пока оно свободно от других богомольцев.
И как же любим мы этот последний получас перед началом торжественного звона к праздничной всенощной!
Вот вступаем мы на каменные ступени церковного крыльца. Отворяется перед нами стеклянная дверь его тамбуры, и впереди нас входит очередной пономарь-монах. Он друг наш, как и все оптинцы, по нашей к ним любви и дружбе; и мы это чувствуем, как чувствует это и он, вратарь храма, благоговейный служитель его святыни.
Если очередным пономарем случится быть отцу М. (Маркелл. Теперь (1916), он иеромонах и старшим келейник настоятеля), монаху живого и общительного характера, то, открывая двери и стуча железным засовом и тяжелым замком о железную ее обшивку, он не преминет обернуться в нашу сторону и с ласково-приветливым кивком головы всегда примолвить:
– А, старички-то уж тут! – вот преподобные-то! – И он знает, – а мы и подавно, – что и тени нет в нас преподобия, что это привычная шутка благожелательного отца М.; и к шутке его и сами мы относимся с равною благожелательностью, а, главное, любим его и чувствуем, что и он также любит и считает своими, оптинскими.
И вот, первое впечатление при входе в Божий храм – благоухание братской любви. И с этим чувством любви мы переступаем порог дома Божия, осеняемся таинственным полумраком его сводов, едва выступающих росписью святых своих изображений из сгустившегося под ними мрака, напоенного благовонием фимиама кадильного.
“Вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, в страсе Твоем”, – шепчут уста, и чело преклоняется под знамением креста Господня.
Хорошо, сладко!.. Таинственно и… жутко!
На аналое, в венке из искусственных ландышей и незабудок уже возложена наша коренная оптинская святыня, чудотворная икона праздника. В храме тепло; пахнет росным ладаном, ароматом чистого пчелиного воска от своих пчел, со своего свечного завода… Мы снимаем с себя теплые верхние одежды, кладем их на наши места и идем прикладываться.
“Заступнице Усердная, Мати Господа Вышняго! За всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего”… И тут молитвенная память твоя подскажет тебе все дорогие и любимые тобою имена дорогих твоих и любимых, за которых молит сердце твое Пречистую, а Ангел-хранитель невидимым рукавом незримой ризы своей возьмет да и смахнет навернувшуюся на твою ресницу слезу умиления и… грусти о тех далеких, живых и отшедших, за кого уста твои беззвучно шепчут слова сердечной молитвы:
“Спаси и сохрани их от зла и соблюди их для блаженной вечности, Преблагословенная!”
Приложишься к чудотворной иконе и следом пойдешь прикладываться к другим иконам Казанского храма, а там к дорогим и близким сердцу надгробиям, скрывающим под собою святые останки великих восстановителей оптинской славы родных по плоти и по духу братьев – схиархимандрита Моисея и схиигумена Антония. Трудились вместе во славу Божию, вместе и лежать под одной могильной плитой в одном и том же храме, угодники Божии. От Моисея и Антония, подойдешь к архимандриту Досифею, недолго управлявшему обителью после схиархимандрита Исаакия – его надгробие почти рядом – его помянешь и его молитв попросишь. Оттуда сердце поведет на противоположную сторону храма – к схиархимандриту Исаакию… Как дороги, как близки сердцу все эти подвижники оптинские, управившие и себя, и вверенные их духовному руководительству христианские души в Царство Небесное.
Царство вам всем небесное, место покойное!
И вот один по одному, а то и группами, начинают появляться богомольцы и постепенно наполнять обширный храм Царицы Небесной, посвященной памяти чудотворного явления Ее иконы в Казани. Зажигаются привычной и ловкой рукой екклесиархов (Они же и пономари) бесчисленные лампады и свечи; в храме все светлеет и светлеет… Вот входят и становятся по своим местам темные и благоговейные тени монахов и послушников… И вдруг, могучий медный удар шестисотпудового колокола… За ним, немного погодя, другой; за другим, с равным промежутком, третий – и широкой звуковой волной, заливая на далекое пространство все окрестные леса и луга, польется с высоты оптинской колокольни дивно-божественный зов полнозвучного металла к величавому праздничному оптинскому бдению, к великому празднику чудной и славной во обителях российских Оптиной пустыни.
Слава Богу, – дождались Богородицына праздничка!..
Вчера бдение продолжалось от половины седьмого вечера почти до полуночи. Рядом со мною, как и всегда, стоял старец, отец Иоанн (Салов), великий подвижник и молитвенник, почитаемый всеми нашими старцами, начиная с отца архимандрита и отца Варсонофия. Совершенно слепой, глухой до такой степени, что надо уметь особым образом говорить ему в правое ухо, чтобы он слышал, этот дивный подвижник, на своих больных, изломанных ревматизмом и многолетним стоянием, ногах выстаивает все продолжительные церковные службы, следя за ними по поклонам (Знакомому с уставом это будет понятно) ближайшего к нему монаха-соседа. Осязание у старца, как у всех слепых, развито до чрезвычайности, а службу он, как бывший в молодости канонарх, знает лучше всякого зрячего. Великий это подвижник Божий, истинно великий. Достойные неоднократно видели над ним в храме, как бы, столп огненный – пламень молитвы его к Богу умно-сердечной. Кто близко знает старца, те и не зовут его иначе, как “един от древних” (Отец Иоанн скончайся в 1913 году, постриженным в схиму).
Отец Иоанн старинного дворянского рода и, если не ошибаюсь, доводится двоюродным дядей недавно скончавшемуся члену Государственного совета, Салову, бывшему председателю инженерного совета министерства путей сообщения. В Оптиной отец Иоанн подвижничает около сорока пяти лет и до сих пор числится на “добровольном послушании”, то есть, не приукаженным послушником: таково смирение старца, не считающего себя достойным мантии. “Добровольное послушание” старца, с тех пор как он ослеп, состояло в заготовлении фитилей для оптинского свечного завода. Сучил он фитили, с таким искусством разматывая самые запутанные мотки ниток, что зрячие приносили ему распутывать и находить концы в своих мотках.
К великой нашей радости и счастью, старец принял нас с женой в свое расположение и звал нас: меня – “мой барин”, а жену – “моя птичка, моя пташечка”.
И вот с таким-то столпом огненным подвижнической веры и праведности привел меня Господь, многогрешного стоять рядом, плечо к плечу, молиться вместе за торжественными оптинскими службами и знать, что в его лице даровал нам Господь крепкого за нас к Его милосердию молитвенника.
О, премудрость и благость Божия!
К глухоте и слепоте старца Господь приложил еще и крест тяжелых ревматических страданий. Иной раз стоит, стоит старец в храме и, вдруг, опустится на свою лавочку с тяжким стоном: это значит, что и его железному терпению наступил предел, дальше которого ему терпеть в молчании нет силы. Вот и вчера этому преподобномученику было так плохо с начала всенощной, что, постояв немного, он сел на лавочку с тихой жалобой в мою сторону:
– Не могу стоять: и в голову вступило, и в ноги.
До слёз стало мне жалко нашего батюшку. Я схватил его холодную старческую руку и прижал ее к своим губам.
– О, родной мой, мой родненький! – прошептал старец и тою же рукою, которую я поцеловал, крепко прижимая ее к челу, к груди и к плечам, троекратно перекрестился. Я почувствовал, что наградой за мое сочувствие к его страданиям была его молитва за меня, и. Господи Боже мой, что же тут с моим сердцем сотворилось, того и не выразить словам языка человеческого! В необычайном, хотя и мгновенном, умилении вознес тут и я свою грешную молитву к Матери Божией за старца, прося Ее облегчить нестерпимые его страдания. Забилось в молитвенном восторге сердце от осияния его благодатью старческой молитвы и сразу затихло. Все это произошло перед самым началом чтения паремий… К концу литии старец вдруг встал и все шестопсалмие простоял, как вкопанный. Когда после шестопсалмия я хотел, было, его усадить на лавочку, он весело и бодро мне сказал с оттенком старческого вразумления моему не по разуму усердию:
– Нет, мой батюшка, во время ектений не садятся. Теперь я за ваши святые молитвы легко с вами достою бдение. Мне, правда, было очень тяжко: сперва вступило в голову, а из головы в ноги. Вот, вы помолились, и мне стало легче, а теперь и вовсе прошло.
Молился-то он, а мое сердце только одно мгновение помолилось его молитвой, а он уже знал, что в моем сердце совершилось, знал, что в то же мгновение и жена моя за него помолилась. Это не было простым предположением, это было знание.
Когда я сегодня, поздравляя отца Варсонофия с праздником, рассказал ему об отце Иоанне и что вчера у нас с ним было, батюшка задумался и благоговейно молвил:
– Да, это душа совсем особого разряда.
25 октября
Грозное предчувствие
Удивительная стоит в нынешнем году осень! Вот уже и двадцать пятое октября, а тепло все еще держится и октябрь похож скорее на апрель, а осень на весну. Вечером вчера гуляя, за монастырской оградой, в чудном оптинском лесу, я слышал майского жука, близко прогудевшего около моего уха. Это что-то, как будто, похоже на изменение стихий, предвозвещенное Святыми Отцами Церкви на конец времен, как знамение его приближения… Шли мы с женой из лесу, с Железенки, направляясь к своему дому от востока к западу. Лес стал редеть. Вечерняя заря горела над монастырем, как расплавленное с серебром золото. Небо казалось стеклянным и залитым жидкой, сквозящей огнем позолотой. Тихо не шелохнет; ни звука в лесу; безмолвно в монастыре, ни души не видно – все замерло, точно притаило дыхание, чего-то, как будто, ожидает… Четко, как вырезанная в золотом небе, высится и тянется к нему оптинская колокольня и храмы, монастырские корпуса, белокаменные стены. Глядишь на всю эту Божью красу сквозь редкие на опушке, стройные стволы могучих сосен – не налюбуешься… И, вдруг, откуда-то мысль, как молния, и с ней пророческие Спасителевы Слова: “Видишь эти великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется камня на камне…” Жутко мне стало на душе. Неужели мне суждено дожить до ужаса видеть разрушение святынь родной моей земли. И кто же осмелится их коснуться? Чья дерзновенно-святотатственная рука подымется на такое злодеяние, худшее из всех душегубств?.. И голос сердца ответил скорбным вздохом… “От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои; и Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя: и Я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех, видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе…” (Иезекииль, 28, 17-19). “И Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя!” Этими словами и вздохнуло мое смятенное сердце: не отвне, не от руки чужеземца, а от руки сынов твоей Родины, вскормленных и вспоенных святыней веры отцов их, падут эти великие здания за то, что “неправедной торговлей мы осквернили святилище наше, ибо, по слову Божию, мир есть торжище, жизнь наша – купля… Ой страшно!..
27 октября
Степан да Марья. – Дедушка. – Паня
Сегодня приехали в Оптину на богомолье и зашли к нам простецы-паломники из Тамбовской губернии, Степан да Марья. Степан уже давний нам приятель, деревенский маляр и кровельщик из села Лысые Горы Тамбовского уезда, а Марью мы видим в-первый раз; она соседка Степану, из соседней с ним деревни. Оба они духовные дети одного близкого нам по духу священника Тамбовской епархии, отца Василия Тигрова, почитателя наших старцев и Оптиной пустыни.
Вот рабы-то Божий, дети Христовы! Вот она, святая великая Русь!
Рассказывал мне сегодня за чаем Степан про некоего старца из таких же, как он сам, простецов, про дедушку Паню, к которому он относился, как к старцу. Дедушка Паня подвизался у них на селе, в келийке, построенной ему на задворках простецами-почитателями с благословения местного священника, отца Василия Тигрова, который, по кончине дедушки Пани, и брошюрку о его праведном житии составил. Рассказывает мне Степан про своего дедушку Паню, а спутница его, Марья, слушает его речи и плачет от умиления над его рассказом. Гляжу я на них, и в моем сердце закипают слезы: как это среди почти поголовного деревенского растления хранит Господь Церковь Свою Святую, да так хранит, что и врата адовы одолеть ее не могут!..
– Ты, стало быть, близок был к дедушке? – спросил я Степана.
– Как же! – ответил он. – Он у меня на руках и помер. А было это так: пришел я к нему, стучусь… Нет ответа. Постучался еще, постоял, прислушался: кто-то шевелится, стало быть, дома дедушка. Что же, думаю, он мне не отворяет? уж не случилось ли с ним чего? Бывало, идешь к нему, а он тебя на крыльце встречает, а нынче стучу, и нет от него привета. Постоял это я, постоял около его двери, да и отошел со скорбью: видно, прогневил чем-нибудь, думаю, дедушку. На другой или на третий день после того был я в церкви и там встретил дедушку Паню. Отошла обедня; пошли мы с ним к нему мимо погоста я и спрашиваю:
– Как же это ты меня, дедушка, вчерась не принял? А я ведь к тебе из переплета книги твои приносил.
– Эх, – вздохнул дедушка Паня и взглянул на погост, – если бы ты знал все. Степа, что в миру деется и что мир ждет, то моря б слез не хватило всего оплакать!
А мне и невдомек, к чему это он говорит. Смотрю на него, а глаза-то у него красные, красные, точно он всю ночь напролет проплакал… Кто ж его знает: может он про свое-то слезное море и говорил?
– Плохо мне, – говорит, – Степа, неможется что-то, ах как неможется!
Дошли до его келийки. Сдал я ему книжки его и между ними Патерик Печерскнн, – большая такая книга. В келпике, кроме нас с ним был еще и его племянник. Прилег старец, а меня от себя не отпускает.
– Посиди, побудь со мною. Степа! Ох, тяжко мне! Тяжко умирать грешнику, трудно!
– Дедушка, – говорю, – не причастить ли тебя, не пособороватьли?
– И то, – говорит, – добежи, деточка, до батюшки! .
Привел я батюшку; причастили и пособоровали дедушку. Как будто, полегче ему стало. Досидел я у него до ночи.
– Сведите, – говорит он нам с племянником, – сведите меня на двор!
Свели.
– Ах, – говорит, – как хороши на небе звездочки! Как горят-то! Свечки Божьи горят, службу Богу справляют! А в каком послушании-то!
Вернулись мы с ним в келью. Он не захотел ложиться. Посидел немного и говорит:
– Дайте мне еще разок взглянуть на звездочки! Свели опять. Когда вернулись, он спросил Серафимовой воды (Из источника преподобного Серафима Саровского). Выпил стакан и присел на лавку под образами. Видит племянник, что пободрел дедушка и спрашивает.
– А кому, дедушка, ты Патерик отказываешь?
– Степану, – ответил дедушка. Сказал, посмотрел пристально на иконы, перекрестился, опустил на грудь головку и кончился. Тронули его, а он уж мертвый.
– Кончился дедушка, – говорит племянник, – давай его класть под святые.
– Нет, – говорю, – надо людей скликать: кто ж нам поверит, что он помер, когда, вишь, сидит?
Сбегли к соседям. Прибежал народ; видит – сидит дедушка Паня, только головку на грудь склонил.
– Да он жив! – говорят.
Слышим, – плачет кто-то, шибко плачет. Смотрим, у ног дедушкиных бьется – плачет монашка, что келью ему построила, обливает ноги его горючими слезами.
– Прости, – плачет она, – что я на тебя соблазнилась: думала я, ведь, что ты здоров, как тебя соборовали (а она тут в тот час была), нешто такие-то здоровые, думала я, помирают? А ты, вон и мертвый-то сидишь как живой!
– Так-то вот и отошел в Царство Небесное праведник наш дедушка Паня, – закончил свой рассказ Степан; сам говорит, а сам плачет; слушает его Марья, и тоже слезы так и текут у нее ручьями по раскрасневшимся от душевного волнения ланитам.
– О чем, – спрашиваю, – Маша, плачет?
– Больно жить хорошо на свете, – отвечает, – да речи такие слушать!
А в Марьиной семье она с детьми сама – четверта да муж, да деверь со снохою – эти бездетны – живут друг с другом так, что, по выражению Степана, “и в Библии за редкость”. А отец “мужьев” в монастырь ушел и там теперь мантийным монахом и ктитором.
– Уж утешаюсь же я, на жизнь их глядя, – восторгается Степан. – истинно утешаюсь! Ни у кого я такого согласия не видал. Ты посуди сам, какая между ими любовь-то! – Пристанут к Марье ее детишки: “Мамка, исть (есть) дай!” – А ей некогда, потому что у них со снохой дела наперебой идут, кто скорее за себя и за другую сделает. Потолкутся, потолкутся ребятки около мамки, видят, что ей не до них, и бегут к тетке, а матери кричат:
– Ну коли так, так мы к хресной – к снохе, то есть, к материнской; а та уж тут как тут и всех, ровно мать родная, оделяет.
– И мужья-то ихние, – продолжал восторгаться Степа – такие же: младший без старшего никуда, ни ногой. Зато и живут же! Дом полная чаша, а народу круг них сколько кормится! Вот рабы-то Божий.
30 октября
Спиритизм и политика. – Что только творится!
Завтра в Оптиной постриги: постригают двух гостиников, нашего молитвенника, отца Вонифатия, к которому я обращался за помощью против порока курения, и “открывают мантию” (“Открыть мантию” значит постриженного тайно (обыкновенно во время болезни) монаха объявить постриженным пред лицом Церкви. Совершается это, как и постриг, во время Литургии) одному из фельдшеров оптинской больницы. Великое это торжество в обители.
Принесли почту, и с ней в “Божью реку” оптинскнх впечатлений влилась гнилая и смрадная струя дел и событий мира внешнего, по ту сторону ограды оптинской.
В № 12079 “Нового Времени”, в статье “Спиритизм и политика”, читаю такое сообщение:
“Спиритизм начинает мало-помалу проникать во все области жизни и, как то свидетельствует газета “Daily Chronicle”, стал проникать в сферу политики. Лихорадочное ожидание, которое сейчас переживает Англия, желая знать, примет ли палата лордов новый либеральный бюджет, или же отвергнет, побудило известного английского журналиста Стэда (опять этот служитель диавола!) устроить спиритический сеанс и вызвать дух Гладстона с тем, чтобы получить от него сведения о будущей судьбе бюджета. На этом сеансе присутствовали Стэд, ясновидящая дама, медиум и стенограф. Результаты, в общем, получились довольно слабые: вызванный дух Гладстона долго сетовал на то, что его почему-то вызвали “на узкую и меланхолическую арену политической и партийной жизни, которая ему ненавистна”, и, в конце концов, сказал, что было бы желательно, чтобы палата лордов бюджета не отвергала, но добавил, что даже если палата лордов и отвергнет бюджет, то все же не следует распускать парламента. Затем дух Гладстона заявил, что ограниченность умственного развития ясновидящей не дает ему возможности высказать все, что ему было бы желательно и, распрощавшись с политическими спиритами, скрылся в небытие, выразивши в последние минуты сеанса большую симпатию Ллойд-Джорджу (Английский министр финансов)“. Чего тут больше: мошеннического ли шарлатанства, или действительного общения с духами лжи и злобы поднебесной? Определить это трудно; ясно только одно, что, с какой стороны ни взгляни на этот вопрос, ничего другого в нем, кроме лжи, не усматривается; отец же лжи – сатана: с ним дети лжи и входят, стало быть, в непосредственное общение.
В субботу вечером, – так пишут в “Колоколе” (№ 1088), – во время всенощной, в Москве, в церкви Николы Явленного на Арбате, одна из молящихся плеснула какою-то едкою жидкостью в лицо священнику, совершавшему Богослужение. У священника пострадал левый глаз”.
Что только творится!
31 октября
Где ж возмездие? – Стенинский Павел и его сон. – Ночная тревога. – Под какими впечатлениями растут наши дети
Постриг будет, оказывается, завтра, в воскресенье, а не сегодня, как мне говорили. Француз отложил свой отъезд тоже до завтра.
Боже мой. Боже мой! что же это стало твориться на Руси?
“Сегодня, двадцать восьмого октября, – пишут в № 12080 “Нового Времени”, – в окружном суде слушается очень интересное дело “о похищении двух еврейских девушек крестьянской девушкой, Дарьей Шикуриной”. В кратких словах обстоятельства этого дела таковы. В еврейскую семью Зары Почталиц поступила горничная крестьянка Дарья Шикурина. Ей было всего шестнадцать лет. К этой русской девушке, очень религиозной и глубоко верующей, привязались всем сердцем малолетние дети Зары Почталиц, Бэлла – двенадцати лет и Дора – девяти лет. Дарья Шикурина читала им Евангелие, учила их молитвам, покупала на свой заработок религиозные книги, рассказывала им о страданиях первых христианских мучениц. Под влиянием силы ее веры уверовали во Христа и эти две еврейские девочки. Сначала сами родители ничего не замечали, даже тогда, когда мать нашла бумажку, на которой рукой Бэллы был написан православный псалом (Не тропарь ли или иная молитва? Что за “православный” псалом? Господа из “Нового Времени” в делах Православия далеко не все толк знают): родители не знали, что их дети уже веруют во Христа. Не знали они и того, что дети их тайно с Дарьей Шикуриной ездили в Кронштадт молиться. Когда стало слишком заметно влияние горничной на девочек, Дарье отказали. Через два месяца после этого девочки исчезли. Они прислали из Москвы матери письмо, что они “бывшие когда-то евреи”, веруют сейчас во Христа. Поехали они из дома матери в Кронштадт одни, где и разыскали Дарью. Их по прошествии четырех недель нашли агенты полиции па пароходе, ехавшем из Кронштадта.
Девочки на пароходе ехали в сопровождении Дарьи, выдававшей их за своих детей. Когда девочек спросили: “вы Почталиц?” – Они ответили: – “нет, мы не еврейки, мы веруем в Господа Бога Иисуса Христа”.
Девочки рассказали, что они уже крестились, крестил их в Москве какой-то священник в лиловой рясе. Когда девочек привезли в Петербург, они не хотели возвращаться домой к матери, но впоследствии они вернулись.
Дарья Шикурина теперь судится: к ней предъявлено обвинение по 1084 ст., карающей лишением прав и отдачей в арестантские роты на три-четыре года”.
Волосы становятся дыбом от такого известия. Мы, православные, в Православной России дожили, стало быть, теперь до того что исповедницу Христову уже влекут на суд, угрожающий ей суровым наказанием за ее апостольскую деятельность. Да что же это? Где же возмездие?..
Смотрю в окно: идет к заднему крыльцу утиной своей походкой с перевальцем стенинский старичок, Павел, отец нашей припадочной Груши. Я вышел к нему на кухню. Поцеловались.
– Что ты, Павел?
– Я к твоей милости. Есть у тебя времечко для беседы?
Я сел на табуретке, в кухне, сел и Павел.
– Ну, – говорю, – сказывай, с чем пришел!
– Да вот что, родной, – ответил Павел, – хочу я тебе сон свой рассказать. Недели две тому назад сон этот я свой видел. Уж больно страшен сон той-то!
А Павел наш, – ему уже под восемьдесят лет, – из таких Божьих старичков, что сны его бывают не бездуховного значения. Наши богомудрые его снами не пренебрегают.
– Вижу я, – продолжал Павел, – что я из хаты своей вышел на задворок, на поле, где я пашу. Гляжу, а там, откуда ни возьмись, гробница, большая такая, чугунная: а в гробнице монах. Испугался я и ну бежать оттудова, а монах кричит мне вдогонку:
– Куда бежишь? От меня все равно никуда не уйдешь. Ты постой-ка лучше!
Я остановился. Страх мой прошел. А монах и говорит мне:
– Ступай, скажи всем людям, чтобы переменили жизнь, чтобы не жили, как теперь живут; а то идет на них то, чего от века никогда не было.
Мне так от этих слов страшно стало, что я проснулся. Ходил к старцу, сказал ему свой сон, а он мне и говорит:
– Так, Павел, и будет.
– Как же, – говорю я ему, – быть мне теперь, батюшка, ведь, мне сон-то приказано людям сказывать, чтобы они жизнь свою переменили? Кто же меня послушает?
– А ты, – ответил мне старец, – говори его только хорошим людям, а остальным не к чему: те если кто и из мертвых воскрес бы и стал бы звать к покаянию, и тому не поверят.
– Правильно! – вздохнул я, прослушав рассказ Павла.
– А ты, – спросил он меня, – что на это скажешь?..
– Да что мне после старца и говорить-то? – сказал я Павлу, – куда старец, туда и я; каково его слово, таково и мое. Молиться надо Царице Небесной: Она, всех грешных Споручница.
С этим и ушел от меня Павел. А я подумал: только успел я записать о нечестивом судилище над Дарьей – исповедницей и спросить: где же возмездие? А ответ не замедлил устами восьмидесятилетнего простеца-старца.
И, ведь, точно кто нарочно подослал его ко мне с ответом!.. Дивное дело!
Сегодняшний день закончился тревогой. Часу в одиннадцатом вечера, в час, для Любочки совсем необычный, вбегает ко мне наша девочка и голосом, прерывающимся от волнения и испуга восклицает:
– Дядя милый! Мать Марфа сказала, что у нас в саду прячется какой-то оборванец. Она его сейчас видела.
Мать Марфа – полуслепая и глухая старушка, в числе других приютившаяся в одном из уголков нашей людской.
В одну минуту накинул я на себя пальто, схватил револьвер, фонарь и бросился в сад на поиски спрятавшегося оборванца. Схватил в руки палку и француз и тоже помчался мне на подмогу. Не отстала от нас и верная моя подруга и мигом очутилась рядом со мною в саду. Коля свистнул собакам, но собак дома не оказалось, кроме маленького полушенка Рябки, готовой вилять хвостом перед кем угодно. Ночь темная, что называется, ни зги не видно. Холодно, ветрено; сосны шумят своими вершинами… Жутко! а тут еще и разбойник где-то прячется… Искали, искали, весь сад обыскали и никого не нашли. Пошли пытать мать Марфу.
– Ты когда его видела?
– Кого?
– Оборванца.
– Какого?
– Да что в саду спрятался.
– Это тот, что ли, про которого я Марине говорила?
А Марина, наша слуга премудрая, тут же стоит и трясется от страху.
– Тебе, – спрашиваю, – мать Марфа про оборванца говорила?
– Мне.
– Ну, да, – кричу я матери Марфе под ухо, – тот, про которого ты Марине говорила.
– А про того, – ответила старушка, – так тот, я видела, мимо нашего сада проходил. Это вчерась днем было.
Вот вам и – здравствуйте! Это значит, что мы сегодня ночью вчерашнего дня искали. Посмеялись над Мариной и над собой и вернулись домой успокаивать Любочку. Застали ее в кухне. Ляля замешивает к завтрему тесто на пироги, а Любочка ее уговаривает:
– Вот ты пироги месишь, а кому их завтра есть будет? ведь мы все лежать будем!
“Лежать”, – на Любочкином наречии значит убитыми быть. На этот раз тревога была ложная, слава Богу! Но под какими впечатлениями растут в наши дни, даже в Оптиной, наши несчастные дети!.. И вспомнилось мне тут, как в недавние дни, в Петербурге рассматривал при мне один четырехлетний мальчик картинки субботнего приложения к “Новому Времени”.
– Кто это? – спросил он меня, указывая на портрет только что назначенного министром внутренних дел Булыгина.
– Это, – говорю, – царский слуга, министр Булыгин.
– Его убили? – спросил ребенок.
Уж если “министр”, так значит – “убили”, вот что сложилось в головке современного ребенка, как убеждение, вынесенное из опыта его детских впечатлений. Как измерить всю глубину бездны, на краю которой с ранних дней трепещет и замирает в наше жестокое время впечатлительное детское сердце?!..
1 ноября. Воскресенье
Постриги. – Зима стала
Сегодня за поздней Литургией постригли в Ангельский образ четырех рясофорных послушников. Народу на этом торжестве было много. Было торжественно и умилительно. На француза постриг произвел большое впечатление. Сегодня в четыре часа дня он уезжает на новое место жительства: оптинский период его жизни кончился, наступает новый. Помоги ему, Господи!
Зима стала: два градуса мороза и снегу на поларшина. Прощай, золотая осень!..
6 ноября
Беспокойно мое сердце. – Вести из деревни. – Кончина монахини. – Два мира
Второй день беспокойно мое сердце, а причины беспокойства не вижу: мир тот же, мы те же, а между тем что-то тревожное подступило к сердцу и давит его, и жмет. Духа уныния недаждь ми. Господи и Владыко живота моего!.. По случаю снежных заносов сегодня не пришла почта. Один день проведен без известий из внешнего мира, и то слава Богу! День проведем и не будем в событиях внешних расшифровывать тайну духовного их значения, не будем догадываться о том, что скрывают в себе эти события, чередующиеся теперь с такой головокружительной, безумной быстротой…
Отец Варсонофий не принимал сегодня и передал нам через келейника заочное благословение. Жена с Любочкой пошли на благословение к старцу, отцу Иосифу, а я остался их ждать у скитских святых ворот. Подполз ко мне на своих культяпках безногий Зиновий – “Зиновей” по-простонародному (это в скиту, как бы, состоящий на вакансии второго привратника, калека с отнятыми, отмороженными ступнями).
– Каково, – спрашиваю, – съездил Зиновьюшка?
А он отпрашивался на три дня в деревню к дочери и только что оттуда вернулся.
– Лучше, – отвечает, – и не спрашивайте: три дня в деревне прожил – три дня в аду прокипел. Судите сами: старшина пьян, староста пьян и все село пьяно. Такая, прости Господи, идет разволока, что надо быть хуже, да некуда.
– С чего же, – спрашиваю, – они пьянствуют? с каких радостей?
– Не с радости, батюшка, а с отчаянности, оттого, что от работы отбился народ: в господа все выйти захотели, никого не понимают (Не признают никакой власти) и ничего знать не хотят. Одно слово: пропадает Рассея.
А я-то, было, порадовался, что день пройдет без впечатлений от внешнего мира!..
Показывал мне сегодня один из наших старцев письмо, полученное им от духовной дочери, монахини. Пишет:
“Уведомляем вас, родной наш батюшка, что ваша духовная дочь, новопостриженная монахиня Таисия Т. двадцать девятого октября мирно и тихо скончалась в сороковой день по пострижении. Причастилась около девяти часов утра, а полчаса одиннадцатого кончилась. Это за молитвы старцев Господь ее удостоил такой праведной кончины. Накануне смерти ее приобщал наш батюшка. Она попросила его на завтрашний день, то есть, на сороковой день по пострижении еще ее причастить, а келейным сказала:
– Я не нынче умру, а завтра. Я просила Матерь Божию умереть мне на сороковой день по пострижении.
Двадцать девятого октября у нас ежегодно бывает торжественный крестный ход по городу в память избавления города через Боголюбскую икону от моровой язвы. Боголюбская икона явилась тогда на воротах одного жителя нашего города, и трикратно в сонном видении Матерь Божия приказывала ему служить молебны этой иконе, обещая избавить город от смертоносной язвы. В этом же месяце приносят к нам из Вышенской пустыни и чудотворную Казанскую икону. И вот, когда крестный ход с этими иконами приближался уже к нашей обители и начался звон, вот тут-то мирно и тихо и скончалась наша мать Таисия. Она просит ваших старческих молитв за нее, чтобы ей пройти воздушный трудный путь безбедно за вашими отеческими молитвами”…
Вот они два мира рядом: наш христианский с матерью Таисиею, уходящей в лучший мир в назначенный день, под праздничный трезвон колоколов крестного хода, и тот мир, где “все пьяны”, и где “все захотели в господа выйти”.
Что между ними общего?
21 ноября
Введение во храм Прссвятыя Богородицы. “Сей пшеницу, отче Тимоне!”
Годовой праздник Оптиной пустыни. Ходили поздравлять старцев с праздником. Отец Варсонофий сообщил жене следующее:
– Приходит сегодня ко мне молоденькая монашенка и говорит: “Узнаете меня, батюшка?”
– Где, – говорю, – матушка, всех упомнить? Нет, не узнаю.
– Вы меня, – говорит, – видели в 1905 году (О. Варсонофий возвращался тогда в Оптину из Манчжурской действующей армии, куда он был командирован в качестве священнослужителя в одну из частей), в Москве, на трамвае. Я тогда еще была легкомысленной девицей, и вы обратились ко мне с вопросом: что я читаю? А я в это время держала в руках книгу и читала. Я ответила: Горького. – Вы тогда схватились за голову, точно я уже и нивесть что натворила. На меня ваш жест произвел сильное впечатление, и я спросила: что ж мне читать? – И тогда вы посоветовали мне читать священника Хитрова, а я и его, и его мать знала, но о том, что он что-либо писал, и не подозревала. Когда вы мне дали этот совет, я вам возразила такими словами: вы еще, чего доброго, скажете мне, чтобы я и в монастырь шла. – “Да, – ответили вы мне, – идите в монастырь!” – Я на эти слова только улыбнулась, – до того они мне показались ни с чем несообразны. Я спросила: кто вы, и как ваше имя? Вы ответили: “мое имя осталось в монастырской ограде”. – Помните ли вы теперь эту встречу?
– Теперь, – говорю, – припоминаю. Как же, – спрашиваю, – ты в монастырь-то попала?
– Очень просто. Когда мы с вами простились, я почувствовала, что эта встреча неспроста, глубоко над ее смыслом задумалась. Потом я купила все книги священника Хитрова, стала читать и другие книги, а затем дала большой вклад в X… в монастырь и теперь я там рясофорной послушницей.
– Как же, – спрашиваю, – ты меня нашла?
– И это было просто. Я про свою встречу с вами рассказала все своему монастырскому священнику, описала вашу наружность, а он мне сказал: “это, должно быть, оптинский отеи Варсонофий”. – Вот я и приехала сюда узнать, – вы ли это были, или другой кто? Оказывается вы. Вот радость-то!
И припомнились мне тут слова преподобного Серафима, сказанные им иеромонаху Надеевской пустыни, Тимону:
– Сей, отче Тимоне, пшеницу слова Божия, сей ее и на камени, и на песце, и при дорозе, сей ее и на тучной земле: все где-нибудь и прозябнет семя-то во славу Божию.
Вот и прозябает.
22 ноября
“Введение ломает ледение”
Со вчерашнего дня, с праздника Введения, температура резко изменилась: стало тепло (плюс три градуса Реомюра) и полил дождь. Дождь льет и сегодня. В г. Верном цветут розы и сирень, а в Тифлисе дозревают вторые яблоки и сливы. В Крыму холода и снега.
Что-то нездоровится. Как бы не заболеть?!..
4 декабря
Новопреставленный замерзший Иоанн
Пришлось-таки прихворнуть. Дневник мой заждался меня. Сегодня опять принялся за него, но ненадолго: начинаем готовиться к седьмому, ко дню святителя Амвросия Медиоланского – дню Ангела великого Оптинекого старца Амвросия – не до дневника будет с оптинскими службами.
Читал я сегодня у жертвенника за проскомидией свой помянник. Слышу, иеродиакон, отец Никон (Ныне покойным) все время читавший свой помянник полушепотом, вдруг возвысил голос и громко сказал:
– О памяти и оставлении грехов новопреставленного раба Божия Иоанна.
И добавил:
– Замерзшего. Я спросил:
– Кто это?
– А помните, – ответил отец Никон, – к нам частенько похаживал Богу молиться молодой такой паренек, Иваном звать, глупенький мальчик, годов шестнадцати, вроде, как бы вам сказать, дурачка, что ли. Его покойный отец у нас долго в рабочих жил.
– Это не тот ли, – спросил я, – что в монастырь все хотел поступить?
– Вот, вот, – обрадовался отец Никон, – он самый и есть!
Помянул и я новопреставленного Иоанна.
– Как же он, – спрашиваю, – замерз?
– Да в Оптину шел, сбился, видно, с пути, да так неподалечку от дороги и замерз, сердяга.
Живо вспомнил я тут этого мальчика с большими, точно какою-то радостью удивленными глазами. Я часто видал его в оптинских храмах, где он чувствовал себя совсем как дома, для незнавших его даже и соблазнительно по-домашнему: стоит, стоит, бываю, кладет усердные земные поклоны, а там, глядишь, заложит руки за спину, подымет глаза и голову кверху, а то и задом к алтарю станет, и пойдет себе расхаживать по храму, как у себя в хате. Последний раз я его встретил на крыльце кельи отца Варсонофия. Это было в конце нынешнего лета. Он сидел на скамеечке крыльца, а около него с доброй и снисходительной улыбкой стоял отец Никита (Теперь (1916) монах Макарий), старший келейник отца Варсонофия, и о чем-то с ним разговаривал. В это время отец Варсонофий был на женской половине своей кельи, и я присел подождать его возвращения на скамеечке, напротив Ивана.
– Вот, Иван наш тоже ждет батюшку, – сказал отец Никита.
– А зачем тебе батюшка? – спросил я Ивана.
– Да, хочу у него чайку, сахарку попросить на дорожку. Пора домой, а то и так я уж тут загостился.
И он улыбнулся во весь рот широкой улыбкой. Он и говорил, как улыбался, широко растягивая слова, точно шагал ими, как огромными не по ноге сапогами… Я дал ему двугривенный.
– Ну, вот, спаси. Господи!.. Меня мать, небось, заждалась теперь дома, – протянул он неожиданно.
– А на что ты дома нужен? – спросил его отец Никита.
– Я-то? А кому ж дома лампадки-то оправлять? Без меня некому: вишь, народ-то какой стал! А у меня лампадки, как ударят в монастыре в колокол, так и зажигаются… Я, вот, – сказал он, немного помолчав, – все в монастырь прошусь, а архимандрит смеется да говорит: подожди, Иван, поживи пока так, поработай, а там и к себе возьмем, будешь жить у нас. Только ты, говорит, приходи с матерью, а тону – как она тебя одного не пустит? – А я говорю: пустит!.. Он – ничего, архимандрит хороший, меня любит.
И он опять улыбнулся.
– Вот, раб-то Божий! – заметил отец Никита.
– Не обижают тебя деревенские ребятишки? – спросил я Ивана.
– Не-е! зачем обижать, когда я сам никого не обижаю. Ну, когда там и толкнут или прибьют маленько, так это что за важность? Ведь, это не с сердцов, а в шутку. За что меня обижать им? Нет, не обижают… Мне бы, вот, только у Воптину, к старцам!
Вот он теперь и у старцев, там, в небесной, торжествующей Оптиной… Счастливей!
7 декабря
Странник Алексей. История его жизни
С благословения старца, причащались вчера, на Николнн день. Из нашего дома было четверо причастников. Слава Тебе, Господи!
Третий день у нас живет семидесятилетний странник Алексей, родом из медвежьего угла Меленковского уезда, Владимирской губернии.
Кого, кого только за год не перебывает в нашем дорогом скиточке!..
Этот странник Алексей знаком нам с первой зимы нашей жизни в Оптиной. Было это в конце Рождественского поста 1907 года. Шли мы с женой, уже близко к сумеркам, заветной дорожкой из скита к монастырю, направляясь к дому. Мороз был сильный. Слышу, поскрипывают за нами чьи-то скорые, решительные шаги. Не доходя до монастыря шагов пятидесяти, я обернулся и увидел уже рядом со мною нагнавшего нас рослого, плечистого богатыря – мужика, на вид лет пятидесяти. Одет он был в куртку выше колен, шея повязана платком, на ногах суконные онучи и лапти.
– Барин, – окликнул он меня, – почитай-ка мне, что мне за грамотку дал старец Иосиф.
Я прочел. С этого и завязалось наше знакомство.
Понравился нам Алексей какай-то особой своей величавой простотой и необычайным спокойствием, изливавшимся из всей его богатырской фигуры, от всего древне-русского, былинного его обличья: недаром и родная деревня-то его неподалеку, оказалось потом, была от “того славнаго города Мурома, от того ли села Карачарова, где славный богатырь Илья Муромец сиднем сидел тридцать лет и три года”. Древне-богатырское нечто было и в Алексее-страннике, и оно потянуло к себе сердце наше великим к Алексею тяготением. И речь-то у Алексея была стариннорусская, беспримесно-крестьянская, своя простая, здраво-мысленная.
Зазвали мы Алексея к себе в дом, поприветили, пожил он у нас денька три, а там и снарядили его опять в путь-дорожку, по самое смерть, как поведал, он нам, обетную. С тех пор раз в год, в разное время, стал появляться странник Алексей в нашем доме. Поживет день-другой у нас в усадьбе или на монастырской “странной”, поговееет, причастится, и опять в путь на неопределенные сроки.
Не из числа обыкновенных история его жизни.
От отца Алексей остался ребенком восемнадцати месяцев. Вскормила и воспитала его с пятью братьями мать-вдова, и когда старшему из братьев исполнились годы идти в солдаты, Алексей тогда вызвался идти за него отбывать солдатчину. Стал он просить на это материнского благословения, но благословения не получил.
– Ступай, – сказала мать, – когда выйдет твой срок, наравне со всеми, по жребию: жребий – святое дело.
Так и не пустила. В солдаты Алексей не попал – вынул дальний жребий, и стал ходить по заработкам на сторону. Работал он и в Ярославле, и в Рыбинске, все более в крючниках: кули на баржи и с барж таскал на богатырских своих плечах.
– По триста кулей вдень, – сказывал он, – за день таскивал.
А в куле пять пудов: полторы, стало быть, тысячи пудов вынашивала задень на себе могучая спина Алексея, зарабатывая своему хозяину до пятнадцати рублей в сутки. Живал Алексей и на юге – в Ростове-на-Дону, в Таганроге, – живал и на севере, на ответственных должностях, а где и на черной работе; всяких видов повидала на веку своем Алексеева молодецкая бурная юность, даже азиатской лютой холеры до трех раз отведала. Так жил Алексей той былью, которая не в укор добру-молодцу, до двадцати четырех лет, когда мать решила остепенить беспутную головушку и выбрала Алексею невесту.
День свадьбы круто повернул жизнь Алексея, так круто, что не только от прежней его жизни, но и от него самого ничего старого не осталось. Родной по отцу дядя Алексея был известный всему околотку колдун, которого вся округа боялась пуще самого беса. Алексей, как человек бывалый, его не побоялся и на свадьбу не позвал.
Это был вызов, как бы, самому нечистому, за который пришлось поплатиться бедняге так, что, не знай мы подобных историй из жития святых, и поверить было бы трудно такой расплате..
Когда молодые с поезжанами вернулись из церкви в дом жениха, и свадебный пир шел горой, пришел и дядя к племяннику на свадьбу; пришел незваный, непрошеный, страшный, поздравил молодых, зло усмехнулся себе в бороду и потребовал водки.
– У меня на ту пору, – рассказывал Алексеи, – была в руках начатая полубутылка, я ему ее и отдал. Он выпил, потребовал еще, я отказал. Дядя глянул на меня, сверкнул глазами, ничего не сказал и молча вышел из горницы. И не успел он перешагнуть порога, как из сенец, вижу, лезет медведь и прямо на меня. Я только успел крикнуть: “гляньте – медведь!” – уже больше ничего не помнил… Год семь месяцев после того пролежал я без памяти. Приходил я в себя только на короткое время и тогда впадал в такое исступление и бешенство, что со мной десяток дюжих мужиков едва могли справиться. Я рвал веревки, которыми меня вязали, как нитки, пока не удавалось меня опутать ими как паук муху паутиной: уж больно силен я бывал во время своих припадков… Святых Тайн сообщаться я не мог, святыни никакой не переносил и всюду, и во всем видел страшного колдуна-дядю.
– Вон он, – кричал я, – вон он стоит за окошком. Дайте мне топор, я срублю его!
– Нет его тут, – говорят мне.
– Как нет? – кричу, – вон он! Вы-то его не видите, а я хорошо вижу. Подайте топор, я зарублю его!
И я рвался и метался, беснуясь и крича не своим голосом. Меня вязали, и я вновь впадал в беспамятство.
Так продолжалось со мною полтора года.
Когда на второй год пошел седьмой месяц, я опомнился, пришел в себя, но уже вышла тогда из меня вся сила, и я как малый ребенок, остался прикованным к своему ложу:, меня из рук кормили, поворачивали с боку на бок; ни рукой, ни ногой я двигать не мог, пошевельнуться не был в силах. Мать умерла с горя, а жена ушла. Взялась тогда за мною ходить Христа ради одна наша деревенская вдова, Марья: она меня и поила, и кормила, она же меня и обмывала. Прежних припадков беснования и злобы со мною не было, но святости я переносить по-прежнему не мог никакой, не мог причащаться и Святых Христовых Тайн.
– Так продолжалось ровно четырнадцать лет.
Когда исполнилось муке моей четырнадцать годов, пришел по лету к нам как-то раз старичок, пришел ласковый такой да и говорит:
– Ну, – говорит – полно тебе хворать, будет лежать, пора и вставать! Я тебе, – говорит, – напишу письмо к одному человеку, а ты письмо это отправь на почту. Придет тебе на письмо ответ, ты все, что прописано будет в том ответе, сделай и будешь здрав.
Написал тут при нас с Марьей старичок тот письмо, отдал его нам, попрощался и вышел.
– Поди, – говорю я Марье, – вороти старика! Как же это мы у него ничего, – говорю, – не поспрошали: ни кто он, ни откудова? Догони, верни!
А старичок, как сквозь землю, провалился: так и не нашла его Марья – потуда только его и видели.
Письмо мы послали, а куда и сами не знали. Только день через десять, или поболе, получили мы на него ответ, и пришел он от отца Иоанна Кронштадтского, а в письме том, – прочли нам, – писано было так: “отправляйся к Оранской Божией Матери, отслужи Ей два простых молебна, а третий с водосвятием и будешь здрав”.
Прочитали мне письмо… Идти! Куда идти? Лежал четырнадцать годов и теперь лежу, как колода: ни рукой, ни ногой шевельнуть не могу.
Прошло три дня. Опять заявляется к нам какой-то старичок. Обличье у него, как будто, другое, что у первого, а сердцем я чую, что он все тот же; чую – тот же, а допросить почему-то не смею.
– Что ж, – спрашивает, – есть тебе письмо?
– Получил, – говорю.
– Что ж там прописано?
– Велят, – говорю, – идти к Оранской Царице Небесной, да как я пойду, коль я недвижим?
– Ну, – говорит старичок Марье, – свези его в село да причасти. Причастит его священник, благословит идти – он и пойдет тогда себе с Богом.
Сказал старичок эти слова и вышел. Марья за ним, а его опять след простыл. Видно, не из здешних старичок тот был, не из земных, а из небесных, что не могла его в оба раза найти Марья.
И вот свезли меня насело, в дом к священнику; на дому у него меня причастили. Причастился я спокойно, как будто и не было во мне нечистой силы; только по холоду внутри себя чувствовал, что все еще сидит она во мне, не вышла, а только притаивается; но припадков, слава Богу, со мной никаких не было… Причастил меня батюшка и оставил у себя ночевать. Когда в доме все заснули, захотелось мне выйти для своей надобности. И думаю я: что мне теперь делать? как бы, никого не беспокоя, ухитриться мне сделать это самому? И, вдруг, почувствовал я в себе силу встать; встал, прислонился к стенке, да по стенке к двери, в сенцы; с сенец на крыльцо, а уж как с крыльца сошел я, того и не помнил от радости. Пал я тут на коленки и залился слезами благодарности к Богу. Сколько времени я простоял на коленках, молясь и благодаря Бога, тоже не помню. Помню только, что пришел, взыскавшись меня, на двор священник и поднял меня с колен. С его помощью, я легко добрался до постели. И что тут только было – радость-то какая! и сказать того невозможно, – можно только плакать на радостях; до сих пор плачу, как вспомню.
Стали утром мы у батюшки чай пить, я и говорю ему:
– Благослови мне идти к Оранской Царице Небесной!
– Что ж, – говорит, – коли уж раз пошел, так и иди с Богом: Бог благословит!
– Ну, – говорю, – коли будет надо мною милость Божия, так вы уж меня до году не ждите: пойду ходить по святым местам.
И вот, пошел я от батюшки, и все дивились на меня, как это мог я пойти, пятнадцать с лишком годов, недвижим пролежавши. И в первый день я за весь день прошел ровно две версты до ближней деревни. На другой день – больше, а чем дальше, тем больше: а там и вовсе стали развязываться мои ноги. Так дошел я до Кутузова монастыря (Нижегородской губернии. Ардатовского уезда). В Кутузовом мне сказали: “ждем к себе Оранскую Царицу Небесную”.
– Где, – спрашиваю, – Она теперь?
– В селе Теплове, – говорят. А Теплово-село от Кутузова монастыря тридцать пять верст. Поднялся я раным-раненько, до свету, да и пошел к Ней, к Матушке, во весь ход, как только раньше совсем здоровый хаживал; и отмахал я эти тридцать пять верст так, что в Теплово угодил к запричастному. А Она, Матушка, Царица Небесная, стоит в Тепловском храме Своею чудотворною иконою и точно меня, окаянного, дожидается… Кончилась обедня, я и заказал служить три молебна – два простых и один водосвятный. И вот, когда за водосвятным молебном стали погружать крест, тут-то и схватила меня нечистая сила и брякнула меня оземь без памяти, но не могла устоять перед Владычицей: опустилась в моей утробе книзу и из пальцев ног вышла вон. С тех пор на ножных пальцах у меня нет ногтей – все пооторваны бесами, вышедшими из меня чудом Оранской Царицы Небесной. Меня долго отливали водой, святую воду в рот лили и привели, наконец, в чувство. И когда я пришел в себя, то сразу почувствовал, что не стало внутри меня того страшного холоду, от которого я так страдал прежде, и стал я с той поры всем телом своим здрав как вчера родился; только вот, руки мои трясутся – нипочем работать не в силах, не только работать, а и ложки держать не могут. И возблагодарил я тут от всей души Матерь Божию за чудесное свое исцеление и из Теплова прямиком пошел в Дивеев.(Серафимо-Дивеевский женский монастырь. – там же).
Тогда в Дивееве еще жива была Наташа блаженная. К ней я и пошел, порешил так жить, как она мне укажет. Когда я пришел к ней, блаженная лежала в сенцах своей кельи. Приняла она меня ласково, всю жизнь мою мне рассказала, когда и где какой я грех сотворил даже, что я когда думал и то мне сказала; а потом и говорит:
– Ну, – говорит, – иди теперь по святым местам. Нападется тебе один человек: он и наставит тебя, как тебе жить, а мне это не открыто.
С тем и отпустила.
И пошел я из Дивеева по святым местам: из монастыря в монастырь, из города в город, от одного Божьего угодника к другому, пока не добрался до Одессы. Верст по семьдесят выхаживал я за летний долгий день: так легок я стал на ногу – откуда только силы брались.
Из Одессы я пошел берегом Черного моря, и шел я так почти до самого Новороссийска. До Новороссийска мало не доходя, приостановился я в одном мужском монастырьке. Маленький был такой монастыректотда бедный, и братии в нем было человек с двадцать. Задумал я в монастырьке том причаститься Святых Тайн и пошел к духовнику на исповедь. Духовник попался старенький, звать Иосифом. Я и говорю ему:
– Поисповедуй меня, батюшка: завтра хочу причаститься.
А он мне:
– Нет, – говорит, – друг, неладно так-то: ты поговей-ка у нас денька три, походи ко всем службам, а там приходи исповедоваться: будешь. Бог даст, достоин тогда и причастишься.
“Вот он, – подумал я, – тот человек-то, которого мне предрекла Наташа блаженная”.
Походил я три дня к службам; пришел на исповедь к отцу Иосифу, взял меня старец на дух да как почал меня разбирать по косточкам, так и выложил меня перед собою со всеми моими потрохами да грехами, как на ладони, – всего разобрал и разобравши дал мне такую заповедь:
– Ходи отныне по самую смерть твою, где бы тебе ни привел ее Господь, ходи по святым местам. Ни о чем не пекись, ни о чем не заботься. Терпи зной, терпи стужу, голод, жажду, непогоду – все ‘терпи ради Христа, и Он не оставит тебя, все подаст тебе через человека. Лишнего только ни от кого не бери, хоть бы и давали. Так на ходу и живи до самой смерти, так и спасешься.
Принял я заповедь эту, причастился, получил благословение старца и отправился в путь обратный.
Ровно через год, день в день как вышел я из дому, я и домой вернулся. Дома меня и в живых уж не чаяли видеть. И рады ж мне были дома, особливо, Марья!
Ну, вот, пришел я домой. Телом я совсем оздравел. Дом у меня хороший, земли много, даже лесу недельного без малого с десятину осталось: жить тут при всем хозяйстве да поживать, добра наживать! И затеял я заповедь старца своего нарушить: чего, подумал я, мне зря шататься, когда в доме у меня всего полная чаша? И остался я дома хозяйствовать. Но не прошло и году, как вновь посетил меня Господь: отнялись у меня руки и ноги, и опять я по-прежнему свалился недвижим, прикованный к постели. Ну, думаю, это мне за нарушение старцевой заповеди! Помоги мне только. Господи, встать с одра своего, – пойду тогда к старцу просить прошения, да так уж, видно, до смерти и буду странствовать, пока Господь упокоит мои косточки. Порешил я так-то в уме своем и стал выздоравливать, а там, немного погодя, и вовсе оздравнл. Отдал я дом свой и все свое хозяйство Марье, простился с нею и с братьями и пошел опять к Черному морю, к старцу своему, Иосифу. Застал я его чуть живым и едва успел ему покаяться, как он, Царство ему Небесное, и помер. И вот, тридцать уже лет с той поры прошло, а я все хожу и хожу, дожидаясь, когда благословит Господь освободить мою душеньку за святые молитвы старца моего Иосифа.
Такова история странника Алексея из сельца Сала-Большая, что на реке Оке, в двенадцати верстах от села Карачарова, где во дни Владимира-князя, Красна Солнышка, тридцать лет и три года сиднем сидел святорусский богатырь Илья Муромец, свет Иванович.
8 декабря
Исцеление бесноватой в Сарове. – Не хочу быть “афинянином”
Наш странник, Алексей, сказывал, что на Покров, в нынешнем году, он был в Сарове, и при нем, и при других многочисленных свидетелях, из одной бесноватой, которую он помогал подводить к источнику преподобного Серафима, вышло сто семь бесов в образе мелких лягушек. Лягушка выскакивала из рта бесноватой и тут же пропадала из виду.
– Ты один это видел?
– Нет – все, – ответил он, – видели.
Диковинно это для нашего брата, интеллигента, обремененного патентами на образованность: бесы, бесноватые, лягушки, выскакивающие из рта и тут же пропадающие из виду!.. Верить всему этому это значит отказаться от патентов и привилегий, связанных со званием образованного или, как теперь принято называть, культурного человека; не верить – отречься от Христовой веры, от всей силы ее, воплощенной в житиях святых ее подвижников, где немало примеров из жизни духа таких, которых тоже не могут вместить в своем убогом интеллекте современные “афиняне”.
Не хочу быть “афинянином”, хочу быть с “буи-ми”, хочу быть с теми, кому открыты тайны царствия Божия, а не с теми, к кому обращены только притчи!..
Ночью шел сильный дождь. Температура, все дни колебавшаяся между плюс один градус Реомюра и минус два, сегодня повысилась до плюс четырех градусов. Алексей, собиравшийся уже уходить, отложил уход свой до завтра.
Сейчас (девять часов вечера) стало немножко подмораживать.
9 декабря
Алексей – Божий человек. – Странная история. – Циклон в Москве и юмор Алексея
Сейчас (десять часов сорок пять минут утра) ушел от нас в свой обратный путь-дорогу странник Алексей. Всем нам, от мала до велика, вошел в душу этот раб Божий; даже со слезами кое-кто из наших проводил его за ворота. Что хорошо в нем, так это простота его обхождения с людьми, простота сердца, отсутствие того, что так мне не по духу во многих, ему подобных – это плохо скрываемое стремление выдать себя за кого-то великого, прозорливого, свыше одаренного, облагодатствованного и уж, конечно, святого. Народ зовет таких “пустосвятами”. Вот этого-то пустосвятства и не было и тени в этом Божием человеке – недаром и имя-то ему Алексей, что носил Алексий, человек Божий.
Перед прощанием и сборами вышел Алексей к нам в столовую, присел и говорит мне:
– Рубахи у меня на смерть нет. Есть одна чистая, да негожа – красна.
Жена принесла мою белую ночную.
– Вот, эта гожа!
Взял, спрятал, перекрестился на иконы, поклонился нам в ноги, расцеловался со всеми, взял в руки палку, вскинул за плечи котомку…
– Прощайте!
И заскрипел своими лапотками по подмерзшему за ночь снегу. Ангела в путь тебе, Алексеюшка!
Сказывал странник Алексей:
– Переходил я нынешним летом из Новгородской губернии в Тверскую. Уже в Тверской губернии зашел я в одну деревню, закусил, попил чайку, отдохнул маленько и собрался идти дальше, по направлению к Кашину. Спрашиваю у хозяев, где останавливался:
– Далече отселева до следующей деревни?
– Да, – говорят, – ни то наберется десять верст, ни то нет.
– А какова, – спрашиваю, – туда будет дорога?
– Две, – говорят, – версты полем, да лесом версте восемь.
“Ну, – думаю, – пути мне этого часа на полтора, не более”…
Вышел я из деревни, часов около двух после полден и пошел себе полегоньку дальше. Прошел указанные мне две версты полем. Начался лес. По солнцу гляжу, шел я никак не больше получасу, и час, стало быть был третий в половине. День был ясный, солнечный, и солнце еще высоко стояло на небе. Под самым лесом, вижу, идут впереди меня два человека. Не стал я их нагонять, – надобности мне не было, – иду себе потихоньку сзади: не люблю я в пути компании. Прошел я версту лесом. Вдруг темнеть стало, как будто к ночи. Что, думаю, это за притча такая? Прибавил ходу, обогнал тех двоих; прошел еще с версту, – и стало вовсе темно: ночь настала. Дорога пошла низом по сухому болоту, а тьма – хоть глаз выколи. По моему ж расчету, не больше на дворе было, как час четвертый на исходу, и до вечера, стало быть, часов пять было в запасе. И такая темная тут ночь настала, что и поздней осени и той впору. Чувствую, – сбиваюсь я с дороги: пни какие-то стали попадаться под ноги, кочки, и место сыреть стало – того и гляди, угодишь в болото, и поминай как звали! Жутко мне стало. Хоть бы, думаю, на жилье какое напасть!.. И взмолился я тут Николаю Угоднику: Никола милостивый, спаси! помрешь тут без покаяния, и костей твоих в этакой-то трущобе не разыщут: спаси, батюшка!.. Глядь, а в сторонке, неподачечку, как будто на пригорочке блеснул и загорелся огонек. Я – на него; вижу: стоит махонькая избушечка, а из окошка свет светится. Подошел я к оконцу, заглянул в избушку: хатка такая маленькая, образа в углу; перед иконами лампада теплится, и стоит старичок старенький. Богу молится. Постучался я в дверцу, помолитвился. Вышел старичок; в руках свечечка.
– Кто ты, – спрашивает, – раб Божий? Я назвался.
– Пусти, – говорю, – переночевать, дедушка! А тут, гляжу, подошли те двое, что я обогнал по дороге, и тоже к старичку на ночлег просятся.
– Ну, – говорит старичок, – двоих, так и быть, пущу (он указал на меня и на одного из них), а ты, братец, – сказал он другому, – и сам к себе никого ночевать не пускал, за то и я тебя к себе в избу не пущу: ночуй наружи под оконцем. Только, – говорит он нам, – братцы, ни я спать не буду, ни вам не велю: молитесь со мною все вместе до рассвета.
Вошли мы двое к старцу в избушку, а тот третий, остался наружи. И всю мы ночь со старим ком этим чудным промолились, и не было в нас устатку: век бы так весь молиться!.. Стало светать; загорелись солнышком макушки деревьев. Простился я со старичком и пошел отыскивать дорогу, а поспросить его, кто он и откуда, и давно ли здесь спасается, побоялся. Не прошел я и версты, а деревня, куда я шел, тут же, гляжу, под боком. Подивился я тому и спрашиваю первого встречного в деревне:
– Что за старичок тут у вас в версте от вас, в лесу, живет?
– Какой, – говорит, – старичок? где? Я показал на лес.
– Никакого там старичка не живет и не жило.
– Да, в избочке, – говорю, – такой махонькой?
– И изобки от нас близко, – говорит, – никакой не было и нету.
Подивился я сам и пошел, ни слова не говоря, разыскивать сам ту избушку. Искал, искал, так и не нашел ни старичка, ни избушки, а, ведь, место, где она стояла, я хорошо заприметил и дорогу к ней запомнил – так и не нашел ничего…
– Не заснул ли ты дорогой, Алексеюшка? – спросил я, – не во сне ли тебе все привиделось?
– Эва, что сказал! – возмутился Алексей. – Заснул! Середь бела дня да спать? Я, ведь, после отдыху, чать, вышел и двух часов полных не успел пройти: когда ж тут спать было?
– Так что ж это с тобой было? – спросил я, – ты-то сам как об этом думаешь?
– Что тут думать? – воскликнул Алексей. – тут двух разов думать нечего: было это мне вражье наваждение, а спас меня от него святитель Николай. Он и был самый тот-то, с кем мы всю ночь Богу промолились.
– Да, ведь, вас было трое, не ты один: так, стало быть, и тем двоим было то же вражье наваждение?
– Вестимо! а то как же?
– А они как об этом думали?
– Да, я их потом не видел. А если бы и видел, так не стал бы их думок выпытывать: не велик я охотник до расспросов-то, да до пустых разговоров, – ответил мне Алексей и перевел беседу на какую-то обыденщину.
Записываю я эту повесть странника Алексея и думаю: кому доведется ее от меня услышать, не скажет ли он: “не любо – не слушай, а лгать не мешай”?
Пусть скажет, пусть не верит, а я? Я верю.
Во время чудовищного циклона, сокрушившего в 1903 году часть Москвы, Сокольничью рощу и часть московских окрестностей, наш Алексей шел из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру. Страшная буря эта захватила его под Мытищами. Что было во всем этом дьявольском урагане необыкновенного, то многим памятно и по газетным известиям.
Интересно мне то, что замечено было Алексеем, как очевидцем.
– Меня самого, – сказывал он, – подняло высоко, высоко. Я уж думал, что мне тут и конец пришел. Однако, на этот раз Бог помиловал, спустило на землю так легко, что я едва зашибся. Две зыбки (Колыбельки) с малютками перенесло из разрушенных домов одной деревни за полторы версты в другую, а младенцы как спали, так и остались спать в своих зыбках. Один железнодорожный рабочий был застигнут бурей на рельсах. Он упал на полотно и схватился обеими руками за рельс; его подняло на воздух вместе и с рельсом. Этого здорово пришибло… А то видел я: сорвало с какого-то господина шляпу: шляпа от него, он за ней… Схватило тут на доме железную крышу, свернуло листы, закатало и катит их бурей прямо за тем господином. Только он наклонится, чтобы схватить шляпу, а крыша его по заду хлоп – он растянется, а шляпа – дальше. Подымается он, бросится бежать опять за шляпой, а крыша его опять хлоп!.. Уж и не знаю, догнал ли он свою шляпу… Но все это поначалу только смешно было, а потом что было, – и вспомнить жутко!.. Кончилась буря; дошел я едва жив от страху до Мытищ; бежит мне навстречу дачница, перепугана насмерть и кричит мне:
– Ты откуда?
– Из Москвы.
– Как там?
– А у вас?
– А у нас такой страх, такой страх, что я уж ни за что теперь на дачу не поеду!
Не без юмора раб Божий, наш Алексей-странник…
12 декабря
Святитель Спиридон Тримифунтский – друг наш. – Ужасы жизни. – Дьяволово отродье и сыны тьмы
Со вчерашнего дня пошел снег, и температура к нынешнему дню понизилась до пяти градусов Реомюра. Стало похоже, как будто, на зиму.
Ходили к обедне благодарить святителя Спиридона Тримифунтского за постоянные его к нам милости: сегодня день его святой памяти, и в нашей жизни не было еще случая, когда бы он отказал нам в своей помощи, по вере нашей, в дни хозяйственных наших затруднений.
У жены моей была одна знакомая старушка-генеральша, любившая святых Православной Христовой Церкви, как близких своих родных и знакомых. У этой рабы Божией часто с уст срывались такие речи:
– Я очень люблю преподобного Сергия и святителя Николая, ну а святитель Спиридон это уж такой друг мой, такой друг…
И вся святая жизнь этой мирской праведницы прошла живым свидетельством того, что друзья ее из горнего мира были близки ей еще более, чем друзья из мира здешнего, несмотря на всю силу любви к ней всех, кто только ни приходил в соприкосновение с этой святой и чистой душенькой.
Так и для нас: святитель Спиридон уж такой друг наш, такой друг, что и выразить невозможно!..
Но что за ужасы творятся теперь в свете! “По случаю храмового праздника, в церкви хутора Казанского, Орского уезда (Оренбургской губернии), – так пишут в № 273 “Русского Знамени”, – было много молящихся. Служил уважаемый и любимый прихожанами священник, отец Василий. Причащаясь в алтаре, отец Василий заметил горьковатый вкус Святых Тайн, но не придал этому большого значения, хотя попросил псаломщика попробовать вино. Последний, выпив немного, подтвердил, что вино испорчено. Затем они благополучно окончили Литургию и начали молебен. В средине молебна священник почувствовал себя дурно и, заявил псаломщику, что он не в состоянии дослужить молебна, просил скорее помочь разоблачиться. Выведенный за ограду церкви, священник, по словам “Биржевых Ведомостей”, упал; начались страшные судороги. Прихожане унесли его домой, где он в страшных мучениях умер. Последними его словами было: “умираю от яда. Берегите потир”. – Через несколько часов после смерти священника начались судороги и у псаломщика. Его удалось спасти. Как яд попал в вино, не установлено”.
Дьяволово отродье – террористы, эти наемные убийцы, восьмого декабря бомбой предательски разорвали на части начальника Петроградской охраны, Карпова, а в Государственной Думе некий Кузнецов (Этот “депутат” впоследствии попался в организации преступной шайки грабителей и воров-взломщиков, за что и несет теперь наказание по суду в каторжной тюрьме) позволил себе сказать о государевом правительстве следующее:
“Мы не уверены, что у представителя министерства внутренних дел, являющегося сюда в Думу для объяснения по тем или другим вопросам, в тот момент, когда он стоит на трибуне Государственной Думы, не окажется в кармане бомбы, которая может нечаянно взорваться и таким образом уничтожить Государственную Думу (рукоплескания слева)… Теперь мы обращаемся к пустующим скамьям правительства с вопросом: господа представители министерства внутренних дел, нет ли у вас здесь в кармане бомб?”
Наше несчастное время вынуждено терпеть и это.
23 декабря
Резкие колебания температуры
На дворе тепло; с крыш льет, как в середине марта; плюс четыре градуса Реомюра. Идем из скита с женой: солнце греет по-весеннему; я и говорю:
– Впору чай пить на террасе!
А ночью пошли к утрени, мороз хватил сразу до двадцати трех градусов. По саду и по лесу такой треск пошел, что жутко становилось, точно шла учащенная ружейная перестрелка: это трещала и лопалась на деревьях кора от внезапной и резкой перемены температуры от тепла к лютому морозу.
24 декабря
Голос мне во сне. – Лжеюродивая
Мороз все крепчает. Сегодня утром было без малого тридцать градусов мороза и притом с сильным ветром. Проснулся я под впечатлением слов, кем-то сказанных мне во сне:
– Невелик шаг от 1909 года до 1910 – всего день один, а все люди с ума посошли.
Голос, сказавший эти слова, слышался мне при самом моем пробуждении.
В два часа дня приходил к нам монастырский благочинный и друг, взволнованный и огорченный: в оптинском храме одна лжеюродивая сделала скандал нашей бывшей прислуге и завела с ней драку к великому соблазну молящихся и братии. На пустосвятку эту составлен полицейский протокол, а нам скорбь, потому что эта прельщенная одно время довольно близка была нашему дому, и мы верили ее святости. Как надо быть осторожным теперь в отношении к тем, которые имеют весь образ внешнего благочестия, а работают во славу свою, а не Божию!..
31 декабря
Еще голос во сне. – Видение священнослужителю в алтаре, в сочельник. – Заключение
Морозы, продержавшись несколько дней, вновь сменились оттепелью: тает и с крыш льет, как весной…
Получил с почты письмо от одной особы, знакомой мне только по переписке. Пишет мне, между прочим: “…хотя у меня внутренние чувства и обострились, но никогда не вижу я снов; тем знаменательнее явление недавних дней, которые я и хочу сообщить Вам. На днях, перед утренним пробуждением, я явственно услыхала голос, – чей, не знаю, – говоривший мне и будивший меня:
– Поди, – говорил он, – поведай людям, что свет Христа для мира померк и что антихрист близко при дверях!
Я проснулась, и звук замиравшего голоса мне еще был ощутителен…. Так как я уже в мир перестала посылать письма, то сообщаю это Вам…”
Как странно это, особенно, в сопоставлении с тем голосом, который и мною на этих днях был слышан и тоже при пробуждении!..
Сейчас вернулся от вечерни, смущенный и расстроенный, даже испуганный. Подошел ко мне в храме один из ближайших мне моих духовных друзей оптинских и говорит:
– Вы всю службу стоять будете?
– Нет, до акафиста. А что?
– Мне кое-что надо было бы вам передать.
Я вышел с ним из храма и пошел в его келью.
– Великое знамение у нас нынче в алтаре, во время службы сочельника явлено было одному из служивших в тот день священнослужителей (он назвал имя (Отец Игнатий (“голосёна”)). Стали читать паремии за вечерней во время Литургии. Вдруг в глазах этого священнослужителя все как бы смешалось: не стало видно ни алтаря, ни служащих, а на их месте он увидал огромное множество людей, в величайшем смятении и страхе беспорядочно бежавших от востока на запад и обратно. Что-то совершалось, по-видимому, необычайно страшное. И, вдруг, явился светоносный Ангел, который, обратясь к тайнозрителю, сказал:
– Все, что ты здесь видишь, имеет совершиться в близком будущем.
Видение тем и окончилось. Что вы на это скажете? Тайнозрителя сего вы знаете – он раб Божий истинный и имеет дар видений, носящих печать того, что святыми Отцами зовется зрением.
– А вы что скажете?
– Святый Ефрем Сирин, вешавший о днях перед кончиной мира и явлении антихриста не то же ли предвозвещал о имеющем в те дни быть, великом смятении народов, когда люди, гонимые страхом, будут предаваться бегству в том же беспорядке, какой привиделся нашему священнослужителю? Мне думается, что это знамение, предвозвещающее близость, именно, этих дней.
То же и я думаю. Вот отчего смущено и испугано мое сердце, вот отчего смущением этим оно и оканчивает сегодня круг годичный лета от Рождества Господа нашего Иисуса Христа тысяча девятьсот девятое и с тяжким предчувствием вступает в новолетие тысяча девятьсот десятого.
Что несет с собой этот год и ближайшее к нему будущее?
Твори, Господи, Свою святую волю, и имя Твое буди благословенно отныне и до века. Аминь.
Заканчивая печатанием записки мои за 1909 год, составленные в незабвенные для меня дни пребывания моего в святой Оптиной пустыни, прошу снисхождения у моих читателей к их разнообразным недостаткам, весьма мною чувствуемым и сознаваемым. Оправданием их да послужит их правдивость и искренность, а, главное, христианская любовь и снисходительность читателя. Да будет ему ведомо, что печатанием их я не своих искал, а яже ближних в честь и славу Господа и Бога нашего Иисуса Христа, пришедшего искупить и спасти души наши и призвать к покаянию грешников, от них же первый семь аз, сие написавый.
Если придутся записки мои по духу тебе, читатель дорогой, помяни в святых молитвах твоих имя грешного Сергия, их составителя.
Предлагаемый некролог старца Варсонофия был напечатан в журнале “Кормчий” № 19 мая 1913 года. Эта статья найдена была после издания книги “Оптнна пустынь и ее время”, где вкралась нежелательная ошибка. В этой книге сказано, что старца Варсонофия отпевал владыка Анастасий, тогда как, согласно некрологу, его отпевал владыка Трифон (в миру князь Туркестанов), викарный епископ московской епархии.
Мы не только желаем исправить это упущение, но хотим дать читателю возможность ознакомиться с характерными чертами старца Варсонофия, здесь так ярко представленного. Он был начальником скита в Оптиной пустыни, когда С.А. Нилус там писал свой дневник “На берегу Божьей реки”.
Скончавшийся утром первого апреля настоятель Старо-Голутвина Богоявленского монастыря, в миру Павел Иванович Плеханков, происходил из дворянского сословия. Получив образование в Полоцком кадетском корпусе, он проходил военную службу при штабе сначала Оренбургского, потом Казанского военных округов.
В конце жизни знаменитого оптинского старца иеромонаха Амвросия, Павел Иванович познакомился с ним, под влиянием беседе ним переродился духом, пленил свой разум в послушание веры и решил отречься от мира и покорить волю свою всецело Христу.
Устроив свои дела, он уже ранее получивший благословение благодатного старца на принятие иночества, теперь, в декабре 1891 года, сорока девяти лет от роду, в чине полковника, пришел в Оптину, чтобы пасть в “объятия отча”… но не застал уже старца в живых.
Приняв иночество с именем Варсонофия, он поселился не в самом оптинском монастыре, а в принадлежащем пустыни Предтеченском скиту, который на всю Россию прославился своими высокими добродетелями и благодатными дарованиями в Бозе почивающих подвижников – СТАРЦЕВ: Леонида, Макария, Антония, Иллариона, Амвросия.
Здесь отец Варсонофий жил сначала под руководством скитоначальника схииеромонаха Анатолия и иеромонаха Нектария – будущего старца. Затем, будучи рукоположен в сан иеромонаха и возведен в сан игумена, он сам был в течение нескольких лет скито-начальником и СТАРЦЕМ. Его знала вся Россия. По неисповедимым судьбам Божиим, переведенный настоятелем в Старо-Голутвин монастырь с возведением в сан архимандрита весною прошлого года, отец Варсонофий прожил на новом месте служения Богу ровно год со дня выезда своего из Оптиной.
Но и здесь не укрылся светильник светяй и горяй благодатью Христовой, ибо и здесь стекались к СТАРЦУ души, жаждущие жизни в Боге и ищущие Царства Божия прежде достижения земных благ.
Ревностно, не щадя себя служил ближним своим старец Варсонофий, – этот истинный раб и служитель Христа, но плоть его, истомленная и обессиленная непрерывным трудом, бдениями и постом, не выдержала, здоровье его, наконец, пошатнулось.
По семьдесят первом году жизни старец в Бозе почил после продолжительной болезни в семь часов, семь минут утра в понедельник первого апреля.
Шестого апреля при отпевании почившего старца преосвященный Трифон, епископ Дмитревский, викарий Московский сказал прощальное слово, в котором владыка вспомнил то время, когда старец, тогда еще недавно оставивший свой полковничий чин и удалившийся в оптинский скит, проводил там строго подвижническую жизнь. Там посетил его владыка в его убогой келий, где стоял только стул, стол и голое деревянное ложе, ничем не покрытое. Смиренно приветствовал своего гостя отец Варсонофий земным поклоном, склонив свою седеющую голову перед молодым студентом – иеромонахом. Беседуя, отец Варсонофий говорил как ему здесь хорошо и как он желал бы до конца жизни не покидать благоуханный оптинский скит. Вспоминал владыка, как во время русско-японской войны старец Варсонофий был послан для священнослужения в армию и должен был оставить свой любимый скит и вернуться в шумную военную среду, которую он когда-то покинул. Он заехал в Богоявленский монастырь попросить напутственного благословения у преосвященного, который и благословил его иконой святого великомученика Пантелеймона. Тогда отец Варсонофий говорил, что хотя ему и жутко ехать, но что в скиту они борются с врагами, которые гораздо лукавее и злее японцев – с врагами нашего спасения. Вспомнил Владыка, как после 1905 года, измученный тяжестью переживаемого времени, он приехал в Оптину. Там в беседах с любвеобильным старцем нашел поддержку и утещение.
В глубоком молчании, стараясь не проронить ни единого слова, слушали все речь владыки. Но когда он перешел к воспоминанию последнего времени жизни старца, рыдания потрясли церковь. Все плакали, вспоминая тяжелые события, которые все так живо помнили н которые переживали вместе со старцем.
“Я как пастырь, – продолжал владыка, – знаю, что в наше время значат такие старцы. Его наставления тем были ценны, что с образованием он соединял высоту иноческой жизни. Как пастырь, я знаю все море горя и скорби, в котором мучаются теперь люди, теряя веру в Бога, доходя до самоубийства. Бывают моменты, когда жизнь теряет всякий смысл, когда нет сил бороться, нет ниоткуда поддержки и когда человек стоит на пороге отчаяния. Тогда является старец, говорит ему: не бойся, ты не один, обопрись только на меня. Я тебя выведу на дорогу. И вот человек, казалось, погибавший постепенно выходит на истинный путь, находит силы для борьбы, воскресает для жизни. И много таких стоят теперь между нами”.
После отпевания по иноческому чину, гроб закрыли и с крестным ходом обнесли вокруг церкви и поставили в подвезенный к монастырю траурный вагон. Над гробом до самого вечера продолжалось служение панихид. Вагон не запирали. Кругом гроба стояли духовенство и певчие.
По прибытии в Москву, утром седьмого апреля у гроба служили панихиды. К четырем часам дня вагон был переведен на Брянский вокзал и там снова началось служение панихид, не прекращавшееся до отхода поезда. Московские почитатели старца съехались на вокзал попрощаться с его телом и густой толпой стояли на платформе у широко открытых дверей вагона. Вагон к этому времени принял вид часовни. На стенах, задрапированных черной материей, были прибиты хоругви, середину вагона занимал гроб, покрытый золотым покровом, с лежащими на нем цветами; за гробом стояли выносной крест и образ Богоматери, а также большой подсвечник, уставленный свечами.
В промежутках между панихидами оптинские монахи раздавали в последнее благословение и утешение “сиротам” старца цветы из венков, свечи, ладан, лежавшие на гробе. В десять часов траурный вагон двинулся в Оптину пустынь, которую ровно год тому назад покинул старец Варсонофий.
Он ушел от нас… тихо ушел к “желаний краю – Христу”, но никогда не изгладится его память в сердцах преданных ему учеников и духовных “пациентов”. Блаженни умирающие о Господе!
От истоков оптинских, Саровских и дивеевских к морю вечности. Отъезд из Оптиной. Первое знакомство с Оптиной. Мой сон и отец Амвросий
Духов день, праздник Святому Духу, в 1912 году пришелся на четырнадцатое мая и совпал с днем празднования коронования императора Николая Александровича. В этот день у лесных ворот ограды нашего благословенного оптинского уединения стояло два парных козельских извозчика, выносили на них последний наш ручной багаж и сами мы в числе четырех душ выходили, со слезами прощаясь едва ли не навеки с духовной нашей родиной, бесценно-дорогой, горячо любимой святой Оптиной пустынью.
От истоков Божией реки оптинской утлую ладью нашу повернуло и понесло течением временной жизни к далекому, а может быть – то в воле Божией – и близкому беспредельному простору моря вечности.
Так изволися Богу. Буди воля Его святая благословенна во веки.
И красен же был денек тот!.. Кто не видел Оптиной в весеннем уборе окружающих ее безмолвие фруктовых садов, могучего ее леса, вековых ее сосен, обрамленных веселой, молодой зеленью клена, осины, липы, рябины, орешника и молодого дубняка – всей роскоши зеленого шума и звона торжественно-радостного шествия ликующей теплом и светом весны, тому не понять великой скорби нашего сердца, обливавшей слезами заветные могилки великих оптинских старцев на прощанье с ними, со всей духовной красотой оптмнских преданий и с красотой окружающей их природы.
Тако изволися Богу. Слава Богу за все.
И думалось мне тогда, следя задумчиво-печальным взором за убегающей из-под колес нашего экипажа святой землей оптинской, что, прощаясь с тою бездонною глубиною хрустально-чистых вод ее и моей Божией реки, из чьей серебристо-струйной лазури так часто невод мой извлекал сокровенные в ней сокровища духа, что уже не петь мне Богу моему хвалы, дондеже семь, что уже не бряцать перстам моим более на десятиструнной моей псалтири, ибо с последним прощальным поклоном Оптиной иссякнет для меня чистейший источник вдохновений и захлестнет ладью мою и меня зловещая волна житейской мути.
Но не изволися тако Богу: опять я с тобою, дорогой мой читатель, и опять есть у меня что из дел Божиих тебе поведать, а тебе послушать.
Послушай же…
Оптину пустынь впервые я посетил в июле 1901 года. В мае того года сын мой окончил курс Орловской гимназии, и мы с ним решили ознаменовать начало нового этапа его молодой жизни паломничеством по святым местам.
Вскоре после первого посещения Оптиной я, выбрав свободное от хозяйственных забот время (я тогда еще жил и работал в своем имении), вновь поехал в этот великий питомник монашеского духа. Стояла глубокая, глухая осень. Пустынно было и в Оптиной, и в Шамордино и потому особенно хорошо для души, для сосредоточения ее в Боге и молитве, а где же было и молиться, как не в этих пустынных обителях?!
С благословения старца отца Иосифа я из Оптиной на время переселился в Шамординский монастырь собирать материалы для задуманного мною жизнеописания великого оптинского старца отца Амвросия, основателя Шамординской обители. На третий или четвертый день пребывания моего в Шамординой заболели у меня глаза, я не обратил на это внимания, авось пройдет, и весь отдался захватившему меня делу. И вот, набегавшись за день по монашеским келиям и наслушавшись рассказов о недавнем прошлом Шамордино, тесно связанном с памятью отца Амвросия, я, поужинав и попив чайку в гостинице, лег спать и заснул крепчайшим сном. Проснувшись от рези в глазах слишком рано, я под утро вновь забылся легкой дремотой и увидел такой сон. Иду я будто по прямой, широкой, мощеной круглым булыжником улице; по обеим ее сторонам проведены канавы, через них перекинуты мостки, и против каждого мостика вдоль всей улицы, небольшие деревянные домики под тесовыми крышами, все фасадом в три окошечка на улицу. Между домиками тесовые заборы с воротами и калитками; за заборами дворы и садики – все в одном старинном провинциальном вкусе наших захолустных провинциальных городов. Улице и конца не видно… Иду я по середине улицы и вижу, что вся ее мостовая густо устлана цветами свежевысушенного, зеленого, душистого сена. Иду я и на каждом шагу нагибаясь большими охапками собираю эти ароматные цветы, и так цветов этих много, что весь я с головы до ног осыпаюсь ими. Смотрю: у калитки одного из тех домиков стоит и чего-то, видимо, дожидается небольшая, душ в семь или восемь, кучка народа; среди них примечаю одного из своих товарищей по гимназии. Подхожу к нему, чтобы спросить, чего он ждет, и вижу, что калитка внезапно отворяется и из нее выглядывает быстрая фигурка знакомого мне скитского иеродиакона отца Анатолия, бывшего келейника старца Амвросия. Оглядывая всех нас беглым взглядом и увидев меня, он быстро скороговоркой кликнул меня:
– Нилуса к батюшке.
И я понял, что “к батюшке” значило к отцу Амвросию и следом пошел за отцом Анатолием в калитку, вглубь двора, где виднелся такой же, что и на улицу, дом, только размером побольше. Войдя за отцом Анатолием в этот дом, я увидел просторную горницу и в ней сидящего в глубоком кресле старца отца Амвросия. С величайшей радостью кинулся я к ногам его и стал целовать его ноги, обутые в полуботики коричневатого мягкого сукна; целую их, а батюшка, чувствую, положил мне свою руку на голову, гладит ее и приговаривает ласково так:
– Ишьты какой! ишьты какой! ишьты какой! При звуках этого любвеобильного, ласкового голоса я проснулся в величайшем умилении, а голос все еще продолжал звучать в ушах моих непередаваемой лаской. Глаза мои загноились, и я с трудом едва мог раскрыть их. Резь усилилась, и началось что-то вроде светобоязни. Несмотря на глазную боль, я все-таки пошел к обедне и потом чай пить к игумений. Рассказываю ей под свежим впечатлением, а она мне:
– Вы, – говорит, – видали ли когда-нибудь, какую обувь носил наш батюшка?
– Нет, и понятия не имею.
– Тогда, – говорит, – пойдемте сейчас в его хибарку, я вам ее покажу.
В одной связи с игуменским корпусом в Шамординой находится и та келия, в которой окончил свои подвижнические, многоболезненные дни отец Амвросии. В келий этой вся обстановка сохранялась в том виде, в каком она была при его жизни, а в стоявшем там шкапчике за стеклом хранились все его носильные вещи. Матушка открыла шкапчик, достала с полки суконные ботики старца: они были те самые, которые я целовал в утреннем сновидении, те самые до мельчайших подробностей, не исключая и цвета сукна, из которого они были сделаны… В изумленном благоговении я поцеловал их и приложил к больным глазам. Тут же в келий стоял кувшин с Рудневской (Руднево – хутор Шамординского монастыря, куда иногда любил уединяться отец Амвросий. Там по его указанию был ископан колодезь, вода которого почитается целебной) водой; ею игумения предложила мне омыть глаза и отереть тут же висевшим батюшкиным полотенцем – и болезни моей как не бывало, ее Рудневская вода в полном смысле слова смыла, как грязь какую.
Можно себе представить, в каком я был тогда состоянии!..
Сон этот, как оказалось впоследствии, предзнаменовал собою и предопределил всю мою последующую деятельность, по собиранию цветов с духовного луга иноческого жития на Руси Святой, но, увы, уже не живых цветов и не с цветущего луга, а из сена, хотя еще душистого, но уже убранного с луга жизни и выбрасываемого на попрание на бездушный, холодный камень улицы.
О, Русь моя Святая! Где ты? Откликнись, отзовись!..
Видение отца Николая (“Турки”), схимонаха скита Оптикой пустыни
Кто читал мою книгу “Великое в малом”, тому известен оптинский подвижник схимонах Николай по прозванию “Турка”. В статье “Небесные обители” я рассказал со слов одного моего духовного друга о видении, бывшем этому подвижнику. Теперь в скитских рукописях я нашел краткое жизнеописание отца Николая и более подробный рассказ, записанный со слов его самого, о том, что увидел он по милости Божией в жизни будущего века в тех небесных обителях, куда призывает Господь всех любящих Его и куда уже призван ныне отец Николай Турка, подвижник оптинский ( Записано со слов отца Николая послушником Павлом Ивановичем Плеханковым, впоследствии начальником скита Оптиной пустыни схиархимандритом Варсонофием).
Схимонах Николай – так сообщает его биография – в мире Николай Абрулах, Казанский мещанин. Из представленного им свидетельства Херсонской духовной консистории видно, что он бывший магометанин, имя его было Юсуф Оглы, бывший турецкий подданный, родом из Малой Азии. Служил в турецкой гвардии офицером. Когда он почувствовал желание креститься в православную веру и стал об этом открыто заявлять родичам своим туркам, то они так возненавидели его за это, что он дня по два, как “гяур”, не мог найти себе пиши. Его мучили, вырезали куски из тела его. Ему удалось бежать в Россию. В Одессе в Карантинной церкви он был крещен в октябре 1874 года и назван Николаем. Восприемниками его были Одесский градоначальник тайный советник Николай Иванович Бухарин и первой гильдии купчиха Наталия Ивановна Гладкова. Затем он в Казани приписался в мещанское общество. 18 июля 1891 года шестидесяти трех лет от роду он поступил в скит Оптиной пустыни. Господь сподобил его духовных утешений: восхищен был в рай, где наслаждался созерцанием неизреченных райских красот. Отличался кротостью, смирением и братолюбием. Келия его была рядом с келией монаха Мартирия (скончался иеродиаконом). Топил за него печи, и когда тот, удивляясь, спрашивал: “За что ты это для меня делаешь?”
Отвечал просто: “Я тебя люблю”.
Скончался 18 августа 1893 года, шестидесяти пяти лет от роду.
– В четверг 13 мая 1893 года, – сказывал Божий угодник этот, – утром часу в третьем я начал читать акафист святителю Николаю Чудотворцу. Господь мне даровал такую благодать при этом, что вся книга была омочена слезами. По окончании чтения утрени я начал читать псалом пятидесятый “Помилуй мя Боже…”, а после него Символ веры, и когда его окончил и произнес последние слова “и жизни будущаго века. Аминь”, в это самое мгновение невидимая рука взяла мои руки и сложила их крестообразно на груди, а голову мою со всех сторон объял огонь, похожий на цвет радуги (В подлиннике – желтый, похожий на цвет радуги). Огонь этот не опаляя меня наполнил все существо мое неизглаголанной радостью, до того времени мне совершенно неизвестной и неиспытанной. Радости этой невозможно уподобить никакой земной радости. И тут я не помню как и когда я увидел себя перенесенным в некую дивно прекрасную местность, исполненную света. Никаких земных предметов я не видел там, видел только одно бесконечное и беспредельное море света.
В то же время я увидел около себя с левой стороны двух стоящих людей, из коих один по виду был юноша, а другой старец. И мне сердечным извещением дано было знать, что один из них святой Андрей, Христа ради юродивый, а другой ученик его – святой Епифаний. Оба они стояли молча. И тут я видел перед собой как бы занавес темно-малинового цвета. И, взглянув вверх, я над занавесом увидел Господа Иисуса Христа, восседающего на престоле и облеченного в драгоценные одежды наподобие архиерейских. На главе его была надета митра тоже похожая на архиерейскую. С правой стороны Господа стояла Божия Матерь, а с левой Иоанн Креститель. Одежды на них были подобны тем, которые обыкновенно пишутся на их иконах. Святой Иоанн Креститель в одной руке держал знамение креста Господня. По сторонам Господа стояло двое светоносных юношей дивной красоты, в руках своих они держали пламенное оружие. Сердце мое преисполнено было неизреченной радости. Я смотрел на Спасителя и несказанно наслаждался зрением Божественного Его лика. На вид Господу было лет тридцать. И явилось тут во мне сознание, что вот я величайший грешник, хуже всякого пса, и вдруг удостоился от Господа такой великой милости, что стою пред престолом Его неизреченной славы.
Господь кротко смотрел на меня и как бы ободрял меня. Также кротко смотрели на меня Божия Матерь и святой Иоанн Креститель. Но ни от Господа, ни от Пречистой Его Матери, ни от Крестителя Господня я не сподобился слышать ни единого слова. В это время я увидел пред Господом схимонаха нашего скита отца Николая (Лопатина), скончавшегося в полдень 10 мая и еще не погребенного, так как ожидали приезда из Москвы его родного брата. Отец Николай совершил земное поклонение пред Господом, но только схимы на нем не было, а одет он был как послушник – в руках четки и голова непокрыта. И после сего я взглянул – и вот с правой стороны великое множество людей, приближавшихся ко мне. По мере их приближения я начал слышать пение, но слов не мог разобрать. И увидел я в их среде лиц и в архиерейских облачениях, и в иноческих мантиях; у них в руках были ветви. И между ними я видел и женщин в богатых и прекрасных одеждах. В сонме святых этих я узнал многих по их изображениям на святых иконах: пророка Моисея, державшего в деснице своей скрижали завета; пророка и царя Давида, у которого было некое подобие гуслей, издававших прекраснейшие звуки; увидел я и Ангела своего святителя Николая. Среди этих великих Божиих угодников я видел и наших почивших старцев – Льва, Макария и Амвросия, а также и некоторых из отцов нашего скита еще живых.
И все это великое собрание взирало на меня с любовию. И вдруг увидел я перед собою между мной и занавесом неизмеримую великую пропасть, исполненную мрака, и во мраке этом на страшной глубине самого князя тьмы в том его виде, в каком он изображен на священных картинах. На руках сатаны сидел Иуда, державший в руках подобие мешка. Возле князя тьмы стоял лжепророк Магомет в длиннополой одежде зеленого цвета и такого же цвета чалмой. Вокруг сатаны, который представлял собою как бы центр пропасти, на всем ее беспредельном пространстве я видел тоже множество людей всякого состояния, пола и возраста, но между ними никого знакомого не заметил. Из пропасти доносились до меня вопли отчаяния и невыразимого ужаса, непередаваемых никакими словами. На этом видение это кончилось.
После этого я был поставлен внезапно в ином месте. Это место исполнено было такого же лучезарного света, однородного, показалось мне, с виденным мною в первом месте. Святых Андрея и Епифания со мною уже не было… Что видел я там, то трудно передать словами. И как изобразить человеческим языком земнородных небесные красоты, неизреченные, предивные, поистине неизглаголанные? Все там бесконечно прекраснее нашего. Видел там как бы великие и прекрасные деревья, обремененные плодами; деревья эти расположены были как бы аллеями, которым и конца не было видно; вершины деревьев сплетались между собою, образуя как бы свод; устланы были аллеи эти как бы чистейшим золотом необыкновенного блеска. На деревьях сидело великое множество птиц, несколько напоминавших видом своим птиц наших тропических стран, но только бесконечно превосходящих их своею красотою. Красоты и гармонии их пения никакая земная музыка передать не в состоянии – так оно было сладостно.
В саду этом протекала река; прозрачность вод ее превосходит всякое описание. И между деревьями сада я увидел дивные обители, как бы дворцы, по подобию виденных мной в Константинополе, но только без всякого сравнения превосходнее и краше. Цвет их стен был как бы малиновый, похожий цветом и блеском на рубин. И я знал, что место это – рай, расположением своим напоминавший мне отчасти наш Оптинский скит, где иноческие келий также стоят отдельно друг от друга, разделенные группами фруктовых деревьев. Рай был окружен стеной, которую я видел только с южной стороны. На этой стене я прочитал имена двенадцати апостолов. И увидел я в раю некоего мужа, облеченного в блестящие одежды и сидящего на престоле как бы белоснежном. На вид мужу этому было лет шестьдесят, но лик его, несмотря на седины, был как у юноши. Кругом него стояло множество нищих, которым он что-то раздавал. И внутренний голос сказал мне: “Это Филарет Милостивый”.
После него я никого из праведных обитателей рая не сподобился видеть. Посреди райского сада я увидел Животворящий Крест с распятым на нем Господом. Невидимая рука указала мне поклониться Ему, что я и исполнил. И когда я преклонился перед Ним, в то же мгновение неизреченная и великая сладость подобно пламени напоила мое сердце и проникла все существо мое.
И увидел я после того великую обитель, видом подобную прочим, находящимся в раю, но неизмеримо превосходящую их своей красотою. Вершина ее, наподобие исполинского церковного купола, возносилась в бесконечную высь и как бы терялась в ней. В обители этой я заметил как бы подобие некой терассы и на ней на богато украшенном троне я увидел Царицу Небесную. Вокруг Нее стояло великое множество прекрасных юношей в блистающих белых одеждах, держащих в руках подобие некоего оружия, но какого – я не разглядел. Одежда на Матери Божией была такая же, как изображается Она на святых иконах, но только разноцветная. На главе Ее была корона наподобие царской.
Царица Небесная милостиво глядела на меня, но слов от Нее услышать я не сподобился.
После сего как бы в воздухе я удостоился узреть Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, в подобии, изображаемом на святых Ее иконах: Бога Отца – в виде святолепного Старца, Бога Сына в виде Мужа, держащего в деснице Своей Честный и Животворящий Крест, и Бога Духа Святаго в виде Голубя.
И казалось мне, что я долго ходил среди рая, созерцая дивные его красоты, превосходящие всякое человеческое о нем представление.
Когда же я очнулся от этого видения, то долго не мог прийти в себя от великого и неизреченного утешения этого и весь этот день был как бы вне себя от радости, наполнявшей мое сердце. Ничего подобного сей радости до этого времени я никогда не испытывал.
На этом в скитской рукописи заканчивается описание видения скитского подвижника схимонаха Николая Турка.
– Ну, что ты еще знать хочешь, чего допытываешься? – говорил он старцу схиархимандриту Варсонофию, в то время еще послушнику. – Придет время и сам увидишь. Что тебе еще сказать? Да и как сказать тебе? Ведь на человеческом языке нет тех слов, которые могли бы передать, что там совершается; ведь на земле и красок-то тех нет, которые я там видел. Как же тебе все это передать?..
Ну вот послушай, что я тебе скажу: ты знаешь ведь, что такое хорошая музыка?.. Ну вот я слышал ее. только что слышал, она у меня звучит в ушах, она поет в моем сердце, я все еще продолжаю ее слышать. А ты ее не слыхал. Как же, какими словами могу я тебе рассказать о ней, чтобы и ты по моим словам мог ее слышать и со мною вместе ею наслаждаться? Ведь не можешь?
I. Елена Андреевна Воронова, раба Божия. Александр Годалов. Святитель Николай
– Позвольте вас спросить, не вы ли Сергей Александрович Нилус?
Я обернулся и увидел сзади себя средних лет и роста даму, очень скромно одетую.
На этом вопросе завязалось мое знакомство с замечательным созданием Божиим, Ангелом во плоти, Еленой Андреевной Вороновой. О ней стоит поговорить особо.
Было это, помнится, в октябре или ноябре 1909 года, когда после поздней обедни в Казанском храме Оптиной пустыни я впервые услыхал ласковый звук ее голоса, назвавшего меня по имени… Кто знал в Петербурге княжну Марию Михайловну Дондукову-Корсакову, тот знал и эту рабу Божию, а знали и ту и другую все, кто имел какое-либо касательство к делам благотворения в северной столице, особенно же в деле оказания любви и милосердия к тем, которых прежние русские люди называли “несчастненькими”, – к заключенным в тюрьмах, арестантам; в их озлобленную и скорбную душу эти два светоча подлинного христианства вносили и свет покаяния, и радость прошения, примирения с Богом, со своей просветившейся отныне совестью и с людьми, ими ненавидимыми и их отвергнувшими. Княжна Мария Михайловна стояла во главе Петербургского тюремного благотворения; Елена Андреевна была ее помощница до самой ее смерти. Когда же умерла Мария Михайловна, на ее посту ее сменила Елена Андреевна… Сколько преступных душ спасено было этими двумя небожительницами и для временной, и для вечной жизни – один сердцеведец Господь знает, а они, эти небожительницы, и счет им потеряли!
Теперь они обе у Отца светов. Царство вам Небесное, светлые, ангельские души!
Дочь генерала (штатского ли или военного – того не знаю), Елена Андреевна по окончании образования отдалась всей душой школьному делу, но болезненная по природе вскоре была вынуждена на время покинуть север и уехать в Крым лечиться теплым климатом и виноградом. Но характер ее, полный энергии, требовал деятельности, а сердце любви; и она то и другое, несколько укрепившись в здоровье, отдала там же, в Крыму, детям школьного возраста, открыв школу особого типа в Алуште. След этой ее деятельности сохранился в ее книжке “Школа в Алуште”, где со свойственным ей писательским талантом она описала трогательно и красноречиво жизнь этого детища ее сердца от зарождения его и до передачи в правительственные руки. И школа эта, и ее учредительница обратили на себя особое внимание Константина Петровича Победоносцева, ставшего впоследствии вместе с женою своею искренними друзьями Елены Андреевны.
По возвращении своем из Крыма Елена Андреевна была привлечена княжной Марией Михайловной и митрополитом Петербургским Антонием (Вадковским) к тюремной благотворительной деятельности, и здесь ее великодушное сердце и явило во всей красе тихого и теплого сияния все дивные свойства ее христианской души. Сколько приговоренных к смертной казни политических преступников спасла она своим ходатайством пред митрополитом Антонием как посредником между ними и государем, столь всегда щедрым на дарование не только жизни, но и всякой милости, если к тому можно было отыскать хотя бы малейший повод! Скольким ее любовь милостью монарха успела возвратить права на свободу и полноправную гражданскую жизнь, лишь только она убеждалась в искренней твердости раскаяния преступившего закон Божий и человеческий! На том свете все узнается, а здесь все это хранится в благодарной памяти воскрешенных ею к новой жизни; эти воскресшие ни счета своего, ни Елены Андреевны не забудут…
Так вот, это-то сокровище христианского духа и окликнуло меня в памятный тот день, когда по окончании литургии я направлялся домой из Казанского храма. Душа этой рабы Христовой искала духовного окормления, а тело отдыха: того и другого она приехала искать в Оптиной и, конечно, нашла. Старцем и духовником ее стал отец Варсонофий, наш духовник и старец, и это нас еще более породнило друг с другом.
Я не пишу ее биографии; описывать внешнего облика не стану, не буду перечислять и всех ее добрых дел; с меня довольно будет нескольких цветков воспоминаний с ее дорогой могилы; пусть засушатся они между страницами этой книги, и засушенные, они не потеряют своего нежного аромата и будут благоухать и мне и тому, кому попадутся на глаза эти строки.
В числе спасенных Еленой Андреевной для вечности был один чахоточный вор-рецидивист. Имя его было Александр, фамилия – Годалов. Когда мне краткую повесть о его короткой жизни сообщала Елена Андреевна, его в живых уже не было: он умер в Петербургской Обуховской больнице, примиренный и с Богом и с совестью, напутствованный всеми таинствами Церкви, о предоставлении которых умирающему позаботилась глубоко верующая Елена Андреевна. После его смерти осталась маленькая тетрадка, что-то вроде автобиографических заметок, и частью из нее, частью из его слов не без сердечного умиления поведала она мне следующее:
– Вы, сытые образованные люди, – говорил мне Александр, – никогда не поймете, что творится в душе голодного, простого, темного человека, как я, особенно если голод живот ему подводит не день, ни два, а дней пяток и больше, да еще не после роскошных харчей ваших, а с жизни впроголодь чуть ли не с пеленок. Вот я – вор; позорным именем я заклеймен и судом, и людьми, обличен и своей совестью; а каково мне досталось это проклятое звание – мало кто из вас и подумает… Теперь я умираю; быть может, и часы мои сочтены, так не до вранья мне теперь и я расскажу вам, какие чудеса со мною были и каким чудом вместо тюрьмы или тюремной больницы я, вор, попал умирать в больницу к честным и, во всяком случае, не заклейменным людям.
Я с детства был мальчишка верующий и любил, бывало, бегать в церковь, когда я был свободен от работы у мастера, к которому был отдан в ученье. Потом уже, когда перемерли все мои родные и я остался на своей вольной волюшке, что называется, забаловался и пошел по той дорожке, которая никогда еще никого до добра не доводила. И дошел до того, что не с чего стало жить: что было, все с себя поразмотал, от дела отбился и стал голодать… О этот голод! Кто его не отведал, тому и в голову не взойдет, что это за мука…
И вот голодаю я день, голодаю другой, третий… А тут как будто кто-то в ухо нашептывает: “Поди укради вон у того толстопузого лавочника; вишь, как он себе брюхо наел, а у тебя оно к спине от голода присохло!..” Пошепчет так-то и не раз и не два, а много раз на голодный-то желудок, ну не выдержишь и послушаешь этого шепота. И вот, как сейчас помню, шел я проходным двором, а на дворе, смотрю, протянутая веревка и развешано сушиться хорошее господское белье. Опять слышу: “Укради!” Есть хочется до того, что в глазах зелено. И вспомнил я старое, как, бывало, Угоднику Николаю Чудотворцу маливался.
“Святителю отче Николае! – взмолился я, – есть хочется, помоги!” и был таков. Спасибо Чудотворцу: так хорошо управился, что никто и не заметил, и добычу я тогда перекупкам продал за хорошую цену.
Лиха, говорят, беда начало: удалось раз, потянуло и в другой, и опять с голодухи. И опять перед кражей взмолился я угоднику, и опять хорошо подкормился.
На третьей краже случилось со мною такое чудо, что впору ему не поверить, да врать-то мне, глядя в могилу, не пристало, так вы, я знаю, поверите. А было это так.
Шел я, несколько дней не евши, по одной из Петербургских окраин (он мне и местность ту назвал, да я забыла), там, где уже последние дома, а за ними уже начинаются огороды и поле. Иду, а в мыслях только одно: где бы разжиться на что поесть? И как было в первую кражу, так и теперь: смотрю, развешано белье.
“Помоги, святителю отче Николае!”
Огляделся кругом – ни души! Схватил с веревок, что под руку попало, и ну бежать! И не успел я пробежать и десятков трех-четырех шагов, как за мною, слышу, погоня:
“Держи его, лови его!”
Оглянулся, бегут за мною человека четыре и как будто и городовой с ними. Я поддал ходу – они тоже; я бегу, что есть духу, – стали будто отставать, а все же бегут.
“Святителю отче Николае, выручай! в рубль тебе, как разживусь, свечку поставлю!”
Смотрю – лесок. Я – в него. Ну, думаю, спасся! Ан нет; весь лесок переплюнуть: несколько деревьев и ни одного куста, а за леском опять чистое поле… Слышу – гонятся. Бегу дальше, уж и духу не хватает. Опять взмолился я угоднику:
“Спасай!”
Глядь, вблизи леска туша огромной палой лошади; туша почти еще целая, только один бок выеден собаками и зияет огромной дырой… В голове мгновенно мысль: лезь в тушу!.. Росту я малого, а дыра большая, во мгновение ока нырнул я туда; и чего ж там, Господи, я натерпелся, того и высказать невозможно, – ну, одно слово, падаль и вся ее мерзость! Вспомнить тошно!.. Слышу, погоня промчалась мимо… Посидел я в туше с полчаса, думаю, не выживу, задохнусь, да и в мерзости-то я весь… Прислушался, тихо… Начал вылезать, и только это я нос высунул, так чуть было не ослеп от великого света, которым меня ударило прямо в глаза; и в свете этом кто ж, думаете вы, стоит? Сам святитель Христов Николай в полном облачении, как его на иконах пишут. Стоит он у туши, смотрит на меня и говорит:
– Ну, говори, Александр, хорошо ли тебе в туше было?
Трясусь от страха и едва выговорить могу:
– Ой, и смрадно же было!
– Вот так-то смраден Богу и мне грех твой! – сказал мне святитель. – Вылезай же теперь, да смотри же впредь не греши!
Промолвил он слова эти и стал невидим… Чуть не помер я тогда со страху… Опомнился, одумался… Поблизости болотце было – обмылся, как мог, и пошел обратно другой дорогой в город.
И долго я после того не воровал, а потом раз не вытерпел и попался. Меня судили и присудили в тюрьму; в тюрьме-то и вас мне Господь послал, в тюрьме и чахотка у меня объявилась. Отсидел я свой срок и вышел на свободу гол как сокол да еще больной, и стал голодать пуще прежнего. Попробовал просить милостыню, да просить не мастер – подают плохо: поешь кое-чего на выпрошенное, только чтобы не подохнуть, а на ночлежку не хватает. Спасибо, теплое время стояло, так я на островах под мостами заночевывал… И вот ночевал я раз под мостом на Черной речке. Утром чуть зорька – есть хочется, а в кармане ни гроша ломаного. Выглянул из-под моста, а там идет какая-то модница, в руках маленький мешочек, а я уж знаю, что в нем такие-то деньги носят. Я нацелился из-под моста прямо к ней – хвать за мешок и стал вырывать; и только я его коснулся, как хлестнет тут из меня горлом кровь фонтаном, так я тут же, как сноп на панель, и свалился. И что ж вы думаете? Добрая та душа не за городовым побежала, а за извозчиком и на нем сама привезла и сдала в Обуховскую, где теперь и помираю. Не велел мне святитель воровать, не послушался, а теперь – крышка! Такова повесть об Александре Годалове, что доводилось мне слышать из уст Елены Андреевны. Не верить ей я не могу; поверь же ей и ты, дорогой мой читатель! О святителе же Николае, на время отложив свой сказ про Елену Андреевну, я поведаю тебе нечто еще не менее дивное.
II. “Николай-Подкопай”
В беседе как-то раз с оптинским настоятелем архимандритом Ксенофонтом я сообщил ему повесть Годалова.
– А вы, – спросил меня отец архимандрит, – не слыхали об одной московской церкви, что зовется в просторечьи “Никола Подкопай”?
Я отозвался незнанием.
– Ну так послушайте же, что я вам расскажу. Было это в начале прошлого столетия, после, кажется, француза. В церкви этой, которая тогда называлась просто Никольской, в великом почитании была чудотворная икона святителя Николая. Церковным старостой в этой церкви был богатый купец, фамилии его теперь не упомню; был он по-старинному верующим, как веровали когда-то наши деды, что строили русскую землю, а к святителю Николаю и к его чудотворной иконе питал особую любовь и веру. И было у него правило – читать святителю каждый день акафист, и правило это он совершал неопустительно… Жил купец этот богато, вел обширную торговлю и все у него шло и по торговле, и по дому хорошо, как нельзя лучше, пока не постигло его тяжелое испытание: доверился ли он кому-то, кто его обманул, или по какой другой причине, но только дела его сразу пошатнулись и вся его торговля быстро покатилась под гору, совсем разорился купец. И стал купец тот плакать и жаловаться святителю Николаю, читает ему акафист, а сам плачет:
– Святителю отче Николае, помоги! Почто ж ты меня оставил? Я ль тебе не веровал? Я ль тебе не молился и не служил? А теперь должен идти по миру – почто ж ты меня оставил? Плачет он и молится так и все взывает к святителю о помощи.
И вот ночью, после усиленной молитвы, видит он сон. Приходит к нему святитель Николай и говорит:
– Я пришел помочь тебе за твою ко мне любовь и веру. На иконе моей, что в вашей церкви, риза золотая и много драгоценных каменьев: сними ризу с каменьями, продай их и начинай опять торговать; а как разживешься, сделай на икону новую ризу, чтобы была точь в точь, как старая. Это и будет тебе от меня помощь.
Смутился купец – не прелесть ли вражия?
– Как же, – говорит, – могу я это сделать? Первое – это святотатство, а второе – как снять? Днем – народ, а ночью храм заперт.
– А ты, – отвечает ему святитель, – приди ночью, да под стену, что против моей иконы, и ПОДКОПАЙ, а в подкоп пролезь да и сними ризу.
Проснулся купец; подушка вся мокрая от слез. Дивится сну, радуется, а не знает, верить ли сну или не верить… Опять молится, опять плачет. И снова является ему в сонном видении святитель и опять те же слова говорит.
– Не могу, – говорит купец, – в ворах я никогда не был.
– Воровства тут, – говорит святитель, – никакого нет: икона моя и ризе я хозяин, делай так, как я говорю.
И в третий раз явился святитель во сне купцу и вновь повторил свой приказ. И по третьему уже разу решился купец поступить, как велел ему святитель: подкопался ночью под стену, пролез в храм, снял с иконы ризу с каменьями, принес домой, каменья вынул, золото слил в слиток, продал золото и каменья, выручил большие деньги, опять завел торговлю – разжился пуще прежнего. Как встал купец опять на корень, приходит к батюшке-настоятелю и говорит:
– Пришел я к вам, батюшка, сказать, что есть у меня усердие новую ризу на святителя соорудить. Благословите!
– Бог, – говорит, – благословит добро творить, а дело это доброе. Какую ж ты хочешь сделать ризу?
– А такую же, – отвечает, – как старую, чтобы точка в точку была и рисунками и каменьями, чтобы и отличить было нельзя от настоящей.
– Ну к чему ж такую же точно? Ты бы иного какого-нибудь фасона.
– Нет уж, благословите, как хочу, таково мое усердие.
Пришлось благословить: человек богатый, а у богатого свои фантазии. Поделали ризу. Заказал купец по этому случаю торжественный молебен, созвал весь приход. Перед самым молебном стал мастер прилаживать новую ризу к иконе, а народ смотрит и удивляется: накладывают новую ризу на старую, а она точно такая же, как и старая, и старую не снимают; что такое – понять не могут… Приладил мастер ризу, отпели молебен с акафистом святителю, стали подходить к кресту, а купец встал около батюшки и около иконы да и говорит вслух всему народу:
– Обождите, батюшка, и благословите мне добрым людям слово сказать!
– Говори.
И поведал тут купец православным чудо-чудное, что сотворил ему своею милостью святитель Николай, как трижды являлся ему во сне, что говорил и что он, купец, по слову святителя сделал… И опять дивится народ и недоумевает: не сошел ли купец с ума? Старая риза цела, на старую новую одели, все это видели – про что ж он сказывает? А купец плачет, слезами обливается, кланяется народу в ноги и говорит:
– Вижу, не верите вы мне. Ну, – говорит, – мастер, снимай с иконы твою ризу!
Тот снял, а под новой ризой-то старой и нету… Можете себе представить, что тогда в храме том было?! С тех пор храм тот в Москве и зовется – Николай-Подкопай.
Этот рассказ я слышал от архимандрита Оптиной пустыни отца Ксенофонта. Писал о нем архиепископу Никону, моему издателю, он ответил: “Прежде чем печатать, надо будет подробную о сем справку навести”. Прошло с месяц, смотрю – мой рассказ уже напечатан в “Троицком Слове”, по справке, значит, все, как я писал, верно оказалось… Да я, открыто признаюсь, и без всяких справок сразу этому в устах преподобного оптинского аввы всем сердцем поверил: есть ли у Бога и святых Его что-то невозможное?..
III. Смертник Иларион
Одним из дел тюремного благотворения, которым с такою любовью отдавалась душа Елены Андреевны, было чтение арестантам слова Божия и всего, что могла дать духовная и светская литература полезного для души в незаглохшем еще стремлении ее к высокому при свете Христовой веры и учения Православной Церкви.
– Приехала я раз, – сказывала нам Елена Андреевна, – в тюремную больницу в Крестах (Известная пересыльная тюрьма Петербурга, на Петербургской стороне), привезла с собою книжечки и нательные крестики, чтобы надеть их на тех арестантов, у кого их не было и кто бы от них не отказался. Меня там хорошо уже знали, и я всех знала; отношения у нас были дружелюбные, доверчивые. Трудно это с арестантами, но так уже Бог помог за молитвы старцев… Вхожу, поздоровались. Сажусь беседовать и читать и вижу: на больничной койке лежит новый, незнакомый мне больной арестант; больной и в кандалах, стало быть, особо важный преступник – лицо суровое, мрачное, но интеллигентное… Окинул он меня неприязненным взглядом и тотчас отвернулся лицом к стене. Лицо его и весь его вид, особенно же кандалы на больном, – все это произвело на меня сильное впечатление…
О чем вела я тогда беседу, что читала, того теперь не помню, помню только, что Бог помог и все было хорошо.
После беседы я увидела, что привлекший мое внимание арестант уже не к стене лежит, а смотрит в мою сторону, и лицо его показалось мне менее сумрачно-враждебным… Стала я раздавать крестики: просит тот, просит этот – все просят, крестов ни у кого из арестантов не оказалось. Подошла я и к этому арестанту, несмело подаю ему и хочу надеть на него крестик, а сама думаю: вот отвернется или что грубо-кощунственное скажет! А сама сердцем за него молюсь. Не отвернулся, но ничего не сказал, и я ему надела крестик на шею…
Прошло сколько-то времени. Приезжаю опять туда же. Того арестанта, смотрю, нет. Спрашиваю, где он? Отвечают, что его перевели в одиночную, что был над ним суд и его за политические преступления и за убийство пяти человек осудили на смертную казнь. Уходя, говорят мне, велел вам сказать, что крестика вашего с себя не снял и просил, не можете ли вы похлопотать, чтобы вам разрешили с ним свидание: он очень бы хотел вас перед смертью видеть.
Страшно на меня подействовало это сообщение, и я решила с Божией помощью, как бы ни было это трудно, добиться с ним свиданья. Разрешение это было дано, и тут я узнала, что имя ему Иларион, что его долго разыскивали и что он, наконец, был захвачен на квартире своей родной сестры, где при аресте его полицией и жандармами стрелял и, попав в живот своей беременной сестры, убил в ней ребенка. Это и было его пятым убийством. Словом, из всего было видно, что он был тяжкий преступник, что смертная казнь была для него вполне заслуженным наказанием, и тем не менее сердце мое влеклось к нему, чая и в его душе увидеть восстановление образа Божия.
Когда меня ввели в одиночную камеру, где за-. ключей был Иларион, то вслед за мною захлопнули и заперли на замок входную дверь, оставив меня с ним с глазу на глаз. В первое мгновение мне стало страшно и я едва не раскаялась, что пошла на это свидание. Осмотрелась и вижу, что Иларион, скованный по ногам и при входе моем лежавший на койке, начал вставать и уже спускает ноги, лязгая кандалами… Жутко мне стало…
– Спасибо, что пришли, – услышала я голос, – а я боялся, что не придете. Спасибо! Я ведь креста вашего не снял: вам передавали это?
– Передали!
– Спасибо и им! Вы уже, вероятно, знаете, что я присужден к смертной казни и дни мои сочтены. Скажите, вы ведь всё так хорошо тогда там, в больнице, толковали, не растолкуете ли мне, что означает сон, который здесь я видел? Вижу я, что я где-то в каком-то чрезвычайно грязном месте, – ни то в болоте, ни то еще где-то того хуже, и весь я измарался, ни одного не осталось у меня места на теле не грязного, только ноги мои остались белы. Что бы это значило? Не понимаю, но чувствую, что сон этот к чему-то: такое уж он сильное по себе оставил впечатление. Не растолкуете ли вы мне его?
И почувствовала я, что в разрешении этого вопроса заключено нечто чрезвычайно важное для души Илариона и от правильности его толкования не по своему человеческому ограниченному пониманию, а по внушению свыше зависит, быть может, даже крупный поворот этой озлобленной и грешной души от тьмы к свету, от диавола к Богу. Так же мгновенно, как в голове у меня мелькнула эта мысль, сердце мое с молитвой о вразумлении обратились к Богу…
– Я думаю, Иларион, – ответила ему я, – что сон этот дарован вам свыше, чтобы показать вам, что как бы вы не были грешны перед Богом и людьми, но и для вас есть милосердие Божие, при условии, однако, уже начавшегося вашего к Нему покаянного обращения, – вы ведь не сняли с себя данного вам креста. На ногах ваших, даже во время вашей болезни, лежали железа оков, причиняя вам тяжкое страдание, и вот ноги ваши как очищенные страданием и показаны вам были белыми. Не назначена ли вам свыше смертная казнь и ее муки в конечное очищение, как крест благоразумному разбойнику, чтобы и вам с ним вместе быть в раю? Скажите только тоже с ним вместе то, что и он: сперва “Я осужден справедливо, потому что достойное по делам моим приемлю”, а потом “Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем!”
Говорю я ему это, а сама едва удерживаю рыдание к горлу подступившего неизъяснимого сердечного умиления, почти восторга. Взглянула на Илариона, а у него по бледным щекам тихо скатываются две слезинки, как две крупные жемчужины… Он склонил голову и на мгновение молча задумался.
– Вы правы, – промолвил он, – мне надо пострадать, надо искупить все зло, что я наделал. Спасибо вам: вы великое для меня дело сделали – вы новый мир для меня открыли. Жить мне теперь не для чего на земле, а что осталось в моем распоряжении от жизни, то надо отдать на крест последнего предсмертного страдания. Помяни мя. Господи, во Царствии Твоем.
Вы, конечно, поймете, – обратилась ко мне и к жене Елена Андреевна, – что тут произошло в моем сердце. Я могла бы чрез митрополита Антония ходатайствовать о помиловании Илариона, о замене ему смертной казни другим наказанием, но у меня в то время даже и помысла о том не явилось: так сильно было действие внушения свыше о великой тайне искупления души временным страданием тела ради вечного ее блаженства, что язык не повернулся бы сказать об этом Илариону.
А он тем временем продолжал:
– Я не подам теперь обычного в моем случае прошения о помиловании. Попросите ко мне тюремного священника, мне надо очистить душу покаянием и принять, если буду удостоен. Святые Тайны – только бы удостоил Господь!.. И еще к вам последние две просьбы: первая – молитесь за меня, а вторая – есть у меня невеста. Она не знает ни моего настоящего имени, ни моего преступного прошлого. Я бы хотел ее видеть перед смертью и попросить прощения за все зло, что причинил ей и своей любовью, и своими делами. Не откажите же в этих последних просьбах умирающему!
На этом мы обнялись оба в слезах с Иларионом и простились навеки, до встречи в вечности. Прошу и вас обоих, – обратилась к нам Елена Андреевна, – молиться за душу раба Божия, на кресте покаявшегося благоразумного разбойника Илариона.
– Что же сталось с его невестой? – спросили мы. – Видели вы ее?
– Видела. Обыкновенная простая девушка. Я ее нашла и передала ей последнее желание того, кто считал себя ее женихом, и вручила ей разрешение на свидание с ним. Они, я знаю, виделись, но, судя по тому впечатлению, которое она произвела на меня после свидания, я ее тогда видела, я не думаю, чтобы ее озлобленное сердце могло бы когда-либо простить осуждение Илариона осудившим его. Она мне показалась страшной в своей окаменелой ненависти. Спаси ее, Господи!
По слову Елены Андреевны мы с женой поминаем на молитве о упокоении раба Божия Илариона.
Помяни его и ты, дорогой мой читатель!
IV. Княжна Мария Михайловна Дондукова-Корсакова и прозорливость старца отца Варсонофия
Елена Андреевна, как уже было сказано выше, была помощницей княжны Марии Михайловны Дондуковой-Корсаковой, тоже рабы Божией, какую не часто можно встретить на этом свете. Родная сестра бывшего наместника Кавказа, она и происхождению своему и по связям принадлежала к высшему обществу, и несмотря на это, оставила “вся красная мира” во имя любви к Богу и ближнему. Замуж она не пошла и всю себя отдала на служение страдающему меньшому брату. В родовом дондуковском имении она устроила лечебницу для сифилитиков, в которую преимущественно принимались так называемые “жертвы общественного темперамента”. Забывая себя, врожденную брезгливость, эта чистая, сострадательная душа сама обмывала им отвратительные гнойные раны, делала перевязки, не гнушалась никакой черной работой около этих несчастных страдалиц. Она же стояла и во главе Петербургского благотворительного тюремного комитета. Живя всем существом своим только для других, она о себе настолько забывала, что одевалась чуть не в рубище и часто бывала жертвой паразитов, которыми заражалась в местах своего благотворения. К сожалению, вращаясь с молодых лет в обществе, где проповедовали свои и заморские учители вроде Редстока, Пашкова и других, она заразилась иргвинизмом, сектой крайнего реформаторского толка, отрицающей веру в угодников Божиих и даже в Пресвятую Богородицу. Это очень огорчало православно верующую душу Елены Андреевны, но что не предпринимала она для обращения княжны в Православие, ничто успеха не имело, потому, главным образом, что сама княжна, несмотря на чисто сектантские свои суждения о вере, сама себя считала вполне православной, ходила в церковь, говела и причащалась… Одно близкое к ней лицо, узнав, что она приступала к Святым Тайнам, и зная ее заблуждения, спросило ее:
– А исповедовали ли вы, Марья Михайловна, свое заблуждение?
– Какое?
– Да что вы – иргвинистка.
– Да я этого, – ответила княжна, – и за грех не считаю.
Конечно, при таком образе мыслей мудрено было Елене Андреевне действовать на княжну словом убеждения и пришлось ее любви обратиться к иному способу воздействия – к помощи свыше.
Приехала она как-то в Оптину к своему старцу отцу Варсонофию и к нам и рассказывает, что, уезжая из Петербурга, она оставила княжну опасно больною с сильнейшим воспалением легких, а шел княжне тогда уже восьмой десяток.
– Прощаюсь с ней, – говорит, – и думала, что не застану ее больше в живых!
Отцу Варсонофию Елена Андреевна и раньше говорила о своей скорби, что не может вдохнуть в святую душу княжны разумение ее заблуждения и потому боится за ее участь в загробном мире. Отец Варсонофий обещал за нее молиться.
В этот свой приезд Елена Андреевна, рассказав о том, в каком ныне состоянии оставила она княжну в Петербурге, усиленно просила старца усугубить за нее молитвы.
Перед отъездом из Оптиной обратно в Петербург приходит Елена Андреевна прощаться с отцом Варсонофием и принять его благословение на путь, а батюшка выносит ей в приемную из своей келий и подает икону Божией Матери и говорит:
– Отвезите эту икону от меня в благословение княжне Марии Михайловне и скажите ей, что я сегодня, как раз перед вашим приходом, пред этой иконой помолился о даровании ей душевного и телесного здравья.
Было же это около десяти часов утра.
– Да застану ли я ее еще в живых? – возразила Елена Андреевна.
– Бог даст, – ответил отец Варсонофий, – за молитвы Царицы Небесной не только живой, но и здоровой застанете.
Вернулась Елена Андреевна в Петербург и первым долгом к княжне. Звонит. Дверь отворяется и в ней княжна: сама и дверь отворила, веселая, бодрая и как неболевшая.
– Да вы ли это? – глазам своим не веря, восклицала Елена Андреевна. – Кто же это воскресил вас?
– Вы, – говорит, – уехали, мне было совсем плохо, а там все хуже, и вдруг, третьего дня около десяти часов утра, мне ни с того ни с сего стало сразу лучше, а сегодня, как видите, и совсем здорова.
– В котором часу, говорите вы, это чудо случилось?
– В десятом часу третьего дня.
Это был день и час, когда отец Варсонофий молился пред иконой Божией Матери, присланной княжне в благословение.
Со слезами восторженного умиления Елена Андреевна сообщила княжне бывшее и передала ей икону Царицы Небесной. Та молча приняла икону, перекрестилась, приложилась к ней и тут же повесила ее у самой своей постели. С того дня Елене Андреевне уже не было нужды обращать княжну в Православие: с верою в Пречистую и угодников Божиих дожила княжна свой век и вскоре отошла ко Господу. Жила и умерла по-православному.
V. Елена Андреевна Воронова. Ее исцеление
У Елены Андреевны при общем слабом состоянии здоровья было очень слабое зрение: один глаз совсем не видел, и лучшие столичные окулисты ей говорили, что не только этому глазу уже никогда не вернуть зрения, но что и другому глазу угрожает та же опасность. И бедная Елена Андреевна с ужасом стала замечать, что и здоровый ее глаз тоже начал видеть все хуже и хуже…
Стоял лютый февраль, помнится, 1911 года. Приезжает в Оптину Елена Андреевна слабенькая, чуть живая.
– Что это с вами, дорогой друг?
– Умирать к вам приехала в Оптину, – отвечает полусерьезно-полушутя всегда и при всех случаях жизни жизнерадостный друг наш; и тут же нам рассказала, что только что перенесла жестокий плеврит (это с ее-то больными легкими!).
– Но это все пустяки! А вот нелады с глазами – это будет похуже. Боюсь ослепнуть. Ну да на все воля Божия!
На дворе снежные бури, морозы градусов в пятнадцать – Сретенские морозы, а приехала она в легком не то ваточном, не то “на рыбьем меху” пальтишке, даже без теплого платка; в руках старенькая, когда-то каракулевая муфточка, на голове такая же шапочка – все ветерком подбито… Мыс женой с выговором, а она улыбается:
– А Бог-то на что? Никто как Бог!
Пожила дня три-четыре в Оптиной, отговелась, причастилась, пособоровалась. Уезжает, прошается с нами и говорит:
– А наш батюшка (отец Варсонофий) благословил мне по пути заехать в Тихонову пустынь и там искупаться в источнике преподобного Тихона Калужского (Тихонова пустынь Капужской епархии. Славится чудотворным источником, подобным источнику преподобного Серафима Саровского).
Если бы не знали великого дерзновения крепкой веры Елены Андреевны, было бы с чего прийти в ужас, да к тому же и Оптина от своего духа успела нас многому научить, и потому мы без всякого протеста перекрестили друг друга, расцеловались, распрощались, прося помянуть нас у преподобного Тихона.
Вскоре после отъезда Елены Андреевны получаем от нее письмо из Петербурга, пишет:
“Дивен Бог наш и велика наша православная вера! За молитвы нашего батюшки отца Варсонофия я купалась в источнике преподобного Тихона при десяти градусах Реомюра в купальне. Когда надевала белье, оно от мороза стояло колом, как туго накрахмаленное. Двенадцать верст от источника до станции железной дороги я ехала на извозчике в той же шубке, в которой вы меня видели. Волосы мои мокрые от купанья превратились в ледяные сосульки. Насилу оттаяла я в теплом вокзале и в вагоне – и даже ни насморка! От плеврита не осталось и следа. Но что воистину чудо великое милости Божией и угодника преподобного Тихона, это то, что не только выздоровел мой заболевший глаз, но и другой, давно погибший, прозрел, и я теперь прекрасно вижу обоими глазами…”
Такова была наша Елена Андреевна. Такова была ее чудотворная вера.
VI. Номер Льва Толстого в оптинской гостинице.
Из записок В. М. Чихачева, товарища и сотаинника святителя Игнатия Брянчанинова
В один из своих приездов в Оптину приходит к нам Елена Андреевна бледная, взволнованная…
– Ах, какую я сегодня ужасную ночь провела!
– Что такое, что с вами?
– Всегда я останавливалась и останавливаюсь в гостинице отца Михаила и беру маленький номерок, к которому уже привыкла, а этот раз мне дали самый большой угловой. Он не по чину мне, и не люблю я таких, но остальные все были заняты, и мне не оставалось выбора… Помолилась я на сон грядущий, прочла все свое обычное правило, разделась, легла на диван, затушила свечку и при свете лампадки собиралась уже засыпать, как вдруг с чего-то мне стало страшно – почувствовала сердцем близкое присутствие нездешней злой силы. Открыла я глаза, взглянула и обомлела: весь номер наполнился бесами разной величины, и большими и малыми, и все эти страшилища, вид которых не поддается описанию, стали наступать на меня и лезть к моей постели. Я хочу перекреститься, хочу прочесть воскресную молитву и не могу ни руки поднять для крестного знамения, ни вспомнить слов молитвы. А чудовища хохочут страшным смехом и, глумясь над моим беспомощным ужасом, шипят змеиным шипом:
– Не можешь, не можешь, не вспомнишь!
И все ближе и ближе продвигаются к моей постели бесы… вот они уже совсем близко, почти касаются меня… И вдруг точно тяжесть с моей руки свалилась: я перекрестилась и громко воскликнула: “Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!” – бесы мгновенно исчезли. Нервное потрясение, однако, было так велико, что я почти до самого утра заснуть не могла.
– А знаете ли вы, – спросили мы, – что это за номер, в котором вы ночевали?
– Нет.
– Это тот номер, в котором останавливался Лев Толстой, когда перед смертью приезжал в Оптину.
– Ну тогда все понятно!
В записках сотаинника и товарища по школьному учению и по постригу в монашество святителя Игнатия Брянчанинова, Михаила Васильевича Чихачева, записано чудесное сновидение о епископе Игнатии, переданное С.И. Снессаревой. К бывшему случаю с Еленой Андреевной оно может служить чрезвычайно яркой иллюстрацией.
“В последнее свидание с преосвященным Игнатием, тринадцатого сентября 1866 года, – так передавала Чихачеву Снессарева, – он, прощаясь, сказал мне: София Ивановна, вам, как другу, как себе, говорю – готовьтесь к смерти, она близка. Не заботьтесь о мирском, одно нужно – спасение души! Понуждайте себя думать о смерти, заботьтесь о вечности!.. Тринадцатого апреля 1867 года в воскресенье (неделю Мироносиц) скончался преосвященный Игнатий в Николо-Бабаевском монастыре; я поехала на его погребение, совершившееся 5 мая… Невыразима словом грустная радость, которую я испытала у гроба его. В субботу 12 августа 1867 года ночью худо спала, к утру заснула. Вижу – пришел владыка Игнатий в монашеском одеянии в полном цвете молодости, нос грустью и сожалением смотрит на меня: “Думайте о смерти, – говорит он, – не заботьтесь о земном! Все это только сон, земная жизнь только сон…” На мое беспокойство о сыне владыка сказал: “Это не ваше дело: судьба его в руках Божиих! Вы же заботьтесь о переходе в вечность”. Видя мое равнодушие к смерти и исполнясь состраданием к моим немошам, он стал умолять меня обратиться к покаянию и чувствовать страх смерти… “Вы слепы, ничего не видите, и потому не боитесь, но я открою вам глаза и покажу смертные муки”.
Я стала умирать. О, какой ужас! Мое тело стало мне чуждо и ничтожно, как бы не мое, вся жизнь перешла в лоб и глаза; мое зрение и ум увидели то, что есть действительно, а не то, что нам кажется в этой жизни. Эта жизнь сон, только сон! Все блага и лишения этой жизни не существуют, когда наступает со смертью минута пробужденья. Нет ни вещей, ни друзей – одно необъятное пространство, а все пространство это исполнено существами страшными, непостигаемыми нашим земным ослеплением; они кишат вокруг нас в разных образах, окружают и держат нас. У них тоже есть тело, но тонкое, как будто слизь какая ужасная! Они лезли на меня, лепились вокруг меня, держали меня за глаза, тянули мои мысли в разные стороны, не давали перевести дыхание, чтобы не допустить меня призвать Бога на помощь. Я хотела молиться, осенить себя крестным знамением, хотела слезами к Богу, произношением имени Господа Иисуса Христа избавиться от этой муки, отдалить от себя эти страшные существа, но у меня не было ни слов, ни сил.
А эти ужасные кричали на меня, что теперь уже поздно, нет молитвы после смерти! Все тело мое деревенело, голова неподвижна, только глаза все видели и в мозгу дух все ощущал. С помощью какой-то сверхъестественной силы я немного подняла руку, но до лба не донесла; но на воздухе я сделала знамение креста – тогда страшные корчились. Я усиливалась не устами и языком, которые не принадлежали мне, а духом представить имя Господа Иисуса Христа, тогда страшные прожигались, как раскаленным железом, и кричали на меня: “Не смей произносить этого имени, теперь поздно!” Мука неописанная! Лишь бы на одну минуту перевести дыхание! Но зрение, ум и дыханье выносили невыразимую муку оттого, что эти ужасные страшилища лепились вокруг них и тащили в разные стороны, чтобы не дать мне возможность произнести имя Спасителя. О, что это за страданье!.. Опять голос владыки Игнатия: “Молитесь непрестанно, все истина, что написано в моих книгах.
Бросьте земные попечения, только о душе заботьтесь!” И с этими словами он стал уходить от меня по воздуху как-то кругообразно, все выше и выше над землею. Вид его изменялся и переходил в свет. К нему присоединился целый сонм таких же светлых существ, и все, как будто ступенями необъятной, невыразимой словами лестницы, как владыка по мере восхождения становился неземным, так и все, присоединившиеся в нему в разных видах, принимали невыразимо прекрасный солнцеобразный вид. Смотря на них и возносясь духом за этой бесконечной полосой света, я уже не обращала внимания на страшилищ, которые в это время бесновались вокруг меня, чтобы привлечь мое внимание на них новыми муками. Светлые сонмы тоже имели тела, похожие на дивные, лучезарные лучи, пред которыми наше солнце – ничто.
Эти сонмы были различных видов и света, и чем выше ступени, тем светлее. Преосвященный Игнатий поднимался все выше и выше. Но вот его окружает сонм лучезарных святителей, он сам потерял свой земной вид и сделался таким же лучезарным. Выше этой ступени мое зрение не достигло. С этой высоты владыка Игнатий еще бросил на меня взгляд, полный сострадания. Вдруг, не помня себя, я вырвалась из власти державших меня и закричала: “Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего преосвященного Игнатия и святыми его молитвами спаси и помилуй меня грешную!” Мгновенно все ужасные исчезли, настала тишина и мир. Я проснулась в жестоком потрясении… Никогда ничего я не боялась и охотно оставалась одна одинешенька в доме, но после этого сна несколько дней я чувствовала такой ужас, что не в силах была оставаться одна. Много дней я ощущала необыкновенное чувство на середине лба: не боль, а какое-то особенное напряжение, как будто вся жизнь собралась в это место. Во время этого сна я узнала, что когда мой ум сосредоточивается на мысли о Боге, на имени Господа Иисуса Христа, ужасные существа мигом удаляются, но лишь только мысль развлекается, в тот же миг они окружали меня, чтобы мешать моей мысли обратиться к Богу и молитве Иисусовой”.
Верующей душе Елены Андреевны было понятно, почему именно в номере Льва Толстого, а не в ином месте, было ей видение страшной сатанинской силы. Дай Бог, чтобы это понимание открылось и моему читателю!
Блаженная кончина Е.А. Вороновой. Неизреченный Огонь
Пришла, наконец, пора умирать и нашей дорогой праведнице. Месяца за три или четыре до ее праведной кончины мы с женой были в Петербурге и, конечно, у нее на Подрезовой улице Петербургской стороны. Елена Андреевна уже была больна: к ее коренной болезни легких присоединилась грудная жаба, и наша дорогая больная по временам задыхалась и тяжко страдала. Но когда приступы болезни утихали, она была все та же любвеобильная, жизнерадостная и духом бодрая Елена Андреевна, какою ее знали и любили все ее почитатели; только от всех ее “послушаний”, как она называла, между прочим, и дела своего тюремного благотворения, ей пришлось уже окончательно отступиться, передав их другим близким ей лицам.
В Петербурге мы прожили недолго и с великой грустью распрощались с дорогим нашим другом, сердцем предчувствуя, что прощание это навеки, до встречи на небесах, если удостоит Бог… Было это поздней осенью, а следующей весной она уже отошла в селения праведных к прежде нее отошедшим старцам ее Мефодию Псковскому и Варсонофию Оптинскому.
С начала Великого поста Елена Андреевна стала себя чувствовать очень плохо, припадки грудной жабы усилились и участились до того, что бедный друг наш, несмотря на все свое ангельское терпение, вынуждена была громко стонать и жаловаться Богу на нестерпимые муки. Стонет она в своих невыразимых страданиях и все причитывает:
– Господи, прости меня! Тяжело мне. Господи! Но я не ропщу, не ропщу я, Господи, пошли мне, нетерпеливой, терпенья!
И в таких муках она неисходно пребывала от первой недели Великого поста до Великого Понедельника Страстной седмицы. В этот день после особенно тяжелого припадка она вся точно просветлела и говорит подруге своей зрелой жизни, с которой под одной кровлей скоротала не менее, если не более тридцати лет:
– Соня! я умру в Великую Пятницу.
– Что ты, что ты, с чего ты это взяла? Ты еще, Бог милостив, скоро поправишься, и мы с тобой в Крым поедем.
– Нет, Соня, в Великую Пятницу я умру непременно.
– Откуда ты это знаешь?
– Мне это Сам Господь сказал: я Его видела. Он явился мне и сказал: “У тебя доброе сердце, так потерпи до Пятницы: в день Моего распятия умрешь и ты”.
Подруга Елены Андреевны, София Ивановна Разумная, спросила, не веря слуху своему:
– Как же ты видела Господа?
– Это рассказать и объяснить невозможно: это выше человеческого разумения.
Как сказала, так в Великую Пятницу и умерла. В день крестных страданий Своих и смерти крестной Господь по обещанию Своему взял нашу праведницу в Свои вечные обители, страдания ее приняв как искупительную жертву за те преступные души, которые ее доброму и великодушному сердцу обязаны были своим покаянием и спасением.
– У тебя доброе сердце: потерпи до Пятницы. Она и претерпела… до конца… “Претерпевший до конца, той спасется”. Спасая ближнего – а ближнего она умела находить даже на самом дне человеческого греха и злобы – она спасла и его и себя и удостоилась чести в страданиях и смерти своего Спасителя и Господа и, стало быть, в Его воскресении.
Это ли не венец мученичества? Это ли не венец правды Божией!..
И какое для нас счастье, что мы не только были знакомы с этим земным Ангелом, но и считались ею в числе ее ближайших друзей!
За венец терпения ее и любви помилуй, спаси нас, всешедрый и человеколюбивый Господи!..
Она страдала до двенадцати часов ночи Великой Пятницы, когда страдания ее прекратились. Она затихла, стала ровнее дышать, попросила все свои святыни. Положили ей крест на грудь. Она сама, своей рукой, закрыла себе глаза и больше их не открывала и тихо опочила. Была она все время в памяти, обо всем продумывала и даже извещение о своей смерти за три дня написала. Почерк был твердый и ясный… После ее кончины пришел пристав и, кроме носильного платья, ничего не нашлось. Скончалась она 8 апреля 1916 года.
В летописи Серафимо-Дивеевского женского монастыря есть одно чрезвычайно трогательное и важное сказание о праведной кончине Елены Васильевны Мантуровой, сестры великого мирского послушника преподобного Серафима Михаила Васильевича Мантурова. Вот что сообщается в этом сказании.
Трое суток до смерти Елена Васильевна была постоянно окружена видениями и для непонимающих людей могло казаться, что она в забытьи.
– Ксения! Гости будут у нас! – вдруг произнесла она, – смотри же, чтобы у нас все было здесь чисто.
– Да кто же будет-то, матушка? – спросила Ксения, ее крепостная бывшая слуга и послушница.
– Кто!?. Митрополиты, архиереи и весь духовны и причт.
В день смерти Елена Васильевна опять говорила:
– Ксения! Не накрыт ли стол-то? Ведь скоро гости будут…
Умирающая была окружена образами. Вдруг, вся изменившись в лице, радостно воскликнула:
– Святая Игумения! Матушка! Обитель-то нашу не оставь!
Долго-долго со слезами молилась умирающая, и все об обители, много, но не связно говорила она, а затем совершенно затихла. Немного погодя, как бы очнувшись, она позвала Ксению, говоря:
– Грядет, грядет!.. Вот и Ангелы, вот и мне венец и сестрам венцы. Видя и слыша все это, Ксения Васильевна в страхе воскликнула:
– Матушка! Ведь вы отходите, я пошлю за батюшкой!
– Нет, Ксенюшка, погодите еще! – сказала Елена Васильевна, – я тогда сама скажу вам.
Много времени спустя она послала за отцом Василием Садовским, пособоровалась и причастилась Святых Христовых Тайн…
По уходе отца Василия Ксения, видя, что Елена Васильевна вдруг вся просветилась и отходит, испуганно к ней бросилась и стала молить ее:
– Матушка!., тогда… нынче ночью-то я не посмела тревожить и спросить вас, а вот вы теперь отходите… скажите мне, матушка. Господа ради, скажите: вы видели Господа!
– Б-о-г-а ч-е-л-о-в-е-к-а-м невозможно видети, на Негоже не смеют чини ангельские взирати! – тихо и сладостно запела Елена Васильевна. Но Ксения продолжала молить, настаивать и плакать. Тогда Елена Васильевна сказала:
– Видела, Ксения!
И лицо ее сделалось восторженное, чудное, ясное…
– Видела – как Неизреченный Огонь, а Царицу Небесную и Ангелов видела просто (Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. Издание второе. 1903 г. С-Петербург, стр. 419 – 423).
“Видела – как Неизреченный Огонь!” Как это изъяснить человеческим языком? Недаром наш дорогой почивший друг Елена Андреевна на подобный же вопрос своей “Ксении” ответила:
– Это выше человеческого разумения.
А современное человеческое безумие вопит: “Нет Бога! Кто Его видел?..”
На это оно и безумие.
I. Друг из Елабуги. Дар “на память” из рук почившего отца Иоанна Кронштадтского
Есть у нас в Елабуге сердечный друг, близкий нам по духу и вере человек, скромная учительница церковно-приходского училища Глафира Николаевна Лобовикова. Близка она была любовью своей и верой к великому молитвеннику земли русской, отцу Иоанну Кронштадтскому. Не потому близка она была ему, что жила под одною с ним кровлею, – она и виделась-то с батюшкой на всем своем веку раза два-три, не более, – а по вере своей, по которой она имела от него, наверно, больше из многих тех, кто неотступно следовал за батюшкой в его всероссийских странствованиях. С этой рабой Божией наше знакомство долгое время было заочным, по переписке, вызванной интересом ее к моим книгам. Минувшим летом она из далекой своей Елабуги приехала на богомолье в Оптину и здесь мы с нею и познакомились. Последним ее этапом перед Оптиной был Вауловский скит недалеко от Ярославля, где в то лето начинала уже угасать святая жизнь великого Кронштадтского молитвенника. Из Оптиной по пути в Елабугу она хотела опять заехать в Баулов к батюшке.
– Будете у батюшки, – сказал я ей, – кланяйтесь ему от всех нас в ножки и попросите у него мне что-нибудь из его вещей или из старой его одежды на память и благословение.
Какое имел для души моей значение кронштадтский пастырь, видно из книги моей “Великое в малом”; Елабужскому другу просьба моя была понятна.
Десятого июля прошлого года я получил от нее письмо, в котором она пишет так.
“Здравствуйте мои дорогие Сергей Александрович и Елена Александровна! Спешу поделиться своей радостью и вкупе вашей. Первого июля в восемь часов утра пароход подошел к конторке, я выхожу и узнаю, что батюшка отец Иоанн на Святом Ключе в имении купцов Стахеевых в семнадцати верстах от Елабуги. Я сейчас же багаж сдала конторщику, где Стахеевский пароход ожидал гостей, которые были приглашены. Первым долгом увидала Филиппа Гр. Стельхамовича с семьей. Все были рады, что я подоспела и еще увижу батюшку. К обедне мы уже не успели. Батюшка уже отслужил. Когда батюшка меня благословил, то я ему под ухо говорю, что Сергей Александрович Нилус шлет вам земной поклон и просит вашего благословения. Батюшка говорит: “Передай ему, что я глубоко, глубоко уважаю его и люблю его любовью брата во Христе”. Я говорю ему: “Батюшка, ему хочется что-нибудь получить от вас на память”. – “К сожалению, у меня ничего нет здесь”.
Целый день почти я была с ним. Вечером была всенощная, правило. Все исповедовались у священника, батюшка не служил всенощную. На следующий день успели человек тридцать у него приобщиться, а тут Святых Даров не хватило – и остались. Я, слава Богу, приобщилась. В одиннадцать часов батюшка сел на пароход Стахеева. Хозяйка парохода предложила мне батюшку проводить до Казани. Ну, я думаю, вы представляете себе мою радость. Моя заветная мечта была, чтобы когда-нибудь с батюшкой ехать, и вдруг она осуществляется. Стахеева послала свой пароход на Шексну в Леушинский монастырь, где был батюшка. С ним приехала игумения с шестью певчими монашками. С батюшкой был иеромонах отец Феофан и две дамы: Вера Ив. и Екат. Ив. Те же самые поехали обратно, но только присоединились до Казани. Еще Филипп Григорьевич и я, грешная, удостоились ехать.
На другой день около Казани пароход остановился. Батюшка служил обедню. Батюшке позволено иметь походную церковь. Все приобщились, и я тоже. За обедней батюшка плакал, часто слезы утирал. Господи, Господи! Такой праведник плачет, так нам-то нужно рыдать от множества прегрешений. Я все плакала, жаль было расставаться. Хоть бы пароход на мель сел, еще бы хоть минута расставания продлилась! Пароход уже подходил к самой Казани. Батюшка вышел из каюты, я встала на колени и прошу благословения. Он благословил меня. Я ему подаю записочку, где написала, что мне нужно. Батюшка говорит: “Хорошая просьба! Хорошее желание!” Встаю и говорю: “Батюшка, что благословите написать Сергею Александровичу и Елене Александровне Нилусам?” – “Передай, что я их крепко люблю. Хорошо Нилус пишет: я с великим удовольствием прочитал его сочинения. Его сочинения чистый алмаз”. – “Батюшка, ведь они оба очень хорошие, религиозные и гостеприимные”. А батюшка говорит: “От хорошего дерева хорошие и плоды”. – “Батюшка, – говорю, – благословите их!” Он снял шляпу, перекрестился и говорит: “Бог их благословит”. Да я еще ему говорю, что Сергей Александрович еще три тетради написал и будет издавать. – “Скажи, скорее бы издавал да мне прислал прочитать”.
Видно, дорогой батюшка не думает долго жить. Глядя на него думается, как и чем живет: такой худенький, слабенький.
Простите. Остаюсь любящая вас
Глафира Лобовикова”.
Сегодня день памяти преподобного Серафима Саровского. Мы с женой вдвоем ходили и к утрени, и к обедне. В этот знаменательный и любимый наш день мы получили из Петербурга от одного близкого родственника жены письмо и в нем небольшую веточку buxus’a с несколькими листочками; во время заупокойного бдения накануне погребения отца Иоанна веточка эта была вложена в руку покойного и в ней лежала все время, пока шло бдение.
При жизни своей у батюшки не нашлось под руками, что прислать мне на память, а по смерти эту “память” он прислал мне из собственных своих ручек, да еще через такое лицо, которое и знать-то ничего не могло о моем желании.
Еще замечательное совпадение: книга моя “Великое в малом”, посвященная отцу Иоанну Кронштадтскому, так много говорит о преподобном Серафиме Саровском, что повествованием о нем, можно сказать, наполнена едва ли не четвертая часть ее первого тома. И вот в день преподобного шлется мне зеленая ветвь на память от того, кому с такой любовью и верой был посвящен мой первый опыт посильного делания на пожелтевшей уже и близкой к жатве ниве Христовой. Я не признавал никогда и не признаю случайного во внешнем, видимом мире, тем менее – в мире духовном, где для внимательного и верующего все так целесообразно и стройно. Не отнесу и этого важного для меня события к нелепой и не существующей области случайного…
Да не будет!
7 марта
Опять в Оптиной. Сновидение отца Варсонофия. Нечто от “клеветы человеческой”. Слова отца Егора Чекряковского. Отец Варсонофий о “Троицком Слове”. Отец Нектарий и помещица-пустынножительница. Не грозится ли небо?
Ходили с женой на благословение к отцу Варсонофию. Е.А. Воронова слышала от него, что он в ночь с середы семнадцатого февраля на четверг восемнадцатого видел сон, оставивший по себе сильное впечатление на нашего батюшку.
– Не люблю я, – говорил он Елене Андреевне, – когда кто начинает мне рассказывать свои сны, да я и сам своим снам не доверяю. Но бывают иногда и такие, которых нельзя не признать благодатными. Таких снов и забыть нельзя. Вот что мне приснилось в ночь с семнадцатого на восемнадцатое февраля. Видите, какой сон, – числа даже помню!.. Снится мне, что я иду по какой-то прекрасной местности и знаю, что цель моего путешествия – получить благословение отца Иоанна Кронштадтского. И вот взору моему представляется величественное здание, вроде храма, красоты неизобразимой и белизны ослепительной. И я знаю, что здание это принадлежит отцу Иоанну. Вхожу я в него и вижу огромную как бы залу из белого мрамора, посреди которой возвышается дивной красоты беломраморная лестница, широкая и величественная, как и вся храмина великого кронштадтского пастыря. Лестница от земли начинается площадкой, и ступени ее, перемежаясь такими же площадками, устремляются как стрела прямая в бесконечную высь и уходят на самое небо. На нижней площадке стоит сам отец Иоанн в белоснежных, ярким светом сияющих ризах. Я подхожу к нему и принимаю его благословение. Отец Иоанн берет меня за руку и говорит:
– Нам надобно с тобой подняться по этой лестнице!
И мы стали подниматься. И вдруг мне пришло в голову: как же это так? ведь отец Иоанн умер, как же это я иду с ним, как с живым? С этою мыслью я и говорю ему:
– Батюшка! Да вы ведь умерли?
– Что ты говоришь? – воскликнул он мне в ответ. – Отец Иоанн жив, отец Иоанн жив!
На этом я проснулся… Не правда ли, какой удивительный сон? – спросил Елену Андреевну отец Варсонофий. – И какая это радость услыхать из уст самого отца Иоанна свидетельство непреложной истинности нашей веры! Елена Андреевна надумала, было, просить благословения у старца напечатать это благодатное видение. Старец даже за голову схватился…
– Помилуй вас Бог! Не для печати это вам рассказано, а для вашего назидания. И не думайте этого печатать (Запрет этот наложен был на Е.А. Воронову, а не на меня, да к тому же теперь и Е.А., и старец отец Варсонофий – оба покойники, и таить благодатного этого сновидения теперь нет причины).
Принял нас наш батюшка с обычной для него лаской, усадил меня на диван в той комнатушке своей келий, которую он трогательно величает “зальцей”, и стал мне говорить о той радости, которую испытало его сердце от прочтения № 1-го “Троицкого Слова”, издаваемого под редакцией епископа Никона (1910-й год был первым годом издания “Троицкого Слова”).
– Вот это хорошо, мудро! – восторгался он. – Это доброе слово.
Вдруг батюшка прервал речь свою…
– А знаете ли, – сказал он, – против вас начинается восстание, да еще какое восстание-то!
– Откуда, батюшка?
– И извне, и извнутри, со стороны одной партии…
На этом слове в келию вбежал один из скитских послушников, письмоводитель батюшки, с тревожным возгласом:
– Батюшка! ему так плохо, что едва ли он уже не кончается!..
– Ну давай скорее епитрахиль и одеваться, – заторопился батюшка, – а с вами, С. А., уже до другого, видно, раза.
Батюшка благословил меня и поспешно вышел.
– Кто же это кончается? – спросил я письмоводителя.
– Наш отец И.
* * *
Не один уже раз с конца прошлого года начинал заводить со мною старец речь о “клевете человеческой”, и всякий раз беседа наша на эту прискорбную тему прерывалась на начальном полуслове столь же неожиданным образом. Знаю, что там, где-то в пространстве, кто-то что-то замышляет против нашего оптинского уединения, но кто и почему – так и не удается мне дознаться от своего старца.
– Годочка два, ну три поживете, – говорил нам в 1907 году отец Егор Чекряковский, благословляя нас на поселение в Оптиной. Два года исполнилось, начинаем жить третий, и “кто-то” уже начинает подрывать наши корни в святой земле оптинской.
Тому, видно, быть – не миновать! Буди воля Божия.
Вернувшись из скита домой, застали целое общество, в том числе дорогого духовного друга отца Нектария и одну помещицу, духовную дочь старца отца Амвросия, поселившуюся жить ради Оптиной и ее старцев в лесной сторожке соседнего с Оптиной помещика К-на.
– Мне К-на говорила, – так за беседой у самоварчика сказывала нам пустынножительница-помешица, – что по милосердию и любви Божией все, даже нераскаянные злодеи и отступники, скорбями и земными страданиями спасутся. Мне это кажется правильным. Как думаете об этом вы, отец Нектарий? – обратилась она к нашему другу.
– Два, – ответил он кратко, – разбойника висело на крестах рядом со Спасителем, а в рай вошел только один.
– Ах, какая правда! – воскликнула она. – Как же это мне-то не пришло в голову так ответить К-ной?
Оттого и не пришло, подумалось мне, что ты, матушка, не отец Нектарий…
Посидели гости наши и вскоре ушли, а мы в свою очередь оделись и отправились вдвоем с женой гулять мимо заветных старческих могилок в чудный монастырский лес. Было уже довольно поздно. Солнце склонялось к закату; небо было покрыто мрачными тучами; кое-где на западе их пронизывали сверкающие, прощальные лучи заходящего солнца. Было довольно холодно и ветрено… От могилок великих старцев мы пошли по направлению к скиту. В это мгновение солнце ударило из-под туч косыми лучами по верхам архимандритского корпуса, канцелярии и братских келий и заиграло на них таким густым, ярко-малиновым огненным светом, что мы остановились как зачарованные пред красотой волшебных красок, каких не найти ни на какой палитре. А когда мы вышли за ограду и обернулись еще раз взглянуть на монастырь, то даже ахнули от изумления: весь верх архимандритского корпуса стороною, обращенной к солнцу, горел, как пламенеющий уголь. Незабываемо-красивое и вместе почему-то жуткое было это зрелище… Но что творилось в это время в лесу, осеняющем скитскую дорожку, того ни в сказках сказать, ни пером описать невозможно. Лес горел; каждое его дерево горело и сквозило огнем, как сквозит и пламенеет полоса железа, только что вынутая из горна кузнечными клещами. Деревья не отражали кроваво-огненных лучей заката, а насквозь ими светились своим внутренним огнем. Это был пожар леса, но без дыма, без треска и шума пожара. До чего же это было красиво и… страшно, и глаз невозможно было оторвать от этой волшебной картины!
Не грозит ли небо духовным пожаром дорогой обители? Не огонь ли небесный готовится свыше излиться на мир великого отступления? Не оттого ли так и страшно и жутко стало моему бедному, робкому человеческому сердцу?
Как знать?..
“В чем застану, в том и сужу”
К читателю
В бедах и скорбях, тесным кольцом великой тяжести сдавивших со всех сторон твое странствованье по путям и распутиям жизни, столь осложнившейся в последнее время, задумывался ли ты когда-нибудь, читатель, о конечной и для всех живущих на земле единственно-общей цели всех земных трудов и усилий, всех горестей и радостей, радостей и надежд, любви и ненависти, добра и зла – всего, словом, того, из чего сплетается терновый венец твоей жизни? Да полно, знаешь ли ты даже, что это за цель такая? А если и знаешь, то помнишь ли о ней с той вдумчивостью, какой она по важности своей заслуживает?
Не думаю. Так позволь же мне, читатель мой и брат мой о Христе, напомнить тебе, кто бы ни был ты – народов ли повелитель иль нищий бездомный – что для жизни твоей нет иной цели, как – смерть, как приготовление к смерти.
О, слово и дело, великое и страшное! И как мало на свете людей, кто бы о нем думал!
“Помни час смертный и вовек не согрешишь”, – взывает к нам святая наша мать Церковь. “Вовек не согрешишь!” Слышишь ли, что говорит она? Забыли мы об этом, для всех неизбежном часе, и во что же грехами своими обратили мы теперь весь окружающий нас мир? Забыли думать о смерти, но она не забыла о нас и с силой ужасаюшей, все больше и яростнее день ото дня, час от часу все безжалостнее, вырывает она из рядов живых свои намеченные жертвы: война, голод, болезни, землетрясения, страшные и внезапные наводнения, общественные и семейные раздоры, доходящие до кровопролитий, в которых сыновья поднимают руку на отцов и матерей, брат на брата, мужья на жен, жены на мужей; междуусобная брань, в которой общественные отбросы и увлеченная богоборным учением обезумевшая молодежь наша в безумном ослеплении восстает на власть придержащую и на всех, кто живет по заповедям Божиим, а не по стихиям мира. Льется кровь потоками, и коса смерти пожинает такую обильную жатву, что сердце стынет от холодного ужаса. Наступают, по-видимому, времена, о которых верные христиане предупреждены грозным словом Святого Писания, что “до узд конских будет кровь тогда” и “если бы не сократились дни те ради избранных”, то не было бы спасения “никакой плоти”. И тем не менее, видят все это люди, видят все ужасы смерти, и мало кто думает о смерти; как будто, временно остающиеся в живых, одни они имеют какой-то, им одним известный, залог вечной жизни на земле и только те, которые умирали, предназначены к смерти.
Нет, друг мой читатель, и тебе, и мне, и всему живущему на земле определено “единою умрети, а затем – суд”. Не обманывает тебя Богом в тебя заложенное предчувствие вечной жизни: она тебе дана, но только по смерти, как семени, которое “аще не умрет, не оживет”. Весь вопрос заключен в том, как умереть и как ожить? Умереть ли для вечной жизни в грехе и в муке греха или же для нескончаемой радости в блаженстве для правды, в вечном созерцании Источника всякой правды. Отца светов, Бога истинного?..
“В чем застану, в том и сужу…”
Люта смерть грешников… Страшно грешнику впасть в руце Бога Живого в том вожделенном мире, идеже лица святых и праведницы сияют, яко светила!.. Не войдет туда ничто от скверны плоти и духа.
И слышится мне в тиши моего уединения, как враг-диавол нашептывает внимающему речам моим:
– Не слушай его! Иди в след за образованным миром, который уже давно на основании науки и разума отверг все эти басни отжившего свой век христианства. Что имело смысл для младенчествовавшего и темного человечества, то “сознательным” человеком рассеяно как дым суеверия и невежества. Из рук своекорыстных жрецов алтаря вырвана теперь власть морочить людей угрозой вечной жизни по смерти в вечных муках, предназначенной будто бы для тех, которые рабски не следуют в этой жизни их правилам. Смотри, даже простой народ и тот уже понял, что он был окован в своей свободе, в свободном своем достоинстве человека, путами жреческой морали, на которой столько веков строилось рабство и угнетение личности во имя какой-то вечности в блаженстве, которой не видал никто, а все видели тиранию немногих над всеми, благополучие и довольство единиц, основанное на нищете, труде и горе миллионов. Довольно сказок о Царстве Небесном, нам подай по праву принадлежащее каждому царство земное!
Знакомые, лукавые речи! Кто только ни слыхивал их на своем веку и не только извне, но и в тайниках глубинных своего сердца!.. Но не прельщайся ими, читатель, они обманут тебя, как обманули и погубили уже многих, а последуй-ка лучше за мной в ту область, которая зовется миром своего и чужого опыта в духовной жизни, в мир наблюдений и воспоминаний как лично своих, так и тех людей, которые в той области тоже кое-что видели и наблюдали. Ведь и это тоже наука, но редко кто знает и хочет знать эту науку. Пойдем же, заглянем туда, где над нашим с тобой братом, русским человеком, таким же, как ты и я, уже пронеслось грозное дыхание смерти, где бесшумно, но таинственно и важно совершилось величайшее таинство перехода от жизни временной в жизнь вечную.
Пойдем же за мной туда, пока мы еще с тобою живы, пойдем хоть из простого любопытства!..
I. Праведная кончина инока
Передо мной лежит письмо, простое частное письмо от лица к лицу. Давнишнее уже письмо это, и время наложило на него печать разрушения: поблекли и пожелтели листы почтовой бумаги, повыцвели чернила; только любовь, которая его диктовала, все так же свежа, все так же благоухает, и время не имело власти над нею. Я знаю этих лиц, хотя они уже ушли из этого мира и я на его распутьях не встречался с ними, но я знаю их по рассказам о них от близких им по духу, по общности нашей с ними веры и любви, по вере и любви к тем обетованиям, в которые веровали они и в которые всем сердцем верю и я; они близки и дороги мне, эти лица, как воплощение чистейшего идеала и величия духа простых сердцем русских людей, былых строителей великой моей родины.
Пишет духовник Киево-Печерской лавры иеромонах Антоний к именитому курскому купцу Феодору Ивановичу Антимонову о последних днях жизни родного брата Феодора Ивановича, еклесиарха Великой Церкви архимандрита Мелетия (В миру Михаил Иванович Антимонов. Начало монашеству он положил в Предтеченском скиту Оптиной пустыни). Прочти его со мною вместе, мой дорогой читатель!
“Достопочтеннейший Феодор Иванович! Сообщаю вам Божие благословение как поручение вашего любезного брата и моего духовного друга отца Мелетия вам и всему вашему потомству, и всем родственникам вашим. Испросил я его у брата вашего от лица всех вас за восемь часов до блаженной его кончины, последовавшей 1865 года октября 17-го пополуночи в пять часов тридцать минут утра.
Последняя телеграмма передала вам роковую сию весть, столь близкую вашему сердцу. Я обещал писать вам подробно, но доселе замедлил. Причины замедления заключаются в том, что мне пришлось исполнить весь долг христианский в отношении дорогого усопшего: уход за ним во все время его предсмертной болезни, напутствие его к смерти, погребение и, наконец, шестинедельное по душе его служение Божественной литургии – все это лежало на моей обязанности. И теперь еще, до исполнения сорока дней со дня его кончины, я не свободен, так как ежедневно совершаю службу в Великой церкви за упокой души дорогого почившего. Поэтому не взыщите за недостаточную связность изложения – пишу вам урывками.
Велик и важен предмет, о котором я пишу вам и о котором я ежедневно сообщал отцу Исаакию (Родной брат отца Мелетия, настоятель Оптиной пустыни), ибо что может быть важнее для христианского сердца праведнической, безболезненной кончины христианина? А этим праведником и был покойный брат ваш.
Третьего октября, то есть в воскресенье, брат ваш служил в Великой церкви; служил с ним и я. Не могу вам объяснить того чувства, которое я испытывал при виде его воздвигающим во время Херувимской песни руки свои горе: он представился мне тогда, несмотря на то, что ничто не предуказывало его близкой кончины, праведнейшим мертвецом, именно мертвецом, а не живым и священнодействующим Божиим иереем. Но тогда на это впечатление моей души я не обратил должного внимания, а между тем это прозрение сердца через две недели осуществилось на самом деле.
Во вторник брат ваш служил соборную панихиду. Во время вечерни он в сухожилиях под коленями внезапно почувствовал боль. Боль эта продолжалась всю ночь по возвращении его в келию, а поутру она уже мешала ему свободно ходить; поэтому в среду у утрени он не был. Днем в среду он почувствовал упадок сил, особенно в руках и ногах; аппетит пропал и уже не вернулся к нему до самой его кончины.
В четверг был легкий озноб. Чтобы согреться, он по обычаю своему лег на печку, после чего у него сделался легкий внутренний жар. Все это время мы с ним не видались: я страдал от зубной боли, а он не придавал значения своему нездоровью, полагая его простым, не опасным недомоганием, и потому не давал мне знать. Только в пятницу вечером я узнал о его немощи.
Когда в субботу утром я увидал его лежащим на постели, то он вновь мне представился тем же мертвецом, каким он мне показался во время богослужения. С этой минуты я уже не мог разубедить себя в том, что он не жилец уже более на этом свете.
В этот день прибегли к лекарственным средствам, чтобы вызвать в больном испарину, но он, вероятно, чувствуя, что это для него бесполезно, видимо, принуждал себя принимать лекарство только для того, чтобы снять с окружающих нарекания в недостатке заботливости. С этого времени он слег окончательно, пищи не принимал, и даже позыв к питью в нем сокращался, как и самые дни его.
В понедельник над ним совершено было таинство елеосвящения. Святых же Тайн его приобщали ежедневно.
Во вторник ему предложили составить духовное завещание, на что он и согласился, чтобы заградить уста, склонные к кривотолкам. Затем ему было предложено раздать все оставляемое по завещанию имущество своими руками.
– А если я выздоровлю, – возразил он, – тогда я вновь, что ли, должен всем заводиться?
Я ему сказал:
– Тем лучше, что мы всю ветошь спустим; а что вам потребуется, то выберете в моей келий как свою собственность.
– Когда так, – сказал он, – тогда делайте распоряжение, какое вам угодно…
Со вторника истощение сил стало в нем быстро усиливаться. В среду я доложил о ходе его болезни митрополиту. Владыка посоветовал призвать главного врача. Я сказал об этом больному.
– Когда по благословению владыки, – сказал он, – то делать нечего – приглашайте.
В четверг его тщательно осматривал врач и дал заключение, обычное докторской манере: и да, и нет – и может выздороветь, и может умереть.
В пятницу больной после причащения Святых Тайн подписал духовное завещание и тогда же потребовал проститься со всеми своими сотрудниками и дать каждому из них на память и благословение какую-нибудь вещь из своих келейных пожитков. Я приказал собрать около кровати больного все вещи, предназначенные для раздачи, и сам, кроме того, принес из своей келий сотни три финифтяных образков. И когда стали допускать к нему прощаться, то прощание это имело вид, как будто отец какого-то великого семейства прощался со своими детьми. Этот вечер вся братия лаврская, каждый спешил проститься с ним и принять его благословение. Я стоял на коленях у изголовья больного и подавал ему каждую вещь в руку, а он отдавал ее приходящему. Уже более часу продолжалось это прощанье, и я, было, потребовал его прекратить, чтобы не утомить больного.
– Нет, – возразил он, – пусть идут! Это – пир, посланный мне милостью Бога.
Только ночь прекратила этот “пир”, и он им нисколько не утомился. Глубокой ночью он обеспокоился о нашем спокойствии и настоял, чтобы мы шли отдыхать…
Возвратясь в келию, я получил от вас депешу, с которой в ту же минуту прошел к больному и сказал ему, что я об угрожающей его жизни опасности известил вас, а отцу Исаакию каждый день сообщаю о ходе его болезни. Он тут много говорил со мной и благодарил меня за содействие к приготовлению его к вечности. Под коней он спросил меня:
– А знаешь ты Власову, монахиню в Борисовке?
– А что?
– Да вот, эту фольгову икону перешли ей. Ее имя – Агния. Этой иконой меня благословляла ее тетка, когда я ехал в Оптину пустынь, решившись там остаться. Икону эту я всю жизнь имел как дар Божий.
– Приказывайте, батюшка, – сказал я, – все, что вам угодно, – исполню все так, как бы вы сами.
– Да пока – только!
– А что чувствуете вы теперь? – спросил я.
– Да мне хорошо.
– Может быть, страх смерти?
– Да и того нет! Я даже удивляюсь, что я хладнокровно отношусь к смерти, тогда как я уверен, что смерть грешников люта; а я и болезни-то ровно никакой, ровно никакой не ощущаю: просто хоть бы у меня что-нибудь болело, и того не чувствую, а только вижу, что силы и жизнь сокращаются… Впрочем, может быть, неделю еще проживу…
Я улыбнулся. Он это заметил.
– О, и того, видно, нет?.. Ну, буди воля Божия!.. А скажите мне откровенно, как вы меня видите по вашим наблюдениям?
– Я уже сказал вам третьего дня, что вы на жизнь не рассчитывайте: ее теперь очень мало видится.
– Я вам вполне верю. Но вот досадно, что во мне рождается к сему прекословие… Впрочем, идите же, отдыхайте, вы еще не спали.
– Хоть мне и не хочется с вами расстаться, но надо пойти готовить телеграмму Феодору Ивановичу.
– Что ж вы ему будете передавать?
– Да я все же его буду ожидать хоть к похоронам вашим: все бы он облегчил мне этот труд, если бы он застал вас еще в живых и принял бы ваше благословение.
И много, много мы еще говорили, особенно же о том, чтобы расходы на похороны были умеренны.
– Да вы знаете, – сказал я, – что я и сам не охотник до излишеств; а уже что необходимо того, из порядка не выкинешь.
– Да, – ответил он, – и то правда!.. Ну, идите же, отдохните!
Я поправил ему постель и его самого, почти уже недвижимого, и отправился отдыхать.
Отец Гервасий пришел за мною в семь часов, чтобы я его приготовил к причащению Святых Тайн. Он его уже исповедовал в последний раз. Когда я стал его поднимать, он уже был почти недвижим; но когда я его поднял, он на своих ногах перешел в другую комнату и в первый раз мог сидя причаститься. После причастия он прилег и около часа пролежал покойно, даже как будто уснул. С этого часа дыхание его начало быть все более и более затруднительным, но он все же говорил, хотя и с трудом. В это время к нему заходил отец наместник. Надо было видеть, с каким сердечным сокрушением он прощался с умирающим! Со слезами на глазах он изъявил готовность умереть вместо него… Потом я ходил просить митрополита, чтобы он посетил умирающего, к которому он всегда относился с уважением. Не прошло и пяти минут после этого, как митрополит уже прибыл к изголовью больного, который при его входе хотел сделать попытку приподняться на постели, но не мог.
– Ах, как мне стыдно, владыко, – сказал он в изнеможении, – что я лежу пред вами! Вот ведь какой я невежа!
Архипастырь преподал ему свое благословение.
В продолжении дня многие из старших и младших приходили с ним проститься и принять его благословение, а мы старались, чтобы он своими руками дал каждому какую-либо вещь на память. Умирающему это, видимо, доставляло удовольствие, и он всякого встречал приветливой улыбкой, называя по имени. Заходило много и мирских; и тех он встречал с такою же приветливостью, а мы помогали ему раздавать своими руками, что было каждому назначено… Начался благовест к вечерне; он перекрестился. Я говорю:
– Батюшка! что, вам трудно?
– Нет, ничего-с!
– А как память у вас?
– Слава Богу, ничего-с!.. А что, приходящих теперь никого нету?
– Нет, все к вечерне пошли… Хороша лаврская вечерня!
– Ох как хороша! – сказал он со вздохом, – вам бы пойти!..
– Нет, я не пойду, у меня есть к вам прошение.
– Извольте-с!
– Теперь, – так стал говорить я, – уже ваши последние минуты, скоро душа ваша, может быть, будет иметь дерзновение ко Господу… то прошу вас, друг мой, попросите у Господа мне милости, чтобы мне более не прогневлять Его благости!
– О, если по вере вашей, – ответил он, – сподоблен я буду дерзновения, – это долг мой; а вы за меня молите Господа, чтобы Он простил все мои грехи.
– Вы знаете, какой я молитвенник, но при всей моей молитвенной скудости я всю жизнь надеюсь за вас молить Господа. Вы помните, какие степени проходила наша дружба? Но последние три года у нас все было хорошо.
– Да и прежде плохого не было!
– Позвольте же и благословите мне шесть недель служить Божественную литургию о упокоении души вашей в Царстве Небесном!
– О Господи! достоин ли я такой великой милости?.. Слава Тебе Господи! Как я этому рад! Спаси ж вас Господи!.. Да вот чудо: до сего времени нет у меня никакого страха!
– Да на что вам страх? Довлеет вам любовь, которая не имеет страха.
– Да! правда это!
– Вы, батюшка, скоро увидете наших приснопамятных отцов, наставников наших и руководителей к духовной жизни: батюшку отца Леонида, Макария, Филарета, Серафима Саровского (Все это современники отца Мелетия. Отец Леонид и Макарий – великие старцы Оптнной пустыни, почившие о Господе; первый 11 октября 1841 года, второй – 7 сентября 1860 года. Филарет – известнейший подвижник и схингумен Глинской пустыни, скончавшийся в 40-х годах прошлого столетия. Преподобного же Серафима ныне знает и чтит вся Православная Церковь)…
– Да, да!..
– Отца Парфения (Иеросхимонах и подвижник Киево-Печерской лавры), – продолжал я перебирать имена святых наших современников…
И он как будто уже переносился восторженным духом в их небесную семью…
– Да! – промолвил он с радостным вздохом, – эти все – нашего века. Бог милостив – всех увижу!
– Вот, – говорю я, – ваше время уже прошло; были и в вашей жизни потрясения, но они теперь для вас мелки и ничтожны; но мне чашу их придется испивать до дна, а настоящее время ими щедро дарит.
– Да – время тяжелое! Да и самая жизнь ваша, и обязанности очень тяжелы. Я всегда смотрел на вас с удивлением. Помоги вам Господи совершить дело ваше до конца! Вы созрели.
– Вашей любви свойственно так говорить, но я не приемлю, стоя на таком скользком поприще деятельности, столь близком к пороку, к которому более всего склонна человеческая природа (Духовничество. Отец Антоний был духовником лавры).
– А что, вы не забыли отца Исаакия? – спросил он меня.
– Нет!
– Вот, бедный, попался в ярмо! (Отец Исаакий, младший родной брат отца Мелетия, был избран и назначен настоятелем Оптиной пустыни в 1862 году. Об этом-то “ярме” и соболезнует умирающий) Ах, бедный, как попался-то! Бедный, бедный Исаакий – тяжело ему! Прекрасная у него душа, но ему тяжело… Особенно это время!.. Да и дальняя современность чем запасается? Страшно подумать!
– Вы устали? Не утомил ли я вас?
– Нет, ничего-с!.. Дайте мне воды; да скажите мне, каков мой язык?
Я подал ему воды и сказал, что он говорит еще внятно, хотя и не без некоторого уже затруднения.
– Вот, – прибавил я, – пока вы, хоть с трудом, но говорите, то благословите кого можете припомнить; а то и я вам напомню.
– Извольте-с!
Я подал ему икону и говорю:
– Благословите ею отца Исаакия!
Он взял икону в руки и осенил ею со словами:
– Бог его благословит. Со всею обителью Бог его да благословит!
Подал другую.
– Этой благословите Федора Ивановича, все его семейство и все их потомство!
– Бог его благословит!
И тоже своими руками осенил вас. Я ему назвал таким образом всех, кого мог припомнить; и он каждого благословлял рукою.
– Благословите, – сказал я, – Ганешинский дом!
– А! Это благочестивое семейство, благословенное семейство! Я много обязан вам, что мог видеть такое чудное семейство. Бог их благословит!
Итак, я перебрал ему поименно всех, и он всех благословлял, осеняя каждого крестным знамением. Потом я позвал отца Иоакима; он и его благословил иконою. Братия стала подходить от вечерни, и всех он встречал радостной и приветливой улыбкой, благословляя каждого. С иеромонахами он целовался в руку.
Было уже около десяти часов вечера. Он посмотрел на нас.
– Вам бы пора отдохнуть! – сказал он.
– Да разве мы стесняем вас?
– Нет, но мне вас жаль!
– Благословите: мы пойдем пить чай!
– Это хорошо, а то я, было, забыл напомнить. Когда мы возвратились, я стал дремать и лег на диван, а отец Гервасий остался около отца Мелетия и сел подле него. Скоро, однако, отец Гервасий позвал меня: умирающему стало как будто хуже, и мы предложили ему приобщиться Запасными Дарами.
– Да кажется, – возразил он, – я доживу до ранней обедни. Впрочем, если вы усматриваете, что не доживу, то потрудитесь!
Отец Гервасий пошел за Святыми Тайнами, а отец Иоаким стал читать причастные молитвы. Я опять прилег на диване.
В половине третьего утра его приобщили. Он уже не владел ни одним членом, но память и сознание сохранились в такой полноте, что, заметив наше сомнение, проглотил ли он Святые Тайны, он собрал все свои силы и произнес последнее слово:
– Проглотил!
С этого мгновенья началась его кончина. Может быть, с час, пока сокращалось его дыхание, он казался как будто без памяти; но я по некоторым признакам заметил, что сознание его не оставляло. Наконец остановился пульс, и он тихо, кротко, спокойно как бы заснул самым спокойным сном. Так мирно и безболезненно предал он дух свой Господу.
Я все время стоял пред ним, как пред избранником Божиим.
Многое я пропустил за поспешностью… Один послушник просил на благословение какую-нибудь вещь, которую он носил.
– Да какую? – спрашиваю.
– Рубашку!
– Рубашки он вчера все роздал.
– Да я ту прошу, которая на нем. Когда он скончается, тогда вы мне ее дайте: я буду ее беречь всю жизнь для того, чтобы и мне в ней умереть.
Я передал об этом желании умирающему:
– Батюшка! Вот брат Иван просит с вас рубашку на благословение.
– А что ж, отдайте! Бог благословит!
– Да это будет не теперь, а когда будем вас переодевать.
– Да, конечно, тогда!
– Ну теперь, – говорю, – батюшка, и последняя рубашка, в которой вы умираете, и та уже вам не принадлежит. Вы можете сказать: наг из чрева матери изыдох, наг и из мира сего отхожду, ничего в мире сем не стяжав. Смотрите: рубашка вам не принадлежит, постель взята у других, одеяло – не ваше, даже иконы и книжечки у вас своей нету!..
Он воздел руки к небу и, ограждая себя крестным знамением, со слезами промолвил несколько раз:
– О, благодарю Тебя, Господи, за такую незаслуженную милость!
Потом обратился к нам и сказал:
– Благодарю, благодарю вас за такое великое содействие к получению этой великой Божией милости!
Во всю его предсмертную болезнь – ее нельзя назвать болезнью, а ослаблением союзов души с телом – ни на простыне его, ни на белье, ни даже на теле не было ни малейшего следа какой бы то ни было нечистоты: он был сама святыня, недоступная тлению. Три дня, что он лежал в гробу, лицо его принимало все лучший и лучший вид.
Когда уже все имущество его было роздано, я вспомнил: да в чем же будем мы его хоронить?.. Об этом я сказал умирающему.
– Ничего-с, ничего-с! – успокоил он меня, – есть в чулане шестьдесят аршин мухояру (Грубая ткань ручной работы из черных шерстяных сученых ниток: ее работают обычно в женских монастырях, а носят только в строгих по жизни мужских и женских обителях). Прикажите сшить из него подрясник, рясу и мантию. Кажется, достаточно? Они ведь скоро сошьют!
Утром принесли все сшитым. Он посмотрел…
– Ну, – сказал он, – теперь вы будете покойны… Да вот еще: вы бы уж и гроб заказали, кстати; только попроще.
– Гроб у нас заказан.
– Ну, стало быть, и это хорошо!
Теперь я изложу вам о том, что происходило по блаженной кончине вашего праведного брата, то есть о погребении его честного тела.
Тридцать с лишним лет были мы с ним в теснейшем дружеском общении, а последние три года у нас было так, что мы стали как бы тело едино и душа едина. Часто он мне говаривал, чтобы погребение его тела происходило как можно проще.
– Какая польза, – говорил он, – для души быть может от пышного погребения?.. И при этом он высказывал желание, чтобы погребение его тела было совершено самым скромным образом. Я дружески ему прекословил в этом, говоря, что для тела, конечно, все равно, но для души тех, которые усердствуют отдать последний долг своему ближнему, великая в том польза; потому и святая Церковь усвоила благочестивый обычай воздавать усопшему поминовение в зависимости от средств и усердия его близких, а священнослужители, близкие покойному по родству или по духу, – совершением Божественной литургии по степени своего священства. Отцу Мелетию и самому такое проявление дружбы к почившим было приятно видеть в других, но для себя он уклонялся от этого как от почести незаслуженной по глубокому, конечно, внутреннему своему смирению.
Живой он удалялся от почести, но мертвый он не ушел от них – они его догнали во гробе!
Когда отец Мелетий заснул навеки, мы одели его в новые одежды, им самим назначенные на случай его погребения, а я распорядился писать телеграммы вам и в Москву. Отец Иоаким все это исполнил и еще мог написать отцу Исаакию и отцу Леонтию, а отец Гервасий – в Петербург. Когда принесли фоб, мы тотчас положили в него тело почившего и я начал панихиду; затем – другую и третью с разными предстоящими и певчими разных церквей. Когда стали отходить ранние обедни, то все иеромонахи наперерыв начали служить панихиды, которые непрерывно продолжались до самого выноса, последовавшего в половине третьего. В десять часов я с отцом Гервасием ездил в Китаев выбрать место для могилы, которое митрополит благословил выбрать “где угодно”. Мы назначили при входе в церковь, по левую сторону от передней двери, аршинах в шести, не более.
В три часа наместник с соборными иеромонахами и. с нами начал вынос, что очень редко бывает. Несли его в облачениях предстоящие иеромонахи. Гроб с останками почившего поставили в Предтеченский придел (Замечальное и знаменательное совпадение: отец Мелетий положил начало своему иночеству в Предтеченском скиту Оптиной путстыни, а начало вечной жизни – в храме, посвященном тому же святому имени. Таковы судьбы Божии (прим. сост.)), где я в понедельник служил со-борне литургию. Во вторник, в день погребения, по особенному изволению митрополита тело было перенесено в Великую церковь. Такого примера в наше время ни одного не было; только преосвященного Иоасафа, митрополита Филарета и князя Васильчикова отпевали в Великой церкви, да вот еще и нашего отца Мелетия, семнадцать лет и семь месяцев бывшего неусыпным блюстителем Великой церкви.
При переносе тела один иеромонах произнес краткую речь. На литургии после малого входа труженик был поставлен посреди церкви. Божественную литургию служил митрополит. На погребении был еще преосвященный Александр. Литургию пели митрополичьи певчие. Погребение начинали певчие, а антифоны пели лаврские клирошане, что придавало чину погребения необыкновенное величие. День был будний, но народу было как в двунадесятый праздник. Два иерарха со всем собором провожали гроб за святые врата. Против моей келий в память нашей дружеской любви гроб был поставлен и была совершена соборная лития. В проходе крепости встретились две команды солдат, которые пред погребальным шествием выстроились во фронте и отдали честь усопшему воину Христову барабанным боем, а трубачи проиграли на своих трубах. Всех удивило это: точно нарочно войска были поставлены для отдания почестей усопшему… Нашлось много усердствующих нести тело до места погребения, но так как от лавры до него будет десять верст, то я на это не согласился, потому что уже было два часа пополудни, скоро должны были наступить сумерки и ночь, да к тому же на двух мостах по пути стояла страшная грязь. Поставили гроб на монастырскую катафалку, а сами сели в экипаж и со многими усердствующими поехали в Китаев. В Китаеве гроб был встречен преосвященным Александром с литией. Отслужили в церкви соборную панихиду и так предали земле вашего достойного брата, память которого не умрет: он послужил достойным и святым украшением вашего рода.
Просил я его пред самой его кончиной молиться за вас и за весь род ваш пред престолом Божиим, если он будет иметь дерзновение у Господа. Он сказал:
– Надеюсь, надеюсь на благость Божию!
Это были его предсмертные слова…
Сколько мог, между делом, набросал я вам это для вашего утешения; но когда кончу сорокадневное служение, постараюсь дополнить и исправить. Я бы желал и биографию его составить, но это дело будет не мое, а содействие Бога, дивного во святых своих.
Да будет и преизбудет на вас и на всем вашем роде благодать, мир и благословение Божие, чего я, недостойный, всеискренне вам желаю.
Многогрешный иеросхимонах Антоний. 1865 года ноября 7-го дня. Киева-Печерская лавра”.
II. Праведная кончина мирянина
Так умирают православные монахи из тех, конечно, кто не отступил от обетов своего иночества – вот о чем поведало мне и тебе, мой читатель, старое, забытое, завалявшееся в ветхом рукописном хламе письмо. Дополнять ли мне своими рассуждениями его содержание? Нет, оно само за себя говорит нашему с тобой сердцу, если только сердце это открыто для принятия в себя слова правды. Перейдем-ка лучше мы с тобой в область моих личных воспоминаний и в ней, с помощью Божией, найдется кое-что нам на пользу.
В записках моих, куда я заношу все, что в моей или чужой, но знакомой мне жизни встречается как явное или хотя бы прикровенное, но сердцу внятное свидетельство Божиего смотрения о нас, грешных людях, смерть архимандрита Мелетия не стоит одиноко: на их страницах запечатлелся не один переход христианской души в блаженную вечность; и все те смерти праведников, о которых свидетельствуют мои записки, сопровождаются ли они небесными утешениями дивных видений и откровений или нет, – все они носят на себе один неизменный отпечаток “безболезненности, непостыдности (оправдания веры), мирности” и надежды на добрый ответ пред Судией нелицеприятным. И среди скатившихся с земного неба звезд христианских жизней, проложивших свой лучистый след на этих страницах, сияют в моей личной памяти звезды падучие разных величин и блеска; и умиленное сердце требует от меня отразить в слове своем свет их кроткий и чистый и благоговейной памятью воскресить их светлый облик в той красоте, которой не ведали в них люди, но на которую с нежной любовью светили Божий очи…
Одна из первых близких мне смертей была смерть единственного сына моего духовника, протоиерея одной из церквей того губернского города, около которого было мое поместье. Это был еще совсем молодой, даже юный, человек, служивший некоторое время кандидатом на судебные должности в местном окружном суде и только года за два, за три до своей кончины окончивший курс юридического факультета Московского университета. Посещая довольно часто своего духовника в его доме, принятый в нем как родной библейской четой отца и матери молодого кандидата, я долго не встречался с ним: он точно притаивался от меня и как будто избегал знакомства со мною. В первый раз, помнится, мне указали на него в храме, в котором настоятельствовал его родитель. Вид он имел тщедушный, некрасивый, небольшого роста, со впалой грудью, с большой головой на тонкой шее, жиденькой бородкой – словом, он показался мне настолько малопримечательным, что я после впечатления этой встречи и в своем сердце положил не добиваться с ним знакомства. А тут еще от кого-то из судейских я случайно услыхал отзыв о нем как о человеке совершенно ни к чему неспособном, и этот отзыв еще более укрепил во мне первое впечатление. Пожалел я тут бедных родителей и только был рад тому, что нелюдимость молодого кандидата отвела меня от лишнего скучного знакомства.
Одна только черта в этом молодом человеке запала мне в сердце: кандидат прав старейшего университета, сын священника, а от Божиего храма не только не отбивается, но, видимо, даже любит его. Когда бы я не зашел в его приходскую церковь в его свободные часы от судейских занятий, он стоит, смотрю, в каком-нибудь укромном местечке и смиренно молится. Не таковы по большей части бывают отпрыски семени служителей алтаря, когда они сходят со святого пути отцов и вкусят от плодов “высшей” человеческой мудрости: между отступниками веры нет злейших, как эти хамы, раскрывающие наготу отчую!.. И запала мне в душу мысль: нет, видно оттого и плох для судейского мира молодой кандидат, что он не от мира… Спустя некоторое время и сам он перестал избегать встречь со мною. Пришел я как-то раз к его старикам к вечернему чаю. Подали самовар; гляжу – и он является к чаю.
– А вот и наш Митроша-затворник! – воскликнула с любовью старушка-протоиерейша. Так мы и познакомились.
Со дня или, вернее, с того вечера Митроша перестал меня дичиться и всякий раз, как я его заставал дома, он выходил ко мне здороваться и стал принимать со мной вместе участие в вечернем чаепитии, на которое я довольно-таки часто хаживал к отцу протоиерею. В простой, патриархальной обстановке старосвященнической семьи, не зараженной новшествами, отдыхал я душой от волнений и суеты своей мирской жизни, оттого-то и манил меня к себе вечерний самоварчик старика протоиерея и матушки Надежды Николаевны, его верного по-дружия. Но хоть и выходил Митроша, а все же участия в общей беседе не принимал, изредка только кратко отзываясь на предлагаемые ему в упор вопросы, а затем, попивши чаю, опять скрывался в свою комнату.
– Наш Митроша совсем затворник, – не без некоторой горечи в голосе говаривала мне иногда старушка протоиерейша, – трудно ему с таким характером будет жить на свете!
Отец протоиерей помалкивает, но и ему, видно было, нерадостно глядело в сердце Митрошино будущее.
– Батюшка, – сказал я как-то отцу протоиерею, – у вашего сына, сколько я замечаю, склад души совсем монашеский: нет ли у него желания уйти в монастырь, посвятить себя на служение Богу?
– Он мне ничего об этом не говорит. Да он и вообще-то с нами мало говорит. Как придет из суда, наскоро закусит и бежит в библиотеку нашего братства. Только к вечернему чаю он возвращается. А если сидит дома, то тоже больше духовные книги читает, когда нет работы на дом из окружного суда… Отдавал я его из семинарии в университет, думал, что это будет для него лучше, а выходит, как бы не было хуже!
С полгода, не больше, встречались мы с затворником Митрошей, но сближения не последовало между нами, несмотря на то, что в душе своей я уже успел полюбить его одинокое сердце. По приветливой улыбке Митроши, когда он здоровался со мной при встречах, я видел, что и я ему стал не чужд; но внутренние тайники его духовного мира так мне и не открылись за эти полгода. Открылись они мне после, и как открылись-то!
Пришлось Митроше уйти из состава окружного суда: убеждение в неспособности его к службе среди вершителей судеб судейского муравейника укрепилось в такой степени, что волей-неволей, а надо было уходить и приискивать какое-либо другое занятие.
Тайный гонитель Митрошиной души, искавшей удовлетворения своим стремлениям в светлом мире духовной, созерцательной жизни, приискал ему это занятие… в акцизе, и Митроша был отправлен младшим контролером акцизного округа на Б. винокуренный завод в имение одного весьма высокопоставленного лица. Это был последний удар заветным стремлениям Митрошиного духа. Догадались-то об этом уже потом, когда было поздно и когда бренной оболочке его души все стало безразлично; но в то время, когда состоялось это блестящее назначение, казалось, что лучше этого положения для Митроши нельзя было и выдумать.
Не прошло и четырех месяцев со дня Митрошиного определения на службу в акциз, как он заболел на своем винокуренном заводе настолько серьезно, что за ним спешно, по телеграмме, должен был выехать отец, чтобы привезти его спасать от смерти усердием светил губернской медицины. Но медицине делать уже было нечего с Митрошей: на него достаточно было раз взглянуть, чтобы ясно разглядеть все признаки злейшей скоротечной чахотки, против которой лекарство одно – могила.
Тяжело было видеть горе стариков-родителей, пока на их глазах таяла догорающая свеча драгоценной для них жизни единственного сына. И моему сердцу близко было это безутешное горе, хотя я чувствовал, что для одинокой, затворнической души Митроши нет лучшего будущего, как приблизившаяся к нему так неожиданно вечность.
Скоро отступились от одра больного светила губернского медицинского неба и уступили место врачеству другого, истинного неба – Христовой вере и таинствам Церкви, приготовлению к переходу туда, откуда нет возврата. Вот тут-то и открылось мне и близким все величие, вся красота Митрошиной христианской души, вся полнота ее могучей, беспредельной веры. Угадав сердцем, что наука бессильна остановить недуг, Митроша весь углубился в приготовление себя к вечности. Тяжелые страдания, мучительная одышка не давали ему возможности лежать в постели, и его пришлось перенести с кровати на кресло, на котором он, обложенный подушками, проводил свои страдальческие дни и бесконечные томительные ночи. Его ежедневно приобщали Святых Тайн, и это таинство, видимо, давало ему силы без ропота, без малейшей тени уныния переносить самые тяжелые приступы разъедавшего его злого недуга. Всегда в молитве, с иконочкой Царицы Небесной на столике перед своим креслом, Митроша как будто еще на земле всем остатком своей угасающей, молодой жизни улетел на небо. Молитва и любовь ко Христу, которые он таил в себе, пока был здоров, сказались вдруг во время его двухмесячных страданий с такой силой, что даже родительское верующее сердце вострепетало, даже оно не могло предугадать того пламени веры, которым горело все существо их любимого сына.
– Отец, – говорит он, когда ослабевали приступы одышки и кашля, – отец! Как мы молимся, как веруем, как любим своего Бога? Разве так надо молиться, любить и веровать?.. Если тебя не жжет молитва, если сердце твое не тает, как воск от огня, от пламени слов молитвы, исходящих из самой глубины сердечной и жгущих все внутреннее существо твое с такой силой, что вот-вот оно обратится в пепел, то ты не молишься, отец!.. Отец! Если и любовь твоя – не пламень, поядающий всякую скорбь ближнего твоего и самое естество твое, самую душу твою не вплавляющий в душу твоего ближнего, – ты не любишь тогда, отец!..
И много, много говорил в такие минуты Митроша такого, от чего трепетало и билось в рыданиях родительское сердце…
– И кто же мог прозревать, какую силу таил в себе наш Митроша? – говорил мне от слез едва переводя дыхание старец протоиерей. – Любя, губили мы эту силу. Да, Господи Боже мой, кто бы мог это подумать? Ведь он все молчал, с детства молчал, ни с кем ни слова, ни с кем не общался, ни с кем не был откровенен в том, что было святыней его души. Только в семинарии с одним стариком преподавателем, Гаврилом Михайловичем П., он как-то сошелся близко. Это был глубоко верующий человек характера чисто исповеднического; с ним он был в постоянном общении и даже в университете находился с ним в непрерывной переписке. Но и Гавриил Михайлович был из таких людей, из кого лишнего слова не выжмешь, да и тот теперь скоро два года, как умер; с ним умерла и тайна Ми-трошиного сердца, которое ему одному и было открыто… Боже мой, Боже великий! Кто ж догадаться мог, что не в суде и не в акцизе место нашему Митроше?
И плакал бедный отец у Божиего престола в алтаре с воздетыми к небу небес руками, прося и вымаливая у Бога жизнь своему Митроше, своему любимому, непонятному, неоцененному сыну…
А как мать-то убивалась и плакала! Про то знать могут только одни матери, терявшие навеки дитя свое любимое…
И вот наступили роковые предсмертные дни Митроши. Непрерывно, изо дня вдень, продолжалось его общение со Христом в таинстве святой евхаристии: каждый день от обедни духовник его, второй приходской священник, приносил Святые Дары, которыми умирающий и приобщался с пламенной верой. Страдания его как будто стали ослабевать: легче становилась одышка; и кашель, убийственный, зловещий кашель чахоточного, временами меньше терзал избитую, иссохшую, измученную грудь.
– Митроша! – радостно воскликнула мать. – Тебе лучше, солнышко наше?
– Да, маменька, лучше!
– Вымолим мы тебя у Господа, вымолим! Вдруг больной как-то весь съежился, сжался; глаза беспокойно и испуганно уставились в одну ему одному видимую точку за плечом у матери.
– Митроша, что ты? Иль ты что видишь?
– Вижу! – прошептал больной, и ужас послышался в этом жутком шепоте.
– Что же ты видишь? – переспросила испуганная мать, чувствуя, что и ее сердце забилось от какой-то неопределенной тревоги, смутного страха предчувствия незримой, но грозной опасности… Но Митроша молчал и только упорно продолжал смотреть все в ту же невидимую точку и с тем же выражением безграничного, холодного ужаса, с трудом осеняя себя крестным знамением.
– Митроша, Митроша! – тормошила его испуганная мать, – да скажи ты, что ты такое видишь?
– Их! – был ответ, и с этим ответом лицо его прояснилось.
– Теперь их нет, – со вздохом спокойной радости промолвил умирающий.
– Да как же это быть может? – допытывалась мать. – Ведь ты же каждый день причащаешься, разве они могут иметь к тебе доступ?
– Доступа они не имеют, а… дерзают!
Это произошло за несколько дней до кончины Митрошм. Кто были они его видения – умирающий сын видел, а скорбная мать-христианка не могла не догадаться. Продолжали они “дерзать”, тревожить больного – я не знаю, но и одного раза их появления было довольно, чтобы исполнить сердце неописуемого ужаса и отогнать всякое нехристианское сомнение в неизбежности встречи души, готовящейся к вечности, с этой темной, зловещей, до времени от смертных глаз скрытой силой.
Дня за два до своей смерти больной чувствовал себя довольно хорошо. Опять после обедни его причастили. Неотлучная сиделка-мать сидела у кресла своего сына. Вдруг лицо больного сразу озарилось светом какой-то неожиданной радости и из груди его вырвалось восклицание:
– Ах!.. Гавриил Михайлович, это вы? Пораженная этой внезапной радостью, этим восклицанием, не видя никого постороннего в комнате, мать замерла в ожидании…
– Так это вы, Гавриил Михайлович! Боже мой, как же я рад!.. Да, да!.. Говорите, говорите! Ах, как это интересно!..
И больной весь обратился в слух. По лицу играла блаженная улыбка… Мать боялась пошевельнуться, изумленная и тоже обрадованная…
Несколько секунд продолжалось это напряженное молчание. Оно нарушилось восклицанием больного:
– Уж вы уходите?.. Ну хорошо! Так, стало быть, до свидания!
– Кого это ты видел, Митроша? С кем ты сейчас разговаривал?
– С П., Гавриилом Михайловичем!
– Да ведь он умер, Митроша! Что ты, что ты, деточка, Господь с тобою!
– Нет, мамаша, он жив: он был сейчас у меня и говорил со мною.
– Что же он говорил тебе?
Но что говорил Митроше старый его друг и наставник, осталось навсегда тайной того мира: больной закашлялся, с ним вновь начался приступ страшной одышки; и с этого часа наступил последний натиск болезни, от которого он едва приходил в сознание, и то на короткие промежутки между припадками тяжелых страданий. Смерть властно вступала в свои права.
Часа за два или за три до кончины больной пришел в себя. Дыхание стало легче, сознание в полной ясности, как будто грозный призрак смерти отступил пред чьей-то великой властью.
– Прощайте, родные! – сказал он. – До свидания там, где больше не будет разлуки!
– Митроша, неужели ты умираешь? – застонала мать.
– Да, мама, умираю!.. Смотри, смотри, кто пришел! Святый Архистратиже Михаиле!.. Господи, приими душу мою в мире!
Так умер Митроша-затворник, сын губернского протоиерея.
Говорят, да и самому мне приходилось видеть, смерть, накладывая печать тления, обезображивает человека. Какая смерть! Какого человека!..
Митроша в гробу лежал, как живой; и как же он был прекрасен, этот тщедушный, некрасивый человек! Глаз не хотелось оторвать от этого лица, одухотворенного молчаливой, торжественной, созерцающей радостью полного, совершенного покоя и удовлетворения. Не смерть, а жизнь, жизнь вечная, небесная, высшая, уму непостижимая, но сердцу внятная, жизнь сияла на бледном, прекрасном лике праведника. Красотой чистой, непорочной девственности светилось это дивное, незабвенное для меня лицо; Митроша умер девственником – это для меня было вне сомнения. Три дня стояло его тело в теплой комнате, и тление его не коснулось. На второй день его смерти я читал у его изголовья псалтирь, с полчаса читал и не ощутил ни малейшего запаха.
Так и скрыла могила Митрошу-затворника до всеобщего воскресения…
III. Кончина кающегося грешника
Как душе, совлекшейся своей земной оболочки, нет границ ни во времени, ни в пространстве, так нет их и для мысли: из пределов родного края, где я провел свое детство и юность свою, исполненную сладких мечтаний, где холод рассудочного опыта разбил в черепки и прахом развеял хрупкий сосуд грез детства, юношеского задора, энергии молодости, летит она оттуда, неудержимая, в иные края, под иное небо – из степей юга к лесам и озерам хмурого севера. Если не скучно, последуй и ты за нею, мой дорогой читатель!..
На твоих глазах поднялись и улетели к “третьему небу” два праведника, две чистые христианские души, из которых одна волей Божией познала свое место на земле, свое земное назначение и отошла к своему Господу, совершив течение подвига доброго, достигнув полноты времени жизни, назначенного для земнородных (Архимандрит Мелетий скончался на семьдесят втором году жизни). Другой не было дано этого удовлетворения; но за то и сокращен был срок ее приготовления к вечности и скорее призвана была она в небесные обители Отца света незаходимого, света всякой истины, всяческой радости. Кто познает пути Господни к вечному спасению, и кто был Ему советником?!.
Когда угодно было Богу с места моей родины и моей почти двадцатилетней деятельности переселить меня сперва в Петербург, а затем в благословенный уголок Новгородской губернии, в тихий и богобоязненный городок Валдай, где еще недавно “уныло” звенел “колокольчик, дар Валдая” под дугой ямщицких троек, теперь – увы! – раздавленных новой железной дорогой, нам с женой пришлось встретиться и сблизиться там по вере христианской с одним из местных священников, который и стал нашим духовным отцом. Как-то на исповеди он по какому-то случаю сказал моей жене:
– А ведь знаете, что и в наше даже время некоторые люди удостаиваются видеть своего Ангела!
Подробностей батюшка не сообщил жене, и я решил при первой с ним встрече расспросить его об этом как следует. Вот что по этому поводу записано в моих заметках.
Сегодня (25-го апреля 1907 года) я напомнил батюшке об исповеди жены и спросил его:
– Батюшка! Что вы сказали жене на исповеди о явлении кому-то из ваших духовных детей Ангела?
– Да, – ответил он мне, – это дело было, но я знаю о нем из исповеди моего прихожанина, а исповедь – тайна.
Я не унялся и стал настаивать:
– А жив, – спросил я, – этот ваш прихожанин?
– Нет, умер!
– А если так, – сказал я, – то отчего же вам не рассказать, особенно если рассказ ваш может послужить и нам грешным на пользу?
Подумал-подумал мой батюшка, да и рассказал следующее.
– Был у меня в деревне один прихожанин по имени Димитрий; был он крестьянин и человек жизни плохой: и на руку не чист, и сквернослов, и пьяница, и блудник – словом, последний, казалось, из последних. Долго он жил так-то, и не было никакой надежды на его исправление. Только как-то раз собрался он ехать в поле на пахоту, вышел из избы в сенцы и вдруг почувствовал, что кто-то с большой силой ударил его по затылку, да так ударил, что он как стоял, так и свалился лицом вниз прямо на пол и разбил себе лицо до крови. Никого на ту пору в сенцах не было, и сам Димитрий был совершенно трезв. Шибко его это поразило и испугало.
– Приехал я в поле, – рассказывал мне после на исповеди Димитрий, – лицо мое все в крови. Обмыл я лицо в ручейке, а за работу приняться не могу – все думаю, за что же это такое со мною было?.. Сел я на меже и все думаю да думаю, жизнь свою окаянную поминаю. Долго я так-то думал и надумал порешить со старой своей грешной жизнью и начать жизнь новую, по Божиему, по христианскому. Стал я посреди своего поля на коленки, заплакал, перекрестился, да и сказал громко Богу: клянусь Тебе именем Твоим, что уже грешить теперь впредь не стану!.. И стал я с тех пор иной человек, все старое бросил: не воровал, перестал пить, сквернословить, блудничать…
– И что же, – спросил я Димитрия, – неужели тебе после твоей клятвы и искушений не было?
– Как не быть? Были, батюшка; очень тянуло опять на старое, но Бог помогал – удерживался. Раз вот только было – не удержался. Был в соседнем селе престольный праздник и ярмарка – я туда и отправился. Иду я по шоссе и вижу: лежит на дороге чей-то кошелек, да такой туго набитый деньгами, что я первым долгом схватил его да себе в карман; не успел даже и денег сосчитать – боялся, как бы кто не увидел. Только одно я успел разглядеть, что и бумажек, и серебра в кошельке было много. Иду я, поднявши кошелек, да и думаю: ну уж этого-то кошелька я не отдам, если бы и встретился его хозяин – экое богатство-то мне привалило!,. Вдруг – хлоп! – и растянулся я на шоссе лицом о шоссейный щебень и опять как тогда разбил я в кровь все свое лицо, хоть и пьян не был. Поднялся я с земли и вижу: откуда-то посреди шоссе, где быть не должно, лежит четверти в полторы вышиною камень – об него-то я, значит, и споткнулся. Выругался я тут самым скверным, черным словом, и в ту же минуту надо мною, над самой моей головой, что-то вдруг как зашумит, точно птица какая-то огромная. Я вскинул глаза вверх, да так и замер: надо мною лицом к лицу дрожал на воздухе крыльями Ангел.
– Димитрий, – грозно сказал он мне, – где ж твои клятвы Богу? Я ведь слышал, как ты дал их на твоем поле во время молитвы, я и на меже тебя видел. А теперь ты опять за старое?..
Я затрясся всем телом и вдруг, осмелевши, крикнул ему:
– Да ты кто? Из ада ли дьявол или Ангел с неба?
– Я от верхних, а не от нижних! – ответил Ангел и стал невидим.
Не сразу я опомнился; а как опомнился, взял из кармана кошелек и далеко отшвырнул его от себя в сторону… На праздник я уже не пошел, а вернулся домой, все размышляя о виденном.
– Это, – сказал мне батюшка, – рассказано было мне Димитрием на исповеди. А далее вот что было: стали ходить о Димитрии слухи добрые и для всех его знавших удивительные – в корень переменился мужик к доброму… Прошло лет десять с явления Ангела; Димитрий оставался верен своей клятве. Только на одиннадцатом году приезжают за мной из Димитриевой деревни…
– Батюшка! Димитрий заболел, просит вас его напутствовать.
Я немедленно поехал. Вошел к Димитрию в избу. Он лежал на кровати с закрытыми глазами. Я его окликнул… Как вскочит вдруг Димитрий на своем ложе да как вскинет руками!.. Я перепугался и отшатнулся: в руках у меня были Святые Дары.
– Что ты, что ты, – говорю, – ведь у меня Святые Дары! Я и то их чуть из рук не выронил!
– Батюшка! – воскликнул, захлебываясь от волнения, Димитрий, – я сейчас перед вами опять видел Ангела. Он мне сказал, чтобы я готовился, что я умру сегодня ночью.
– Да какой он из себя? – спросил я Димитрия.
– Я, было, совсем ослеп от его света! – ответил мне Димитрий в духовном восторге.
– А спросил ли ты его, простит ли Бог твои грехи? – опять спросил я Димитрия.
– Бог простит, что духовник разрешит, – ответил мне Димитрий отрывисто, – что ты здесь отпустишь, будет отпущено и там!
Я приступил к исповеди.
Причастил я Димитрия и, грешен, на вид он мне показался даже и мало больным. Мужик он был еще нестарый и крепкий. Уехал я от него в полной уверенности, что он выздоровеет, а об Ангеле не знал, что и думать.
В эту же ночь Димитрий скончался.
Вот что рассказал мне по священству иерей добрый, настоятель одной из церквей тихого Валдая.
IV. Смерть грешника люта
Прочитывая сам свой помянник, когда за проскомидией иерей Божий вынимает частички за живых и умерших, я каждый раз с особенным молитвенным чувством поминаю записанные в нем с 20 июля 1902 года два имени: Андрея и сына его, отрока, егоже имя Бог весть. И всякий раз при этом поминовении в памяти моей мгновенно восстает страшное событие явной кары Божией, разразившейся над этими двумя несчастными. Да простит их Господь за смерть их мученическую, за молитвы Церкви, а может быть – кто это знать может – и за то, что их горестный и всякой жалости достойный пример послужит чьей-нибудь душе, близкой к падению, в назидание и спасение. Господи, всех нас прости и помилуй!
В те времена, когда совершилось это событие, я был еще довольно богатым помещиком и сам занимался своим хозяйством в селе Золотареве Орловской губернии Миенского уезда. В числе моих рабочих служил у меня крестьянин того села по имени Андрей Марин. На работу, когда, бывало, захочет, золото был этот человек; ну а не захочет, что с ним приключалось нередко, то хоть кол у него на голове теши – ничего с ним не поделаешь. Жалко мне было малого, тем более что и парень-то он был молодой, лет двадцати пяти – двадцати восьми, не старше, и все думал я: авось выправится, человеком станет, а уж я буду с ним биться, пока не переработаю. И сам-то я тогда еще был молод и много на свои силы надеялся…
Прожил у меня кое-как, с грехом пополам, Андрей Марин год; отслужил свой срок, нанимается на второй и прибавки еще просит, а староста мой и говорит мне:
– Не берите вы Андрея, барин, не выйдет из него толку. Ну какой прок будет в том человеке, который родную свою мать бьет под пьяную руку? Сколько уж она на него и в волость, и земскому жаловалась, да вишь какие ныне пошли порядки: вдове да сироте негде теперь найти суда. Не берите вы Марина!
Но я не послушался своего старосты и оставил Марина на новый срок все в той же надежде, что сумею повлиять на него и исправить.
Вскоре, однако, мне на опыте пришлось убедиться, что природа современного рабочего из набшювавшихся по шахтам и отхожим промыслам моему старосте известна больше, чем мне: с Мариным я расстался – пришлось его рассчитать за какую-то провинность едва ли даже не в самый разгар рабочей поры, когда хозяину каждый рабочий дороже золота. Какая это была провинность, я уже теперь не помню, но надо думать, что она была не из маленьких…
Прошел год. Я Марина совсем потерял из виду. В родном селе его не было. Как-то раз я спросил старосту:
– Куда девался Андрей Марин?
– Подался, говорят, опять на шахты, – был ответ.
Ну, подумал я, вконец теперь доканают малого шахты!..
Кто жил, как я, жизнью нашей черноземной деревни, тому известно, какой переворот в народной душе совершили отхожие промыслы, особенно же работы в горно-угольной промышленности. Железные рудники, каменно-угольные копи, отсутствие влияния семьи и Церкви, общение со всяким уже развращенным сбродом – все это так изломало и исковеркало эту душу, что от человека, особенно молодого, уже почти ничего человеческого не осталось, как будто близость и ядовитое дыхание самой преисподней коснулись народного сердца и сожгли в нем все добро, всю правду, которыми оно столько лет жило и строило величие и славу своей родины…
За год этот и в моей душе совершился перелом великий. В скорбях и бедах, которые тогда, по великой милости Божией, налетели на меня гневным и бурным вихрем, я отправился искать помощи и утешения в паломничестве по святым местам, и тут впервые Господь удостоил меня побывать в Саровской пустыни, прославленной подвигами и чудесами великого старца Серафима. Это было в 1900 году, за три года до прославления святых мощей угодника Божия. Уже и тогда живая народная вера прибегала к его молитвенной помощи и по вере своей получала великое и дивное.
Получил и я тогда от преподобного Серафима все, чего искало мое испуганное и наболевшее сердце. Из этой поездки в Саров и Дивеев я привез с собой память об одном добром и благочестивом обычае крестьян Нижегородских и Тамбовских, который меня глубоко тронул: на всех дорожных перекрестках и деревенских околицах, где только я ни проезжал, я встречал маленькие деревянные часовенки простой бесхитростной работы и в них за стеклом образа Спасителя, Божией Матери и Божиих угодников. Незатейливо устройство этих часовен: столб, на столбу четырехугольный деревянный ящик с крышкой, как у домика, увенчанной подобием церковных головок, и на каждой стороне ящика по иконе за стеклом, а где и вовсе без стекла. Но мне не красота была нужна, не изящество или богатство мне были дороги, а дорога была любовь и вера тех простых сердец, которые воздвигали эти убогие видом, но великие духом хранилища народной святыни. Вот этот-то обычай я и ввел у себя тотчас по возвращении своем из Сарова в родное поместье. Вскоре на двух пустынных перекрестках вдали от жилья воздвиглись две часовенки с иконами на четыре страны Божиего света, и пред каждой иконой под большие праздники затеплились разноцветные лампадки. И что же это за красота была, особенно в темные летние ночи!..
Полюбилось это и окрест меня жившему православному люду.
– Дай же тебе Господь здоровья доброго, – так стали мне кое-кто сказывать, – вишь ведь, что надумал! Едешь иной раз из города под хмельком, в голове бес буровит; едешь, переругиваешься со спутниками или там со своей бабой… Смотришь – иконы, да еще лампадки. Опомнишься, перекрестишься, тебе доброго здоровья пожелаешь – глядь, ругаться-то и забудешь!
Пришла зима. Стали поговаривать, а там и до моего слуха дошло, что мои часовенки великую пользу принесли народу православному и в осенние темные ночи, и зимние метели; сказывали даже, что и от смерти кое-кого спасли эти Божий домики: заблудится человек в зимнюю вьюгу, набредет на часовенку, стоящую на распутий, и выйдет на свою дорогу. Радостны были для сердца моего эти слухи добрые… И стал народ носить к часовенкам свои трудовые копеечки, грошики свои, трудом, потом да слезами политые; положат копеечки на земле – отойдут, а кто положил – Бог знает. Приедут старосты с объезда и привезут когда копеек семи-восьми, а то и больше. Что делать с ними? И покупали мы на эти деньги свечи в храм Божий, и ставили их за здравие и спасение Богу ведомых душ христианских, тайных доброхотных жертвователей. Так лет около двух совершалось это по виду малое, но по духу великое дело христианской любви и веры… Как-то раз пришел ко мне вечером за обычными распоряжениями мой староста и между прочими событиями дня сообщил мне, что в народе говорят, будто у одной из моих часовенек стало твориться дело недоброе: стал какой-то тать поворовывать доброхотные приношения.
Очень огорчило меня это известие: страшно мне стало за христианскую душу, так глубоко павшую, что решилась она покуситься на такое святотатство.
– А не слышно, – спрашиваю, – на кого народ думает?
– Слух есть на деревенского пастуха и на его сынишку-подпаска, – ответил мне староста. Замечали, будто они – то вместе, то порознь – до выгона стада куда-то бегают раным-ранехонько в поле по направлению к часовне.
– А кто пастух?
– Да Марин Андрей, что у нас жил когда-то.
– Быть не может!.. Да разве он вернулся с шахт?
– Вернулся. Пошел ни про что, вернулся ни с чем; теперь у мужиков нанялся стеречь стадо. Он им напасет того, что и жизни рады не будут. Самоидолом он был, самоидолом и остался: какого толку ждать от человека, который и родной матери не жалеет? Вы вот все верить мне не изволили, что не будет добра из этого человека!..
Это была колкость по моему направлению за то, что вопреки совету старосты я попробовал, было, удержать у себя на службе “самоидола”. Характерное это было словцо “самоидол” и в устах старосты должно было означать человека, который ради удовлетворения своих желаний готов на все, даже на преступление: сам, мол, для себя идол, и что, значит, захочет, то и принесет самому себе в жертву…
Пробовали мы изловить вора на месте преступления – не тут-то было…
– Ты его сторожишь, а он тебя сторожит: где его поймать, когда ему сам тот-то помогает? – объяснил мне мой староста и махнул рукой.
Махнул рукой и я на все это скверное дело, предоставив его суду Божию.
И суд этот наступил… Приходилось ли тебе, читатель, видеть когда-нибудь деревенское стадо захудалой нашей черноземной деревни? Горе одно, а не стадо! Тощие коровенки по одной на два-три двора, зануженные зимними голодовками, тощими летними пастбищами на пару, выжженном солнцем, заросшем полынью и воробьятником, вытоптанном, как ток, с ранней весны овцами; коровенки, надорванные преждевременным телом, сыростью и холодом зимних помещений, нуждой своих хозяев, всем горем, всей мукой современной заброшенной черноземной деревни; и таких-то коров – штук двадцать-тридцать на сотню дворов густо населенной деревни! Десятка полтора-два свиней с подсвинками; сотни с три овец да бык полутеленок, малорослый, полуголодный, – вот и все деревенское стадо. Все это едва живо, едва бродит, полусонное, полуживое, обессилевшее…
Над таким-то стадом и был пастухом Андрей Марин со своим десятилетним сынишкой.
Через родное мое село, деля его на две половины, протекала речка, извилистая, красивая, но мелководная до того, что ее местами вброд могли переходить куры. Запруженная версты три ниже села, она в самом селе еще была похожа на речку и в летнее время оглашалась целыми днями радостным криком и визгом деревенской белоголовой детворы, полоскавшейся от зари до зари в ее мутновато-бурой полустоячей воде; ну а выше села, где по лугам после покоса паслось больше на прогулке, чем на пастбище деревенское стадо, там наша речка текла таким мелким и узеньким ручейком, что все ее каменистое дно глядело наружу. Только в одном месте, где речка под невысоким отвесным берегом делала крутой поворот, она в своем дне течением и вешним половодьем вымыла под самой кручей яму сажени в полторы глубиною и не больше сажени шириною. Это было единственное глубокое место на всем протяжении речки, что было выше села, да и то такое, что взрослому человеку его можно было без особого труда перепрыгнуть.
Подходил Ильин день. Приток копеечек к моей часовенке совершенно прекратился: кувшин все еще, видно, ходил по воду; вор не ломал еще своей головы и только нагло посмеивался да зло огрызался, когда ему делали намеки на то, что плохим, мол. делом, Андрей, ты занялся, к плохому и сына поваживаешь.
– Врете вы все, – говорил он, – да какое вам до всего этого дело? Деньги не ваши, если бы я их и брал, и не перед вами я в ответе: чего лезете, куда вас не спрашивают? Куда ходил, что делал? Больно много тут вас учителей развелось!..
Перед утреней на Илию Пророка кто-то из Андреевых соседок видел, как Андреев сынишка тайком, как звереныш, бегал в поле по направлению к часовне.
– Ох, Андрей, Андрей! – не вытерпела баба. Не сносить вам с мальчишкой головы вашей! Ты только подумай, какой нынче день! А вы на Илью, да еще такими делами занимаетесь!
Обругал Андрей бабу черным словом и прибавил:
– Ступай, доноси! Я тебе покажу того, что ты у меня не одного Илью, а и всех святых вспомнишь. Велики для меня дела – твой Илья!
Все это я, конечно, узнал после: не любит русский человек доносить на своего брата, да и судов боятся, особенно теперешних…
По усвоенному обычаю с разрешения своего приходского священника я стоял в тот день утреню и обедню в алтаре нашего сельского храма. Полным-полнешенька была церковь, вся залитая жарким июльским солнышком и огоньками свечечек, принесенных в жертву Богу и великому чудотворцу пророку Божиему от трудов и потов православного народушка. Совершилось великое таинство евхаристии, принесена была бескровная жертва за грехи мира Агнца, присно закалаемого, николиже иждиваемого; священник у жертвенника потреблял Святые Дары, а наш благоговейный дьячок читал благодарственные молитвы. Народ после молебна стал уже расходиться по домам. Я что-то замедлил в алтаре, дожидаясь выхода священника… Вдруг в алтарь вбегает мальчик и прерывающимся от волнения голосом, забыв святость места, кричит:
– Батюшка, Андрей с сыном утопли!
– Какой Андрей? Что ты говоришь?
– Да пастух Андрей! На нашем на лугу, под кручей!.. Оба как есть утопли! Их качали, качали, да не откачали. Мальчишка наш там с ними был на лугу и все видел: и как бык брухнул, и как утопли…
– Какой бык? Да расскажи ж ты толком!
Но от взволнованного и перепуганного мальчишки большого толку добиться было трудно. Вот что потом узнали.
Рано поутру, после набега Андреева мальчишки на часовенку, выгнал Андрей со своим сынишкой деревенское стадо и погнал его на луг, на то место, где под кручей было в речке единственное глубокое место. Когда солнышко поднялось уже высоко и стало пригревать по-настоящему, по-июльскому, мальчишка Андрея прилег отдохнуть на бережку над самой кручей, да видно как рано бегал за неправедной добычей, не выспался и заснул. Андрей в это время один пас стадо. Коровы поулеглись, разморившись от зноя, только овцы да свиньи лениво еще бродили вокруг улегшегося стада да похаживал бык, переходя от одной коровы к другой и схватывая по дороге тощую траву отавы. В это-то время и пришел к стаду тот мальчик, которому суждено было стать единственным очевидцем кары Божией над святотатцами. И вот на его глазах бык ни с того ни с сего подошел к обрыву, где спал Андреев сынишка, обнюхал его, да как подмахнет ему под бок рогами! Глазом не успел мигнуть, как мальчишка с визгом уже барахтался в воде под кручей. Увидал это Андрей и бросился за сыном в воду, да попал на то же самое глубокое место, а плавать не умел: так оба и захлебнулись в яме шириною в сажень, как в кадушке…
Так и умерли Андрей с сыном под острою секирой праведного Божиего гнева…
Много развелось теперь на Руси Святой святотатцев: только и слышишь, что там ограбили церковь, там убили церковного сторожа, а то и нескольких вместе, осквернили место святое не только кражей и убийством, а еще и невероятным по сатанинской злобе кощунством… Волос становится дыбом, как послушаешь или прочтешь, что творят теперь злые люди, озверевшие, утратившие в себе образ и подобие Божие!.. И пишут в газетах, и передают из уст в уста, что стынет след злодейский и нет над ними кары человеческой; ловко помогают злодеям бесы укрываться от суда человеческого!..
Пусть так. Не всегда тяготеющая десница Всевидящего падает с такой быстротой и явной силой, как в рассказанном мною событии, Бог все видит, да иногда не скоро скажет. Терпит Господь: злодей пусть злодействует, тать пусть приходит, крадет и убивает… Но чем дольше терпит Господь, тем сильнее бьет, тем страшнее наказывает – до седьмого колена воровского семени тяготеет над нами карающая рука Божия. И если бы можно было проследить жизнь тех осужденных, кто, по-видимому, оставлен без наказания за свое преступление, то – ей! – увидали бы мы, что еще при жизни их и до них достигла десница Вышнего. И только тех, разве, кто в злодеяниях своих достиг меры злобы сатанинской, кто уготован огню вечному, тот только оставляется без видимого наказания до страшного часа смертного, до Страшного суда Божиего.
Господи, помилуй!..
Еще о том же
Рассказать ли тебе еще, дорогой мой читатель, что вслед за горьким примером смерти Андрея Марина с сыном просится под перо мое и что тоже произошло некогда на моих глазах, на глазах сотни свидетелей, больших и малых, в виду и в памяти того же родного моего села Золотарева? Боюсь утомить внимание твое, но еще больше боюсь скрыть дело Божие, совершившееся, чувствуется мне, не без участия великого заступника вдов и сирот святителя и чудотворца Николая. Потрудись же, выслушай!
В том же, стало быть, родном моем селе и в то же приблизительно время, когда произошло рассказанное событие с пастухом Мариным и его сыном, в двух крестьянских семьях – Павлочевых и Стефановых – совершилось нечто не менее знаменательное, а пожалуй, и еще более грозное.
Село Золотарево Орловской губернии Мценского уезда, в котором я жил и работал в течении восемнадцати лет и где я провел наездами свое раннее детство, юность и безвыездно часть зрелого возраста, село это делится на две половины, на первое и вотрое Золотаревские общества. Так стали называться эти половины со времени эмансипации, а прежде, по-старинному, они звались по фамилиям помещиков: одна – Нилусовской, а другая – Пурьевской. В деревенском обиходе, по-уличному, эти названия сохранялись еще до самого последнего времени, когда Богу было угодно вызвать меня на иное делание: крепко еще держалась в русском крестьянине привычка к старому патриархальному быту и плохо мирилась она с казенной безжизненной нумерацией.
Теперь все стало не то: ко всему, видно, привыкать нужно…
Так вот, в Нилусовской половине в 1893 или в 1894 году, точно не упомню, дошел черед умирать одному домохозяину. Звали этого раба Божия Максимом Косткиным. Был он еще человек нестарый, годам так к сорока трем, был полон сил и здоровья, но страдал одной слабостью – любил не ко времени выпить. И вот, опозднившись раз в кабаке, шел он ночью домой, да вместо того, чтобы попасть ко двору, попал в какую-то лужу, в ней заночевал, а домой приплелся только под самое утро. С этого утра захворал Максим; стал болеть, чахнуть, да проболевши так с полгода и помер. За болезнь Максима и без того неисправное его хозяйство дошло до окончательного упадка, так что его семейным пришлось пойти под окошко побираться. Горя великого и муки мученической хлебнула тогда семья Максима, что называется, полной чашей; а была та семья ко дню смерти Максима немаленькая: сам больной хозяин, да баба-хозяйка, да семь девок мал мала меньше; старшей, Таньке, шел в то время пятнадцатый год, по ней второй, Аксютке, – двенадцатый, а за ними шли все погодки – кому девять, кому восемь, а младшей только два года. Максимова баба, звали ее Ульяной, с больным мужем да со старшей дочерью и тремя малолетками останется, бывало, дома, а Аксютка с двумя сестренками, что постарше, и пойдут себе “в кусочки” стучать под окошки христолюбцев:
– Подайте, милостивцы, Христа ради!
И зиму-зимскую ходили побираться бедняжки. Что горя-то приняли они, разутые, раздетые, голодные, в эту памятную для них зиму! Ангелы их хранители, видно, сберегли их, оттого и живы остались…
Наступал конец Великого поста того года, когда умер Максим Косткин (он скончался летом, во время самой рабочей поры); приблизилась седмица Страстей Господних. И говорит мне мой староста Данила Матвеевич:
– Дозвольте доложить вам, сударь! Вы ведь изволите знать Ульяну Косткину, что к нам на поденную ходит? Так не прикажете ли нам помочь ей чем да нибудь? Совсем извелась баба.
И он мне рассказал всю историю горемычной семьи Косткиных. Вошла она мне и моим домашним в сердце, и в утро Светлого дня Пасхи, возвращаясь домой от обедни, я зашел проведать горемык, навестить больного и, кстати, убедиться, так ли велика их нужда, как о том мне сказывал мой Данила Матвеевич… И с этого великого дня порешили мои домашние дать помощи этой несчастной семье, и если не поднять ее на ноги, то, по крайней мере, не дать ей умереть с голоду!..
Так-то вот печется Господь о людях!
Когда умер Максим, а через два месяца после его смерти вдова его Ульяна родила сына, восьмого ребенка, вся Косткинская семья была принята под покровительство моих домашних и поступила на иждивение экономии, на месчину (В старинных или живших по старине дворянских поместьях “месчиной” называлась ежемесячная помощь продовольствием отдельному лицу или целому семейству, впавшему в бедность). И, надо отдать справедливость Ульяне, недаром она с семьей своей ела харчи и чем могла, тем и работала, отрабатывая экономии за великую милость Господню, явленную ее сиротской доле. Глядя на это, мои семейные полюбили Ульяну, а полюбив, взяли ее с семьей на полное свое попечение: завалится двор – двор поправят; там печка не исправна – печку прикажут новую сделать, то с подельней землей распорядятся отдать ее под обработку надежному человеку – дома у Ульяны работать-то мужиковскую работу было некому; там, глядишь, подати спрашивают – оплатят и подати; взялись, словом, за Ульяну, как за дочь родную.
И позавидовал враг человеческого рода Ульяне, и пошли по селу суды да пересуды, кто во что горазд: совсем, было, извели несчастную бабу так, что хоть вовсе отказывайся от помощи и опять ступай побираться по миру, если бы не была так велика нужда с такой-то семейкой – сама девятая. Пришлось смиряться да отмалчиваться, а когда тайком и горько поплакать. Этим-то путем смирения и победила Ульяна все вражьи наветы: унялась сплетня, порешив на том, что Ульяна колдунья и “слово такое знает”. Порешила сплетня, да на том и успокоилась.
Но не унялась бесовская сила и всю свою злобу и зависть перенесла в сердца ближайших к Ульяне соседей – двух родных братьев Ильи и Сидора Павлочевых. Эти уже просто, что называется, остервенились на Ульяну. И почтительна она к ним была, даже заискивала, – так нет же, видеть ее равнодушно не могли и, кажется, разорвать были бы ее готовы, если бы не знали, что за ее сиротством стоят ее покровители и не дадут ее в обиду. Но чем более им приходилось сдерживать свою злобу, тем сильнее и яростнее жгла она их сердца, прорываясь на каждом шагу соседских отношений. Чего, чего только там не было!.. Кто знает, как и в чем может проявляться мелочная злоба в деревне между соседями, тот и без слов поймет, какую муку терпела Ульяна от братьев Павлочевых. Доходило иногда до того, что в припадках бессильной ярости, истошив над Ульяной весь запас ругательств, отколотив ни за что ни про что то ту, то другую из девочек, переломив спину дворовой собаке, искалечив поросенка, курицу, – словом, понатворив то или другое неистовство, они за глаза грозились мне, грозились меня поджечь, убить… Мало ли еще чего сулили мне, чтобы запугать и без того на полусмерть перепуганную Ульяну.
– Ты, такая-сякая, на своих благодетелей надеешься, – кричали они Ульяне, – так мы и им, и тебе покажем, мы вам зададим! Мы потрохи-то из вас выпустим!
И ярилась, и плевалась, и злобствовала бессильная ярость осатаневшего сердца, но дальше угроз переступить не могла: свои пути у Господа и грань их не нарушить всей силе бесовского ополчения!..
С год или немногим больше продолжалась эта ненависть, горевшая в сердцах братьев Павлочевых не потухая, а все более разгораясь, и кто знает, чем бы все это кончилось, если бы не грянул над ними гром кары Божиего суда и гнева. В год с небольшим и следа не осталось от обоих человеконенавистников. Началось с Сидора. Шел он из кабака домой, а дело было поздней ночью, было темно; путь ему лежал через речку, а в то время через речку перестраивали мост и перестилали мостовую настилку. Был устроен рядом временный мост, по которому и ходили все трезвые люди; ну а у пьяного человека всякая бывает фантазия – и отправься сильно подвыпивший Сидор по тому мосту, который перестилался. На мосту с одной стороны доски были уже положены, но еще не были пришиты гвоздями, а с другой только и было положено, что нужно было для перехода плотникам; в промежутке же зияла четырехсаженная пропасть в самую речку. Как уж это вышло, одному Богу известно, но только рано поутру, когда вышли плотники на работу, то к великому своему ужасу увидели Сидора уже мертвым: висит несчастный вниз головою над пропастью, а ноги застряли между двумя досками мостовой настилки. Так и кончил жизнь Сидор медленной, мучительной, страшной смертью.
Не прошло, кажется, и году со дня несчастной смерти Сидора Павлочева, как грозный суд Божий постиг и другого брата, Илью. К этому времени Илья остался жить бобылем: была у него жена – умерла; сын ушел на шахты и не давал о себе известий; была еще дочь-вековуша, девушка хорошей, благочестивой жизни, – та с отцом не жила, а может быть, тоже умерла – этого я не упомню, но знаю только, что Илья в то время жил одиноким, старым, сердито-хмурым стариком, не входившим в общение ни с кем, кроме Ульяны Косткиной, своей ближайшей соседки, которую он продолжал ненавидеть по-прежнему. И вот накануне вешнего Николы нашли Илью Павлочева в его избе с раскроенным надвое черепом…
В местности нашей, когда произошло это событие, преступления, подобные тому, которое совершено было над Ильей Павлочевым, были крайне редки: все наше село было потрясено событием, а становой, так тот заклялся, кажется, ни пить, ни есть, пока не разыщет убийцы. Но дело это оказалось не под силу нашему становому: убийца как сквозь землю провалился, не оставив по себе и следа, хотя много перетаскали народу и в становую квартиру, и к следователю, да все понапрасну – на убийцу так-таки и не напали.
И решено было властями предать это дело воле Божией…
Убили Илью Павлочева пятого или шестого мая. Труп его был найден накануне Николиного дня, а убит-то Илья был двумя-тремя днями раньше, как определил доктор, производивший вскрытие. Шел Рождественский пост. Вначале декабря или в самом конце ноября, тоже, стало быть, близ Николы, то, что было не по плечу властям земным, легче легкого разрешилось властью небесной, и разрешилось так, что мы все, бывшие очевидцами, только руками развели да ахнули. А было с чего ахнуть!
В тот год сильно затянулась у нас осень: в начале декабря о снеге не было и помину. Выпадал, правда, снежок, да тут же и таял; затем землю схватило морозцем, разъяснилось небо, морозы усилились и комками сковали дорожную грязь; много боялись тогда, что повымерзнут озими, неприкрытые от стужи зимним покровом… На нашу железнодорожную станцию к дорожному мастеру, в такую-то погоду и дорогу, заехал повидаться старичок-приказчик из соседнего с моим имения. Не успел он по приезде задать своей лошади корму, как она зашаталась в оглоблях, рухнула на землю и вмиг издохла. Старичок-приказчик, человек бывалый и опытный, сразу распознал, что лошадь пала от сибирской язвы, и тотчас послал на село привести кого-нибудь из мужиков, чтобы закопать ее вместе со шкурой. Пришли два брата Стефановых, договорились за работу получить целковый, привели в хомуте свою лошадь, связали падаль за ноги, закрепили ее веревкой за гужи и сволокли в овраг, в укромное местечко, а свою лошадь поскорее домой, чтобы не заразилась от издохшей. Вернулись Стефановы в овраг, чтобы закопать падаль, и тут вспомнили: ведь шкура-то тоже денег стоит, рубль-то рублем, а от шкуры-то и четырьмя можно попользоваться, кто там узнает, что она с падали? Вздумано – сделано: содрали они шкуру, падаль кое-как закопали в мерзлую глину оврага, а шкуру потащили к себе домой. Дело было уже поздно вечером и уже настолько стемнело, что можно было смело тащить добычу – никто не увидит… Вот тут-то и совершилась над Стефановыми тайна воздаяния за грех их нераскаянный, от людей скрытый, а Богу ведомый. Несли они шкуру вдвоем да в темноте наступивших сумерек, не разглядев под ногами обледеневшего комка грязи, наткнулись на него и упали. Один из них лоб себе до крови рассек, а другой тоже до крови поцарапал руку. Поначалу-то дело было небольшое: обтерли себе кто руку, кто лоб и пошли себе дальше, волоча шкуру с дохлой скотины; ну а потом дело-то вышло великим. Не успели они дойти до дому да припрятать шкуру, как оба стали кончаться: проникла в их кровь зараза с падали от рук, которыми они сдирали шкуру, а потом свою кровь обтирал и; и как громом поразила их сибирская язва. Пока сбегали за священником, один брат уже успел покончиться, а другой, хоть и был еще жив, но находился в таком исступлении, что священнику со Святыми Дарами к нему нельзя было и подступиться. Так и этот брат умер без покаяния. И так была страшна смерть его, такими она сопровождалась проявлениями нечеловеческой злобы и ненависти ко всему святому, что трепетало от ужаса сердце всех, начиная со священника, кто лицом к лицу стоял перед этой леденящей душу смертью явно Богом отверженного человека.
И не успели остыть эти два трупа, как голос народный указал на покойников как на убийц Ильи Павлочева. Все это знали, но все молчали из страха пред убийцами: это были люди, способные на всякое зло, чтобы отомстить каждому, кто бы осмелился их выдать человеческому правосудию. Ну а против правосудия Божиего кто станет? Под вешнего Николу убили Стефановы Павлочева, а под зимнего сами лежали в гробу, сраженные гневом Божиим, отверженные, страшные в своей нераскаянной злобе, бессильные принести достойные плоды покаяния…
Дописываю эти строки и слышу: в открытые окна, прорезывая сгустившийся сумрак тихой летней ночи, из монастырской больницы Оптиной пустыни несутся в мою комнату отчаянные вопли, крики и стоны нечеловеческих страданий. И так не день, не два, а скоро уже третья неделя, как то затихая, то с новой удвоенной силой возрастая вырываются из человеческой груди эти нечеловеческие вопли… Это терзается и мучается умирающее тело человека, лакея соседнего с Оптиной помещика. Что за страдания, что за мука!.. И эта мука, и эти страдания сопровождаются еще такими страшными видениями, что этот несчастный, полусгоревший человек находит в себе от ужаса силы подняться и бежать от своего страдальческого ложа…
Что-то вдруг тихо стало… Не смерть ли освободительница пришла и вырвала страдальца из ада, из огненной геенны его мучений?.. Должно быть, так!, Упокой, Господи милосердый, его истерзанную душу.
Сегодня я узнал, за что постигла его такая кара: он бросил свою мать, которой он был единственным кормильцем и последней опорой беспомощной старости, и бросил из-за женщины. Много раз приходила она к нему, больная, слабая, дряхлая, и всякий раз он отгонял ее, мать свою, с бесчеловечной жестокостью. В последний раз она пришла к нему недели три тому назад и из уст своего единородного сына услыхала страшное, безумное слово:
– Уйди!.. Хоть бы ты сгорела!
А на другой день он сам сгорел от вспыхнувшей спиртовой лампочки кофейника, на котором он готовил кофе своему господину… Опять кричит!.. Он все еще жив, несчастный!.. Помилуй его, Господи! Спаси, Господи, его душу: она раскаялась, отстрадала и прошена той, которая его породила и которая теперь его же муками страдает, терзается и плачет!.. Господи, помилуй!
Оптина пустынь – 1 августа 1908 г.
VI. “Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного…”
Мф. XVIII, 10
Только чистые сердцем Бога узрят. Эти чистые сердцем могут видеть и Ангелов, им открываются и тайны Царства Небесного. Кто же, кроме детей и достигших бесстрастия великих подвижников, может быть чист сердцем в той мере, какая потребна для зрения лица Божия и святых Ангелов Его?..
Я знал одну женщину, которая в детстве своем удостоилась видеть своего Ангела хранителя. По ее словам, она видела его во сне. Но сон ребенка и явь в его жизни не один ли тот же сон? Где кончается и начинается то и другое? Да и вся наша жизнь пред обетованной и грядущею для нас вечностью – не тот же л и сон?
– Было мне семь лет, – так сказывала мне эта женщина.
– Ребенком я все любила смотреть на небо, на звезды, представлять себе Ангелов, беседовать с ними – росла я, словом, ребенком мечтательным, живущим в мире заоблачных желаний и видений. Часто во сне я видела Ангелов, но сны эти позабыла. Один только сон мне так врезался в память, что я не могу с уверенностью сказать, сон ли то был или действительность…
Вижу я, бегу по саду мимо нашего Бойцовского дома со стороны девичьего крыльца. Балкон дома с колоннами выходил в сад, и против него разбиты были три клумбы с цветами, одна из них как раз против балкона; на клумбе росли кусты белых роз. Я бегу будто по дорожке мимо балкона и вижу: из клумбы белых роз выходит Ангел; рост его высокий, стройный, крылья и одеяние белоснежные – Ангел, словом, такой, как пишут Ангелов на иконах. Я остановилась, преисполненная изумленной радости…
Ангел подошел ко мне, взял меня за руку и повел назад к девичьему крыльцу. Я держусь за руку Ангела и вижу, что на его пальце надето обручальное кольцо моей матери, которое мать не снимая всегда носила на руке (Наши деды и бабки в браке носили два кольца: одно обручапьное, надеваемое по молитве иереем при обручении, другое венчальное, при совершении таинства брака. Первое было плоское золотое, второе – тоже золотое, закругленное).
Указывая на кольцо, я говорю Ангелу:
– Это кольцо моей мамы?
– Да, – ответил Ангел, – это ее кольцо. Я ее Ангел хранитель и иду за нею, чтобы ее увести с собою.
Я почувствовала, что это значит – навсегда, и стала умолять его, плача:
– Не бери моей мамы! Не бери моей мамы! Оставь мне мою маму!
На мой плач Ангел приостановился и взглянул на небо, как бы обращаясь молитвенно к Богу, но потом опять повел меня к крыльцу. А я, заливаясь слезами, все твержу:
– Не бери, не бери, оставь мне мою маму!
Так мы взошли на ступени девичьего крыльца и вошли в девичью.
В девичьей стоял длинный стол; за ним обычно работали наши крепостные девушки (Это происходило в 1855 году) с вышиванием и другими рукоделиями. За девичьей была другая комната, а за ней – спальня моих родителей. И я сердцем почувствовала, что если Ангел переступит порог девичьей и войдет в спальню, то все будет кончено и я лишусь своей матери навеки… С воплем отчаяния я ухватилась за одежду Ангела и стала его еще усиленнее умолять не отнимать у меня мамы…
На столе девичьей лежал белый покров, обшитый серебряным галуном, – таким покровом покрывают покойников.
На мой детский вопль Ангел опять остановился, обратил взор свой к небу, постоял в молчании некоторое время, потом взял со стола в руки покров и сказал мне:
– Я умолил Господа, Он оставляет тебе твою маму. А это – он указал на покров – это тебе покров Царицы Небесной!
На этом я проснулась и тут же рассказала сон этот своей няне.
Мать моя в это время была тяжко больна. Родив, как я потом узнала, двойню без докторской помощи и с плохой акушеркой, она истекала кровью и была при смерти. Когда из ближайшего города привезли доктора, то он объявил, что она безнадежна. В ночь моего видения с ней был кризис и ей внезапно стало лучше и она вскоре выздоровела.
Когда я вышла уже замуж и родила свою первую дочку, не прошло после того и трех месяцев, как мать моя умерла, и, умирая, говорила мне:
– Зачем ты тогда вымолила меня у Бога? Я чище тогда была.
Но кто был советником Богу?..
Так видят Ангелов чистые детские души.
14 марта 1909 г.
VII. Кончина монаха Феодосия. Его тетрадка. Знамение у нас в крещенской воде
На днях скончался мантейный монах отец Феодосии. Он был регентом за ранней обедней. За неделю пред кончиной был пострижен в схиму. Доброй и внимательной жизни был монах и, по нашим мирским понятиям, интеллигентный. Рода он был купеческого и годами нестарый – годам к пятидесяти пяти, не старше. Умер от какой-то хронической болезни сердца. Много терпел скорбей и даже раз выходил из Оптиной, но вновь вернулся и дожил свой век благополучно в родном монастырском гнезде. Пред кончиной ежедневно причащался Святых Христовых Тайн.
Один из близких к покойному отцу Феодосию монахов принес мне сегодня оставшуюся после него небольшую тетрадку, и в ней я нашел следующую его собственноручную запись.
“Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Я, многогрешный Феодор (до мантии его имя), недостойный раб Господа и Бога моего Иисуса Христа, рясофорный послушник святой Оптиной пустыни, пишу эти строки не из какого-либо вымысла или лжи, но сущую и неложную правду. Да будет вам, отцы и братия мои, моя эта повесть не на соблазн, а для душевной пользы.
1893 года, декабря шестадцатого дня, Господь посетил меня болезнью и я сделался жестоко болен инфлюенциею. Лечил меня врач Оптиной пустыни отец Димитрий; восемнадцатого декабря вечером я сделался очень слаб. В это время меня посетить зашел иеромонах отец Варлаам; пришел и врач отец Димитрий, который стал меня спрашивать о здоровье и начал мне примачивать голову эфиром. Тут я почувствовал во всех членах онемение и в мгновенье кровь моя совершенно застыла и я сделался недвижим. И вот, слышу, кто-то говорит:
– Не бойся, ничего не страшись!
В это время сделался страшный и непонятный шум и стук, как от множества едущих по каменной мостовой экипажей, и кто-то тут же ударил меня по голове каким-то орудием так сильно, что душа моя в один миг вылетела из тела и увидела, что и покров моей келий тоже слетел. И увидел я свое тело как какое-то брошенное платье. Тут под руки меня взяли двое монахов, один отец Варлаам, а другой неизвестный, оба в мантиях. Они подняли меня на воздух, и долго мы неслись в высоту. По всему воздушному пространству и на всем нашем пути мне ничего не было видно, но со всех сторон был слышен страшный шум. Определить его или применить к чему-либо земному никак нельзя, но только в это время душа моя трепетала. И когда донеслись мы, казалось, до самого предела неба, тут нас внезапно облистал необыкновенно яркий свет, как бы луч какого-то ярчайшего солнца, бесконечно светлейшего нашего земного солнца. Это продолжалось только мгновение. И мы стали спускаться вниз. Но чудесное то осияние с такою силой запечатлелось в моей душе, что я от восторга во весь обратный путь книзу только и мог, что твердить:
– Слава Тебе, Господи! Благодарю Тебя, Господи! Ничего я плохого для себя не вижу.
И мы по воздуху опять спустились к моей келий. И вижу я, что над моей келией, на воздухе, стоят некий муж и некая жена, но лиц их я не вижу. Когда же мы спустились в келию, то я увидал, что посреди нее на полу стоит гроб и в гробу мое тело. По сторонам гроба сидят два монаха. Один из них говорит:
– Что ж нам нужно теперь делать? Жена, виденная мною, отвечает:
– Возвратите его, а болезнь оставьте ему: пусть прославляет Бога, как прославлял Его.
В это время я взглянул на северо-западную сторону и увидел провал земли и из него вылетает пламя и страшный дым. От страха я очнулся и увидел себя лежащим на койке и около меня не было никого.
Богу одному известно, была ли в это время душа моя в грешном теле или это представлено было мне во сне, но как было от начала и до конца, говорю, что видел, и это сущая правда.
Прошу вас, отцы и братия, помолитесь о мне, многогрешном, ко Господу Богу, да помилует меня. Грешный ваш собрат Феодор Ширнин”.
Отец Феодосии скончался девятого или десятого марта. Видение его преобразовало последующую жизнь его и кончину: болезнь его была с ним неразлучной спутницей все дни его жизни, а жизнью своей он действительно славил Бога. Знаменательным показался мне конец его видения – провал, виденный им на северо-западе и исходящий из провала дым и пламя. Не пришел ли конец земной жизни отца Феодосия к тем дням, которые в книге жизни предназначены стать днями пятого апокалипсического Ангела, когда отворится “кладязь бездны, и выйдет дым из кладязя, как дым из большой печи; и помрачится солнце и воздух от дыма из кладязя” (Апок. IX; 1, 2)? Современность на то похожа…
В той же тетрадке отца Феодосия было записано его рукою следующее.
Пристав второго стана Горбатовского уезда Нижегородской губернии получил от урядника донесение и письмо, написанное к уряднику церковным старостой села Епифанова Горбатовского уезда. В письме дословно написано было следующее.
“Сим имею честь просить вас, чтобы вы приехали к нам в село Епифаново сего 21 мая, то есть в воскресенье, к литургии, так что у нас будет освящение источника, который находится при часовне, где и чудотворная икона Тихвинской Божией Матери. Вот у нас в источнике сотворились чудеса, каких никто не слыхивал и не видывал. Сначала этот источник замерз в конце месяца марта. Пятнадцатого мая стали лед пробивать, но не могли пробить. Потом пришлось его разрыть. Разрыли и лед пробили. В этом льде оказались чудеса, такие чудеса! Было изображение нашего храма, паникадила, изображение Господа Иисуса Христа в темнице, Божией Матери, колокола и креста над ним. Прошу приехать без всякого отлагания. Церковный староста Иван Савин”.
Двадцать четвертого мая пристав второго стана составил в селе Епифанове протокол следующего содержания:
“Близ села Епифанова, приблизительно в полуверсте от него, находится деревянная часовня, в которой устроен колодец над родником. Родник этот издавна привлекал к себе не только жителей окрестных селений, но и дальний народ. Из него брали воду, которую считали целебной. Никто из жителей не помнит, чтобы родник этот когда-нибудь замерзал, и когда он замерз, то это крайне удивило прихожан и они обратились к местному священнику отцу Михаилу Студенецкому с просьбой о молебствии, которое и совершено было 8 мая. Однако вода не появилась. Шестнадцатого мая стали рубить землю в часовне, чтобы вынуть чан, помещавшийся в колодце. Земля была настолько замерзшая, что с трудом поддавалась топору. Семнадцатогого мая чан вынули с частью льда и тотчас показалась вода. Затем из чана стали выламывать лед и выбрасывать его в сторону.
Находившийся тут же крестьянин села Епифанова Савин обратил внимание на лед, который был необыкновенно светлый, поднял одну льдину величиною с пол-аршина и заметил в ней изображение паникадила, нескольких подсвечников и лампад; вещи эти казались в середине льда как будто сделанные из серебра. Савин тотчас предъявил льдину и другим, и все видели те же самые изображения. Другие льдины после этого также стали поднимать и в них оказались разные изображения; так в одних ясно замечались присутствовавшими колокольня и отдельно колокол с крестом сверху, в других льдинах были изображения Иисуса Христа в темнице, Божией Матери, пред которою на коленях стоит молящийся.
Все эти изображения представлялись сделанными из серебра. Изображения пропадали по мере таяния льда, но их можно было наблюдать в течении трех дней, пока лед окончательно не растаял.
Слух об этом сверхъестественном явлении так быстро распространился, что за три дня приходили и видели изображения в льдинах тысячи народа. Упомянутые льдины с изображениями находились затем в течение трех дней, пока не растаяли, у священника Студенецкого, который и подтверждает изложенное в настоящем акте, написанном при дознании с показания очевидцев. Подписано священником Михаилом Студенецким, сельским старостой Андреем Лисиным, церковным старостой Иваном Савиным и многими крестьянами. Народ тысячами продолжает стекаться к роднику… и 21 мая было свыше пяти тысяч человек”.
Таков акт дознания станового пристава, копия с которого найдена мной в тетрадке почившего о. Феодосия.
Сбоку приписка отца Феодосия: “Было это в мае 1900 года”.
Читал я это вечером моим домочадцам, а Ляля (О ней см. “На берегу Божией реки” том I) и говорит:
– А помните, как в моей бутылке нынче зимой замерзла крещенская вода?
Я вспомнил: вода замерзла только внутри, а у стенок бутылки она оставалась талой. Замерзши же внутри, она своей льдиной представила точное подобие дерева, по виду елки.
– Она потом у меня оттаяла, – продолжала Ляля, – и вновь замерзла, как и прежде, но уже не в форме дерева, а рыбы хвостом вверх. И так это было похоже на настоящую рыбу, что даже видна на ней была каждая отдельная чешуйка. Наши на кухне все это видели и дивились.
Я объяснил Ляле, что образом рыбы первые христиане изображали самого Спасителя, ибо греческое слово пятью своими буквами дает начертание пяти начальных букв имени Господа.
Ляля так и ахнула, когда я это ей разъяснил. Вот какие чудеса заключены бывают в тайниках нашей веры.
О дивная вера наша!
I
Было это в 1900 году. В тот год один близкий мне по духу священник видел во сне великого старца Саровской пустыни иеромонаха отца Серафима, молящегося в моем доме перед родовой моей иконой Спаса Нерукотворенного. Сон этот показался настолько знаменательным, что по нем я в том же году летом впервые съездил в Саров, где в источнике отца Серафима получил исцеление от многолетней моей хронической болезни и оттуда посетил и Серафимо-Дивеевский женский монастырь, любимое создание великого Саровского старца. Поездка эта мной описана была в книге моей “Великое в малом”, к этой книге я и отсылаю интересующихся, а теперь поведу речь и о той, кого на пути собирания цветов с духовного луга поставил Господь предо мной еще живым и жизнетворным цветом современного иноческого подвижничества. Цветок этот была великая дивеевская блаженная Христа ради юродивая Параскева Ивановна – Паша Саровская, она же “маменька” сестер Дивеевской обители.
Вот что пишется о ней в летописи Серафимо-Дивеевского монастыря.
Блаженная Параскева Ивановна, всем известная по данному ей прозвищу Паша Саровская и почитаемая в обители за “маменьку”, родилась в Тамбовской губернии Спасского уезда в селе Никольском в поместье господ Булыгиных от крестьянина Ивана и жены его Дарьи, которые имели трех сыновей и двух дочерей. Одну из дочерей звали Ириной – нынешнюю Пашу. Господа отдали ее семнадцати лет против желания и воли за крестьянина Феодора. Ирина жила с мужем хорошо и согласно, любя друг друга, и мужнина семья очень уважала ее, потому что Ирина хорошо работала, ходила на барщину, любила церковные службы, усердно молилась, избегала гостей, общества и не выходила на деревенские игры.
Так прожила она с мужем пятнадцать лет, и Господь благословил ее детьми. По прошествии этих годов господа Булыгины продали их другим помещикам – немцам, господам Шмидт, в село Суркот. Через пять лет после этого переселения муж Ирины заболел чахоткой и умер. Тогда господа взяли ее в кухарки и экономки. Несколько раз они вторично пробовали выдать ее замуж, но Ирина решительно сказала: “Хоть убейте меня, а замуж больше не пойду”. Так ее и оставили. Но через полтора года стряслась беда в усадьбе Шмидта – обнаружилась покража двух холстов. Приехал становой со своими солдатами, и помещики упросили его наказать виновную. Солдаты зверски ее избили, истязали, пробили ей голову, порвали уши… Ирина продолжала говорить, что она не брала холстов. Тогда господа призвали местную гадалку, которая сказала, что холсты украла действительно Ирина, да не эта, и опустила их в воду, то есть в реку. На основании слов гадалки начали искать холсты в реке и нашли их.
После перенесенного истязания Ирина не была в силах жить у господ “нехристей” и в один прекрасный день ушла. Помещик подал заявление о ее пропаже. Через полтора года ее нашли в Киеве, куда она добралась Христовым именем на богомолье. Схватили несчастную Ирину, посадили в острог и затем препроводили по принадлежности к помещику. Помещик, чувствуя свою вину, обошелся хорошо с Ириной, желая опять воспользоваться ее услугами, и сделал ее огородницей.
Более года прослужила она ему верою и правдой, но ее возвратили из Киева уже не той, какой она была: в ней произошла внутренняя перемена, которая явилась вследствие испытанных страданий, несправедливости и получения сердечной теплоты и света у старцев в Киеве. Теперь в сердце ее жил один Бог, единый любящий, нелицеприятный и милосердный Христос, и она поняла в Киеве, к чему должны стремиться люди и единственно чем могут усладить свое сердце на земле. Ирина жила, услуживала господам, но сердце ее укреплялось одними воспоминаниями о Киеве, о пещерах, угодниках Божиих и о своем духовном отце-старце. Видно было, что горело и билось в ней сердце любовью ко Христу и духовной жизни, если она, несмотря на все ужасы ареста в остроге и шествия по этапу, не выдержала и убежала вторично от своих господ.
Через год по объявлению ее опять нашли в Киеве и арестовали, и пришлось претерпеть страдания острога, этапного препровождения к помещикам. Когда же она возвращена была господам, то господа не приняли ее и выгнали раздетою, без куска хлеба на деревню. Тогда и решилась ее участь и она вступила на путь юродства Христа ради, на который ее несомненно благословили духовные ее отцы, киевские старцы.
Пять лет она бродила по селу, как помешанная, служа посмешищем не только для детей, но и для взрослых. Тут она выработала привычку жить все четыре времени года на воздухе, голодать и терпеть стужу и… затем исчезла.
За неимением сведений лично от блаженной Паши мы не можем сказать, где она жила до переселения в Саровский лес, или она прямо туда удалилась из господской деревни. Несомненно одно, что в Киеве она приняла тайный постриг с именем Параскевы и оттого называет себя Пашей. В Саровском лесу она пребывала, по свидетельству монашествующих в пустыни, около 30-ти лет, жила в пещере, которую сама вырыла. Говорят, что у нее было несколько пещер в разных местах непроходимого, обширного Саровского леса, переполненного хищными зверями и медведями. Ходила она по временам в Сэров и Дивеев, но чаще ее видали на Саровской мельнице, куда она являлась работать на живущих там монахов.
В то время она обладала удивительно приятной наружностью. Во время своего жития в Саровском лесу, долгого подвижничества и постничества, Паша имела вид Марии Египетской; худая, высокая, совсем обожженная солнцем, она на некоторых наводила страх, несмотря на привлекательность своей внешности; босая, в мужской монашеской рубахе, свитке, растегнутой на груди, с обнаженными руками, с серьезным и даже строгим выражением лица, она, приходя в монастырь, казалась некоторым страшной.
За четыре года до перехода своего в Дивеевскую обитель она проживала временно в одной из окрестных деревень. Ее уже и тогда считали блаженной и прозорливостью своею она заслужила всеобщее уважение и любовь. Крестьяне и обращавшиеся к ней давали ей деньги, прося ее молитв, но исконный враг всего доброго в человечестве, диавол, внушил разбойникам злую мысль напасть на нее и ограбить. Негодяи избили ее до полусмерти, и блаженную Пашу нашли всю в крови. Она болела целый год и уже никогда после этого совершенно оправиться не могла: боль проломленной головы и опухоль под ложечкой мучили ее постоянно, хотя она на это, по-видимому, не обращала никакого внимания.
После побоев и под старость Параскева Ивановна начала полнеть. Типичная ее наружность по временам бывала очень изменчива, смотря по настроению ее духа: то чрезвычайно строгая, сердитая и грозная, то ласковая и добрая, то грустная. Но от доброго ее взгляда каждый человек приходил в невыразимый восторг. Детски добрые, светлые, глубокие и ясные глаза ее поражали настолько, что исчезало всякое сомнение в чистоте и праведности высокого ее подвига. Облекаясь в сарафаны, она, как дитя, любила яркие, красные цвета, а иногда надевала на себя несколько сарафанов сразу… Вид блаженной Паши с вьющимися седыми кудрями и чудесными голубыми глазами привлекал внимание каждого человека…
Случаев прозорливости Параскевы Ивановны невозможно собрать и описать!..
Вот эту-то блаженную дивеевскую “маменьку” и привел Господь меня видеть, и не только видеть, но и получить от ее великих духовных даров немалую пользу для многогрешной души моей.
Когда в первое мое посещение Дивеева( в конце июля 1900 года) меня привела к блаженной наша орловская помещица, гостившая в то лето в Дивееве, я застал блаженную лежащей на кровати и до головы укрытой одеялом. Лицо ее было обращено к стене и я его не видел. При входе нашем она как бы вполусне прошептала:
“Божечке свечечка, Божечке свечечка, Божечке свечечка!” Очень хотелось мне тогда отнести эти слова к себе, ибо великой в то время любовью пламенело мое сердце к Богу, но как было дерзать моим грехам позволить себе такое сравнение? Недаром же тогда моя спутница и путеводительница по дивеевским святыням говорила мне:
“Не ожидала я, признаться, видеть кого-либо из вашего рода в таком месте, как далекая от мира обитель Дивеевская”.
Мне ли, представителю мира, относить было к себе великие слова блаженной, да еще на первых моих таких неуверенных и робких шагах от пути служения миру и диаволу.
II
В январе 1902 года посетил меня Господь тяжелою болезнью…
“Одно чудо могло вас спасти”, – так говорили мне впоследствии врачи, делавшие мне в то время операцию. Чудо это, по вере моей, было вновь чудом еще не прославленного тогда во святых великого старца Серафима, в 1900 году исцелившего меня силой чудотворного своего источника… Операцию мне делали в январе, в марте выпустили меня полуживого из больницы, но до самого июня я все никак поправиться не мог и был так слаб, что едва двигал ноги. И подумалось мне тогда: чудом не дал мне угодник Божий умереть, ему же, видно, дать мне и окончательное выздоровление, и я решил ехать к нему вновь в Сэров и Дивеев.
В ту пору Господь послал мне и спутника в лице одного хорошей души человека из интеллигентов, потянувшихся сердцем к простоте христианского ведения, пренебрегаемой сынами и премудростью века сего. По тогдашней моей слабости мне без него ехать и думать было нечего…
Двенадцатого июня мы с ним выехали из Орла, вблизи которого было мое имение, а пятнадцатого, с остановкой на ночлег в Арзамасе, были в Дивееве.
В Дивееве мы были встречены, как старые друзья. Там еще была свежа память о первом моем появлении в обители с первой вестью о близости прославления великого ее основателя и старца, а потому Дивеевская обитель встретила меня и моего спутника как желанных и дорогих гостей. О моей радости увидеть, да еще после болезни, угрожавшей смертью, великое и святое это место, освященное “стопочками Царицы Небесной”, и говорить нечего. На мое счастье, радость моя передалась и моему спутнику. Да как было тогда не радоваться и не гореть духом, когда во главе Дивеева еще стояла великая старица игумения Мария, живая летописьдивеевских преданий, восходящих до Серафима, а от Серафима до Самой Царицы неба и земли.
– На двенадцатой начальнице, – предсказывал сиротам своим великий угодник Божий, – у вас и монастырь устроится. И будет та начальница – Мария, Ушакова родом.
Эта-то игумения Мария в то время и пестовала и окрыляла духом своим и чисто серафимовскою любовью всех, кто и с верою и с любовью припадал к святыням дивеевским. В их числе оказались и мы с моим спутником: как же было не гореть нашим сердцам ответной любовью? И, видит Бог, они пламенели…
– Накануне исповеди, было это 17 июня, я зашел к матушке игумений. За беседой она неожиданно обратилась ко мне с вопросом:
– А были вы у блаженной Парасковьи Ивановны?
– Нет, матушка, не был.
– А почему же?
– Боюсь.
– А чего же вы боитесь?
– Того боюсь, дорогая матушка, что вывернет она мою душу наизнанку, да еще при послушницах ваших, и тогда – конец вашему ко мне расположению. Снаружи, – то как будто я и ничего себе человек, ну а внутреннее мое, быть может, полно такой мерзости и хищения, что и самому мне невдомек, а вам и подавно, а ей, как прозорливице, все это открыто. Бежать ведь от вас мне со стыдом придется, а душе моей так хорошо здесь у вас. Пожалейте меня, матушка!
– Ну это вы, конечно, шутите.
– Нисколько не шучу, а скорблю о своем окаянстве и боюсь обличения.
– А если я вас о том попрошу, неужели вы откажете мне в моей просьбе? Я вас очень прошу: сходите к ней. Уверяю вас, бояться вам нечего.
Что было тут делать. Пришлось согласиться:
– Благословите, матушка.
Решили на том, что я на следующий день пойду к блаженной перед исповедью. Этот день был 18 июня, день празднования Боголюбской Божией Матери, икону которой я особо чтил по следующему случаю.
В 1888 году, оставив службу по министерству юстиции, я сел на хозяйство в своем имении. Несмотря на свое воспитание в духе равнодушия к вере, даже безверия, которым отличались шестидесятые годы прошлого столетия, годы моего детства и ранней юности, я пожелал начать новую для меня и давно желанную деятельность с молитвой. Во флигеле, только что отстроенном, в котором я поселился, не было ни одной иконы, а я уже успел пригласить местного священника отслужить молебен в моем помещении и ждал его приезда с минуты на минуту. Спросил у экономки, не знает ли она, где достать мне поскорее икону, чтобы ее повесить во флигеле…
– Да, – отвечает она, – нет ли ее на чердаке в старом доме: там сундук старой барыни (моей матери), там, помнится, есть и икона.
Сходили и принесли. Оказалась старинного письма Боголюбская Божия Матерь. Нашлась там, где и думали, – в сундуке, под коврами и разными домашними вещами… Повесили икону, отслужили перед ней молебен, и началась, и потекла с него моя деревенская жизнь на родной, такой дорогой моему сердцу ниве.
Прошел с молебна месяц. Получаю от матери письмо из Москвы, пишет: “От Лидии Васильевны (старая приятельница) из Риги я получила письмо, и в нем она сообщает мне, что с месяц тому назад видела во сне покойную сестру мою, которая, являясь ей, говорила: “Напишите Наташе (моей матери), чтобы она достала с чердака Золотаревского дома (в имении моем) из сундука, под коврами, икону. Напишите, чтобы достала непременно”.
На это письмо я ответил матери, что это уже сделано приблизительно в те дни, когда Лидия Васильевна видела во сне мою покойную тетку. После этого я снял икону Боголюбской Божией Матери с угла, в котором повесил, чтобы к ней приложиться. Прикладываясь, посмотрел, нет ли чего на обратной стороне ее, и там увидел сделанную рукой моей бабушки, матери моей матери, надпись: “Дочери моей Наталии”.
Такова сила материнского благословения, таково значение святых икон. А ни мать моя, ни тетка, обе давно уже покойные, в силу и значение святых икон при жизни не веровали.
Икона эта сопутствует мне повсюду, куда бы стопы мои не направляла Божия воля.
Участь наша горько-неизвестная: В жизни скорбь, а по смерти – страх.
Но у нас есть Мать на небесах. Радуйся, Невеста Неневестная.
И в этот-то для меня великий день мне предстояло впервые лицом к лицу встретиться с великой дивеевской блаженной.
Утром 18 июня мы пошли с моим спутником к обедне. В будни в Дивееве обедня бывала одна в семь часов утра. Перед тем как идти в церковь, я сказал послушнице при гостинице:
– Сестрица, сходите в келию к блаженной и узнайте, в духе ли она сегодня, тогда придите мне сказать: я хочу ее видеть. А я слышал, что когда блаженная не в духе, то лучше к ней и на глаза не показываться: побьет и самого губернатора – не посмотрит.
Кончилась литургия. Я попросил священника отслужить панихиду на могилах благодетелей, первоначальников и первоначальниц дивеевских, на чьих трудах и подвигах основалась эта святая обитель. Пока служилась панихида, ко мне подошла послушница из гостиницы.
– Блаженная сегодня в духе, пожалуйте.
– Хорошо, – говорю я, – я к ней пойду, но только не сейчас. Поставьте мне самовар: промочу горло чайком, а тогда и пойду.
Я в то время курил, и по утрам, до чаю, меня мучил так называемый “курительный кашель” и сильно пересыхало в горле. Как окончилась панихида, вернулись мы в гостиницу, напились с моим спутником чаю, вдосталь накурились. Пора было идти к блаженной. А на сердце непокойно, жутко…
– Пойдемте, – говорю спутнику, – вместе: все не так страшно будет.
– Ну уж увольте. Я сейчас нахожусь под таким светлым и святым впечатлением от всего переживаемого в Дивееве, что нарушать его и портить от соприкосновения, простите меня, с юродивой грязью, а может быть бранью, если не того хуже, у меня ни охоты нет, ни терпенья: не моей это меры, простите…
Отказался начисто, и даже на меня как будто вознегодовал. Пришлось идти одному.
Иду я к блаженной и думаю: надо будет там дать что-нибудь – дам золотой. Тут же я вынул из кармана кошелек и переложил из него один пятирублевый золотой в жилетный карман, чтобы поближе было… Вхожу на крыльцо. В сенцах меня встречает келейная блаженной монахиня Серафима.
– Пожалуйте!
Направо от входа комнатка, вся увешанная иконами. Кто-то читает акафист, молящиеся поют припев: “Радуйся, Невеста Неневестная”. Сильно пахнет ладаном, тающим от горящих свечей воском… Прямо от выхода коридорчик и в конце его открытая дверь во что-то вроде зальца. Туда и повела меня мать Серафима.
– Маменька там.
Не успел я переступить порог, как слева от меня из-за двери с полу что-то седое, косматое и, показалось мне, страшное как вскочит да как помчится мимо меня бурею к выходу со словами:
– Меня за пятак не купишь. Ты бы лучше пошел да чаем горло промочил.
То была блаженная.
Я был уничтожен.
Не успел я оглянуться, как ее уже и след простыл… С полу, где она сидела, тяжело поднимались две какие-то с ней сидевшие женщины из простонародья…
Как я боялся, так оно и вышло: дело для меня без скандала не обошлось. Приходилось с позором ретироваться. Я направился было к выходу, но меня с живостью удержала за рукав мать Серафима:
– Куда это вы, не уходите, останьтесь, отец Сергий.
– Какой я отец Сергий? – отдернул я руку с неудовольствием. – Разве вы не видели, как меня приняла блаженная, не захотела даже и минуты оставаться со мной под одной кровлей… Чего же мне еще ждать у вас!
Признаюсь, нехорошее тогда зашевелилось в моем сердце чувство и против Серафимы, и против всего уклада монашеского, сразу мне представившегося в том свете, в каком его видят современные недоброжелатели. Я приостановился в нерешительности…
– Нет, не уходите… – вновь воскликнула мать Серафима с такой сердечной искренностью и горячностью в голосе, что из сердца моего сразу вылетел и рассеялся весь туман, закрывавшийся в его недоверчивости. А мать Серафима продолжала:
– Не уходите же, говорю вам, отец архимандрит Сергий. Не так вы думаете, не в обличенье сказала вам это и ушла от вас маменька, она повела вас в храм Божий: чем-то вам в нем быть, чем-то вам служить Церкви Божией. Сколько ведь уже времени не была она в церкви, а как вас увидела, так прямо туда и побежала, да и весь народ с собой туда повела. Неспроста это, и вам это в знамение служения вашего Церкви Христовой. Не уходите же, дождитесь ее, а покамест почитайте-ка нам акафист Боголюбской Царице Небесной.
Сердце мое растворилось, и я согласился читать акафист. Между богомольцами, что были в келий блаженной, нашлись и певцы, и мы с чувством сердечного умиления пропели славу Царице Небесной. Кончили акафист, а блаженной все нет. Хочу уходить, а мать Серафима не пускает:
– Прочли, – говорит, – Матери Божией, почитайте теперь Спасителю. Прочел акафист и Спасителю, а блаженной все нет.
– Ну уж, – говорю, – матушка, простите, больше ждать не буду.
Перекрестился на иконы, поклонился и вышел. И только успел я выйти за калитку полисадника блаженной, как в то же мгновение из бора, смотрю, вышла и блаженная, окруженная толпою богомольцев, и стала сходить по ступеням высокого соборного входа, направляясь к своей келий. Я едва успел избежать новой с ней встречи.
III
Перед всенощной того дня (служили полиелей святому апостолу Иуде, брату Господню) я зашел к матушке игумений и рассказал по порядку все, что произошло со мною у блаженной. Матушка задумалась, а потом, помолчав немного, и говорит:
– Серафима права: неспроста все это и не так, как вам сначала показалось. Сегодня вы будете исповедоваться, а завтра причащаться: сегодня, стало быть, вам будет не до того, а завтра – уже я вас попрошу непростой просьбой, а за святое послушание – завтра вновь сходите к блаженной, и тогда, Бог даст, все будет хорошо. Помните же – за святое послушание, а вы ведь уже знаете теперь силу и значение послушания.
Делать было нечего, пришлось, как ни трудно было, сказать:
– Благословите, матушка.
За всенощной, перед исповедью, напал на меня дух нечувствия: как пень какой-то стоял я в церкви, рассеянно следя за богослужением и мыслями витая где-то вне времени и пространства. Тщетно старался я сосредоточить ум свой на словах молитвенных песнопений, на предстоящей мне исповеди, сердце до того оставалось холодным, что мне становилось жутко: с чем же предстану я завтра пред святой чашей, за трапезой Господней.
Вдруг сзади меня, слышу, кто-то с тихими заглушенными вздохами стал всхлипывать, да так жалобно, что сердце мое насторожилось – я стал прислушиваться. Чей-то тихий женский голос с мольбой взывал Царице Небесной:
– Помоги, Матушка, помоги, Царица Небесная.
Смиренно, но настойчиво – твердая вера слышалась в тихом шепоте молитвенной просьбы, пересекаемой едва слышными всхлипываниями молящейся. Я обернулся и невдалеке от себя в темном углу храма увидел стоящую на коленях и головой припавшую к полу женщину, слабо освещенную мерцанием лампады перед иконой Божией Матери. Точно кто-то шепнул внутреннему моему слуху:
– Помоги ей.
Я вытащил из кошелька все, что на ту пору в нем было, золота и серебра рублей на пятнадцать, и все это не считая высыпал в руку уже поднявшейся с полу бедно одетой женщины. И в то же мгновение отступил от меня томивший дух нечувствия, и великим умилением истинного покаяния преисполнилось внезапно мое совсем было окаменевшее сердце. И почудилось мне, что то был мне ответный дар свыше за милостыню, испрошенную у Царицы Небесной: ведь там все на счету у Отца Небесного…
Не успела изумленная женщина поблагодарить меня, как я уже был от нее далеко – в алтаре правого соборного придела, откуда манил меня мой духовник, призывая к таинству покаяния. И как же оно было сладко тогда по милости Божией Матери.
На утро следующего дня после литургии, за которой мы с моим спутником причащались, пригласили мы нашего духовника питье нами чай на гостиницу. За беседой, слушая рассказы батюшки о преисполненном чудес Дивееве и о великом его будущем, предвозвещенным преподобным Серафимом, вдруг вспомнил об обещании идти к блаженной. Благодушно-радостное настроение сразу меня покинуло: надо же было случиться такому искушению. Опять стало мне жутко. Я сказал об этом своим собеседникам.
– Чего же вам бояться идти к блаженной, – сказал мне батюшка, – ведь вы сегодня со Христом, вы причастник Святых Христовых Тайн, чего же вам бояться? А пойти вам к ней сегодня следует не только ради послушания матушке, но и для своей душевной пользы: блаженная, истинно вам говорю, великая раба Божия. Было время, что я не доверял ей и не хотел видеть в ней подлинного подвига юродства Христа ради. Я, недостойный иерей, имел счастье быть очевидцем святого жития и подвигов предшественницы ее блаженной Пелагии Ивановны Серебренниковой, получившей благословение на подвиг юродства от самого великого Саровского старца отца Серафима, та была истинная юродивая, обладавшая высшими дарами Духа Святого, – прозорливица и чудотворица. И когда по кончине ее явилась к нам в Дивеев на смену ей Параскева Ивановна, то я, попросту говоря, невзлюбил ее, считая недостойной занять место ее великой предшественницы.
Но вскоре случилось нечто, что в корне изменило мое к ней отношение, а было дело это так.
В то время дома монастырского духовенства были построены из соснового леса, бревенчатые и тесом не обшитые. От времени бревна наружных стен обветрились и дали продольные трещины – ветряницы. Был жаркий летний день. В то время у меня в комнатах цвели и уже отцветали кактусы. Я выбрасывал за окно на двор ярко красные, как огонь, отпадавшие цветы. Сижу я, помню, у открытого окна и читаю книгу. Слышу, кто-то вошел на двор и бродит под окнами. Взглянул – Параскева Ивановна, в одной рубахе, подпоясанная каким-то обрывком, нечесанная, со всклокоченными волосами, ходит, наклоняясь к земле, и что-то подбирает. Смотрю – это она подбирает цветки кактусов и втыкает их в ветряницы бревен нашего дома, а цветки оттуда выглядывают огненными языками, как во время пожара. Чувство неудовольствия на блаженную – чего-де она здесь шатается – сменилось страхом: а ну как она пожар пророчит. Жутко мне стало. Блаженная вскоре ушла, бормоча что-то себе под нос и даже не взглянув на меня, но чувство страха, предчувствие бедствия, нам угрожающего от пожара, у меня осталось.
Наступил вечер, мы поужинали, семейные мои стали укладываться спать, а мне все не спится, боюсь и раздеваться: все мерещатся мне цветы кактуса, огнем выбивающиеся из бревен. Семейные мои все давно позаснули, а я все спать не могу. Взялся, чтобы забыться, за книгу, было за полночь. Вдруг двор наш осветился ярким пламенем: это внезапно вспыхнули сухие как порох соседние постройки, и огонь мгновенно перекинулся на наши священнические дома. Засни я вместе с прочими – сгореть бы нам всем заживо, и то едва-едва успели выскочить в одном нижнем белье, а все имущество наше сгорело дотла вместе с домом – ничего не успели вытащить. И вот с памятной той ночи я понял, что такое Параскева Ивановна, и стал на нее смотреть уже как на законную и достойную преемницу Пелагеи Ивановны. Советую и вам отнестись к ней также, тем более таково желание и матушки игумений, которую вы вместе с нами так почитаете. А бояться вам совершенно нечего – вы со Христом. А то хотите, я с вами вместе пойду к блаженной, чтобы вам не так страшно было? Пойдемте.
И мы пошли с батюшкой. Не отстал от нас, несмотря на свой скептицизм и брезгливость, и мой спутник и тоже решился следовать за нами.
Пока жив, не забуду я того взгляда, которым окинула меня блаженная, когда мы втроем с батюшкой вошли к ней в келию: истинно, небо со всей его небесной красотой и лаской отразилось в этом взгляде чудных голубых очей дивеевской прозорливицы. Взглянула она на меня как-то снизу вверх, слегка назад откинув свою седую, непокрытую голову, да и говорит с улыбкой (и что это была за улыбка!):
– А рубашка-то у тебя ноне чистенька!
– Это значит, – шепнул мне в пояснение батюшка, – что душа ваша очищена таинствами покаяния и причащения.
Я и сам это также понял.
Поприветив меня этими словами, блаженная что-то, чего я не слышал, сказала и моему спутнику, и слова ее, видимо, поразили его скептицизм, мне показалось даже, что он побледнел немного.
– Это удивительно, – сказал он вполголоса.
Тем временем, забыв, что “меня за пятак не купишь”, я достал из кармана кошелек и говорю блаженной:
– Помолись за меня, маменька, очень я был болен и до сих пор не поправился, да и жизнь моя тяжела – грехов много.
Блаженная ничего не ответила. Подаю ей золотой пятирублевый. Взяла.
– Давай, – говорит, – еще.
Я дал. Она взяла кошелек из моих рук и вынула из него, сколько хотела, почти все, что в нем было серебра и золота, – рублей с тридцать или сорок – кошелек с оставшейся мелочью отдала мне обратно, взяла деньги, завязала узелком в углу своего шейного платка, открыла шкафчик под угловым киотом с образами, спрятала в него платок с деньгами, шкафчик заперла на ключ и ключ положила к себе за пазуху. Все это она делала быстро, все время бормоча что-то как будто даже с неудовольствием, но что шептала она, того ни я, ни мои спутники разобрать не могли. Спрятав мои деньги в божницу, блаженная пошла за перегородку, где виднелась ее кровать, пошел за нею и я. На кровати лежали куклы. Одну из них блаженная взяла, как ребенка, на левую руку и стала садиться на пол, а правой рукой потащила меня за борт верхней моей одежды, усаживая рядом с собою на пол.
– Ты что же, – говорит, – богатое-то на себе носишь?
– Я и сам богатого, – отвечаю, – не люблю.
– Ну, – продолжает она, – ничего, через годок все равно зипун переменишь.
И подумалось мне: и деньги из кошелька повыбрала в жертву Богу, и перемену “зипуна” предсказывает, и на пол с собою сажает – смиряет, не миновать, видимо, мне перемены в моей жизни с богатой на бедную. Что ж, на все воля Божия, а как бы хотелось, чтобы не так это было.
Рядом с нами на полу оказался желтый венский стул. Ободок его под сидением был покрыт тонким слоем пыли. Блаженная стала смахивать пыль рукою и говорит мне, глядя пристально в глаза:
– А касимовскую пыльцу-то стереть надобе.
И что ж тут со слов этих с моим сердцем сотворилось! Ведь как раз под городом Касимовым, лет без малого двадцать перед тем назад, я совершил великий грех, нанес кровную обиду близкому мне человеку, грех, не омытый покаянием, не покрытый нравственным удовлетворением обиженного, не заглаженный его прошением. За давностью я и сам-то стал о нем забывать, а знали о нем только наши Ангелы хранители да мы двое. И вдруг грех этот восстал передо мною во всей его удручающей совесть неприглядной яркости. Сердце испуганно заколотилось… А блаженная, качая как ребенка куклу, продолжала, глядя на меня, говорить:
– У кого один венец, а у тебя восемь. Ведь ты повар. Повар ведь ты? Так паси ж людей, коли ты повар. С этими словами она встала с пола, положила куклу на постель, а я, потрясенный до глубины души “касимовской пыльцей”, вне себя вышел от блаженной и пошел на гостиницу, дивясь бывшему. Спутники мои вышли раньше меня и куда делись, я не спросил – не до того было, только и думки у меня было, что о совершившейся великой для меня Божией тайне, требовавшей со властью восстановления правды, любви к ближнему, столь тяжко некогда мною нарушенной. Теперь уж не помню, говорил ли я после того с матушкой игуменией, и если говорил, то что говорил, – все это вылетело из памяти: великое таинство совершившегося все остальное стушевало и изгладило. Я даже не очень тогда размышлял об остальных словах блаженной: о “зипуне”, о восьми венцах, о том, что я “повар”, которому надо не кушанье готовить, а “пасти людей”, – пред “касимовской пыльцей” все остальное утрачивало интерес и значительность; “пыльца” эта, когда я оскорбленного мною человека не только упустил из виду, но даже не знал, существует ли еще он на свете.
Прошло после того шесть лет. Осенью 1908 года я от одного старого своего приятеля получил письмо, и в нем были следующие строки:
“Я только что вернулся из касимовских краев домой. Там встретился с Н. (с оскорбленным мною человеком). Зашла речь о тебе. Н. с большой живостью отозвался о перемене, сотворившейся в твоей душе, и отнесся с большим сочувствием к новому роду твоей деятельности (я уже стал тогда много писать в духе Православной Церкви), но в то же время высказался в том смысле, что лично твоей-то душе эта деятельность вряд ли принесет пользу, ибо на ней лежит тяжкий грех, не заглаженный покаянием и прошением”.
В великом волнении я вслед за получением этого письма, в котором мне был дан адрес Н., сел и написал ему покаянное письмо. Не прошло и месяца, я получил ответ, исполненный благожелательной любви и прошения: “Все забыто теперь, все прощено”, – было написано в том ответе. – Как же я, Сергий, тому рад!..
Так за молитвы прозорливицы дивеевской стерта была “касимовская пыльца”. И как же радовалось сердце грешного Сергия!..
А с “зипуном” вышло так: шестнадцать лет на моих руках было большое сельское хозяйство, дело, которому я отдавал всю свою душу, борясь всеми силами с кризисами, которыми так чревата была жизнь и работа сельского хозяина средней полосы России. Но трудно было брать против рожна финансово-экономической политики знаменитого разорителя России Витте, направленной к разрушению крупных сельскохозяйственных предприятий, и я – один в поле не воин – ясно видел, что мне не удержать в моих руках хозяйства. Последняя надежда возложена была на урожай большого посева пшеницы, которой в том же 1902 году обещал быть чрезвычайно обильным.
Из поездки моей в Сэров и Дивеев после описанного свидания с блаженной я вернулся совершенно исцеленным от своей болезни и, забыв о перемене “зипуна”, преисполненным радужных надежд на близкий уже блестящий урожай (оставалось недели две до уборки), и вдруг – страшная туча с юга, с ураганом, ливнем и градом, и конец всем надеждам. Через год с небольшим я созвал на совещание всех, с кем вел дела и кому был должен, кто верил моей честности и моему делу, и объявил, что продолжать своего дела далее не могу, не рискуя запутать и их и запутаться окончательно самому.
Так “через годок” и пришлось мне переменить “зипун”, по вещему слову дивеевской блаженной. Сказано оно было мне 19 июня 1902 года, а в ноябре 1903 года “зипун” был с богатого переменен на бедный, не ровно через год, а именно “через годок” – год с месяцами.
Стал ли я “поваром” по своей писательской деятельности, готовит ли она здоровую пищу душе православной, упасла ли она на лугу духовном хотя бы одну из овец малого стада Христова – судить о том не мне, а Богу да моему читателю. Об одном молю и прошу Отца моего Небесного – чтобы “Божечке свечка” любви моей и веры стояла прямо в Православии пред Господом и не потухала до последнего моего вздоха и оправдала меня на близ грядущем Страшном и нелицеприятном суде Господнем.
IV
В Дивеево вновь Господь привел меня в дни прославления великого Божиего угодника преподобного Серафима Саровского.
Приехал я туда – еще не успел остыть след царского посещения в первых числах августа 1903 года. Прямо из тарантаса, едва успев помыться с дороги, я бросился бежать прямо к блаженной. У крыльца ее стояло душ с десяток женщин, поджидавших, видимо, ее выхода из келий. Не успел я взойти на крыльцо, как дверь отворилась и из нее вышла блаженная.
– Вишь он какой: не успел прийдти, как она к нему вышла. Мы-то тут все утро толчемся, а ее все никак не дождемся, а он… ну и счастье же людям… – послышался шепот не то негодования, не то сочувствия. Но мне не до того было, чтобы в этом разбираться, – я весь был поглощен радостью давно желанной встречи.
– Маменька, – кинулся я к ней, – как же рад я вновь тебя видеть!
Блаженная взглянула на меня и, тихо отстраняя от себя рукою, в ответ на мою радость промолвила:
– Не тот, не тот: тот с крестом!
– Как, – говорю, – не тот, все тот же, любящий и тебя, и Дивеево, я все тот же.
– А я тебе говорю – не тот, тот с крестом.
И с этими словами блаженная повернулась и пошла в келию, даже и не взглянула на стоявшую у крыльца толпу.
До сих пор я не могу понять этих слов блаженной. Что значило “не тот – тот с крестом”? Проникла ли она тогда своим прозорливым оком в намерение мое посвятить себя Богу в священном сане (намерение это тогда у меня было) и в то, что намерению этому не суждено было осуществиться, или что снят с меня некий крест моей жизни, – до сих пор, повторяю, не уяснил я этого себе. Я понял одно, что того креста, который она на мне прозревала духовным оком, его уже на мне нет, и что потому я “не тот”, каким она меня видела раньше.
Пока я недоумевал о словах блаженной, она вслед вновь вышла из келий и подала мне из-за пазухи два сырых яйца, и вынув оттуда же пригоршню колотого сахару, отдала его женщине, стоявшей в толпе у крыльца и протягивавшей к ней младенца.
– Вишь, счастливый какой, – заговорили в толпе, указывая на ребенка, – это она ему сладкую жизнь предсказала.
А блаженная тем временем уже опять направилась в келию. Я пошел за ней. В келие она села у стола боком к божнице и большой иконе преподобного Серафима, взяла в руки чулок и стала его вязать. Я сел у того же стола рядом с ней.
– Маменька, тяжело мне живется, помолись за меня.
– Я вяжу, вяжу, а мне все петли спускают, – ответила она мне с неудовольствием.
Значит: я молюсь, молюсь, а мне мешают молиться грехи ваши.
– Разве я тебе петли спускаю? – спросил я блаженную. В ответ на мой вопрос она выбранилась и плюнула. Но потом переменила гнев на милость и что-то ласковое стала шептать, быстро шевеля спицами. Я протянул к ней два серебряных рубля.
– Брать или не брать, – обратилась она с вопросом к иконе преподобного Серафима. – Брать, говоришь? Ну ладно, возьму. Ах, Серафим, Серафим! Велик у Бога Серафим, всюду Серафим! Мне даже жутко стало: так близко ко мне был здесь великий угодник, что с ним могла говорить блаженная. Так это было величественно-просто – общение мира живых на земле и отшедших ко Господу. Блаженная взяла и положила мои деньги под икону преподобного, а затем встала из-за стола, перекрестилась и ушла опять на крыльцо к народу. Я остался один за столом. Взошла старшая келейница блаженной схимонахиня Серафима. Обнялись, расцеловались ” в плечики”. Пошли расспросы, изъявления радости свидания, ведь все мне здесь родное, дорогое, близкое, да и сам я не чужой дорогой обители, – все интересно, обо всем и всех знаемых хочется расспросить, шутка ведь сказать – больше году не видались, а тут такое великое событие, как прославление преподобного, покровителя Дивеева, и приезд царя с царицей и царской фамилии.
– И к нам с маменькой, – сказывала мать Серафима, – пожаловали государь с государыней. Наша блаженная-то встретила их по-умному – нарядилась во все чистое, и когда они вошли к нам вдвоем, они только двое у нас и были, она встала, низенько им поклонилась, а затем взглянула на царицу да и говорит ей:
– Я знаю, зачем ты пришла: мальчишка тебе нужен – будет! Я затем вышла, а они втроем остались с блаженной и часа два беседовали. О чем беседовали – то и для всех осталось навсегда тайной.
Это мне сама мать Серафима рассказала дней десять спустя после отъезда царской фамилии из Дивеева. Ровно через год после этого молитвами преподобного Серафима даровал Господь им первенца-сына, а русскому народу – наследника царскому престолу. Государыне же, как мне было известно, целый ареопаг светил медицинского мира после бывшей у нее ложной беременности предсказал, что у нее детей уже больше не будет.
– Матушка, – спросил я мать Серафиму, – что означить должны собой два яйца, что мне дала блаженная?
– А какие яйца-то – печеные или сырые?
– Сырые.
– Ну это к добру: вам значит предстоит с кем-то вдвоем новая жизнь и ваша жизнь тогда пойдет по-новому, по-хорошему. Вот когда она даст кому печеное яйцо, так это плохо: смерть тому человеку и всякие скорби перед смертью. А сырое яйцо – это залог новой жизни, два яйца сырых – новая жизнь вдвоем. Уж не свадьбу ли она вам напророчила? Похоже ведь, что так.
А у меня и помысла не было о женитьбе: в сорок ли с лишним лет, как мне тогда было, думать было о свадьбе.
Прошло три года и третьего февраля 1906 года я женился. И какую же радость послал мне Господь в лице моей жены и всей последующей затем совместной с ней новой жизни. Истинно богодарованная и как Божий дар чудная, благословенная жизнь!..
В том же 1906 году летом жил я с женой на Волге в Николо-Бабаевском монастыре, писал в Дивеев Елене Ивановне Мотовиловой, вдове сотаинника преподобного Серафима Николая Александровича Мотовилова, и просил ее сходить к блаженной и спросить, как жить дальше. Блаженная ответила:
– Пусть Бога благодарит да молебны служит.
И по слову ее мне, как показала впоследствии моя жизнь, другого нечего было и делать, как Бога благодарить да служить Ему благодарственные молебны: не жизнь пошла, а одно великое чудо безмерного милосердия Божия.
Начав еще с 1900 года проповедовать сперва устно, а затем и печатно о близости явления в мире антихриста и Страшного суда Господня, я неоднократно смущался тем, что не имел помазания от святого, что будучи рядовым мирянином я беру на себя дерзновение возглашать миру о таком высоком предмете, о котором, за исключением уже умолкнувшего навеки отца Иоанна Кронштадтского, молчит вся русская церковная кафедра. Кто я? Да имею ли я право? – такими и подобными им вопросами задавался я и все просил и молил Господа, чтобы на пути моей проповеди встретить мне такого человека, устами которого, по вере моей, глаголал бы мне Бог. Простой авторитет, даже пастырский, архипастырский и старческий, не утверждаемый на лично и мне достоверно известной святости, и обладание высшими дарами Духа Святого – прозорливостью и подобными – для меня был бы недостаточен, ибо “тайна беззакония”, деющегося в мире, и степень ее развития мне, по изучению этого вопроса трудом всей моей жизни, была известна ближе и изучена тщательнее, чем кем-либо из них. Удостоверение мне требовалось свыше – по Бозе, а не от премудрости человеческой, как бы высока она не была. И Господь внял убогой просьбе моей и послал мне этот высший авторитет в лице все той же великой дивеевской блаженной Христа ради юродивой Параскевы Ивановны, святости и истинно благодатной прозорливости которой я веровал так же, как некогда преподобному Серафиму Саровскому веровал исцеленный им симбирский совестный судья Николай Александрович Мотовилов. Мне нужно было знать и утвердиться в том, переживаем ли мы или нет действительно последние дни земного видимого мира? Кончается ли его “седьмое лето”, о чем еще в шестидесятых годах прошлого столетия писал в Оптину пустынь бывший обер-прокурор Святейшего Синода граф Александр Петрович Толстой (См. книгу “Близ есть при дверях”), или еще долго стоять миру долготерпением Божиим? У Господа ведь тысяча лет, яко день вчерашний…
На все эти вопросы Господь мне, верую, Сам дал ответ 13 июня 1915 года устами Параскевы Ивановны вдень памяти Собора святых апостолов в святой Дивеевской обители за два месяца до праведной кончины великой прозорливицы. А было это так.
На Петров день 1915 года мы с женой, отговевши в Саровской пустыни, были причастниками Святых Христовых Тайн и в тот же день со старой приятельницей моей жены графинею Е. П. К., в имении которой по соседству с Саровым и Дивеевым гостили, отправились на лошадях графини в Дивеев.
Не доезжая верст шесть до Дивеева, на перекрестке дорог в Дивеево и в свое имение, старушка графиня, почувствовав себя утомленной, решила отпустить нас в Дивеево одних, а самой вернуться домой. Прощаясь, она передала моей жене гостинец, который везла было для блаженном Параскевы Ивановны, – сколько-то в мешочке свежих огурцов и молодого картофеля. Еще в мае графиня была в Дивееве и тогда ей дала блаженная заказ на этот гостинец.
“Привези мне, – сказала она графине, – свежих огурчиков и молодой картошки”.
В мае для этих овощей было слишком рано, а к концу июня на паровых грядах и то и другое подрасти уже успело.
Взяли мы этот гостинец и одни поехали в Дивеев.
Последний раз я там был в 1904 году. Одиннадцать долгих лет прошло с тех пор, и сердце мое трепетало и радовалось близости долго желанного и жданного свидания в смутном ожидании от него чего-то для меня значительного и важного. Особенно этого я ожидал от великой блаженной, чудесную прозорливость которой я неоднократно уже успел испытать на себе.
В Дивееве, к великой моей радости, кто знал меня раньше, не успел забыть, и хозяйка гостиницы матушка Анфия встретила нас как самых дорогих любимых родных. Сейчас же с дороги закипел самоварчик, подали закусить. Пришла сама матушка хозяйка.
– А у нас горе, – сказала она, – блаженная наша почти при смерти. Вчера ее причащали, а сегодня соборовали.
– Значит, – испуганно спросил я, – ее и видеть будет нельзя?
– Пожалуй, что и так. Вот чайку откушаете, сходите ко всенощной, а там видно будет, может быть, к ней и зайти будет можно, – успокоила мою скорбь матушка.
Отстояв всенощное бдение, которое правилось Собору святых апостолов, мы с женой в сопровождении послушницы прошли в домик блаженной.
Был душный, жаркий вечер. Несмотря на близость заката, жара не сдавала, а в келий блаженной Параскевы Ивановны было натоплено так, как зимой, и сама она, когда мы вошли к ней, лежала спиной ко входной двери и под целой горой одеял и теплой одежды. Ни лица ее, ни даже облика человеческого под этой грудой ваточников разглядеть было нельзя, а в температуре келий и дышать было невозможно. Мы все-таки минут пять постояли у двери и были утешены келейницей блаженной, сказавшей нам, что “маменьке” много лучше после соборования и что завтра. Бог даст, она, быть может, даже и встанет.
На следующий день в конце обедни прибежал в церковь, узнав о нашем приезде, прежний мой дивеевский духовник отец Иоанн Дормидонтович Смирнов, родной племянник сотаинника преподобного Серафима протоиерея отца Василия Садовского. И что же это была за радостная встреча!..
Кончилась литургия. После заветных дивеевских могилок мы втроем с отцом Иоанном пошли к блаженном. Увидим ли мы ее? Познает ли она своим прозорливым оком то, чего ждет от нее душа моя и что она ей откроет? Не без трепета переступил я порог ее келий. Еще нестарая келейница, которой я раньше не знал (мать Серафима уже давно скончалась), встретила нас и обрадовала словами, что “маменька” встала и что ее нам видеть можно.
Когда мы вошли в комнату блаженной и я увидал ее, то прежде всего был поражен происшедшей во всей ее внешности переменой. Это уже не была прежняя Параскева Ивановна, это была ее тень, выходец с того света. Совершенно осунувшееся, когда-то полное, а теперь худое лицо, впалые щеки, огромные, широко раскрытые, нездешние глаза – вылитые глаза святого равноапостольного князя Владимира в Васнецовском изображении Киево-Владимирского собора, тот же его взгляд, устремленный как бы поверх мира в премирное пространство, к престолу Божию, в зрение великих тайн Господних. Жутко было смотреть на нее и вместе радостно.
На нас она даже не взглянула, устремив свой взор, показалось мне, грозный, мимо нас далеко, за пределы стен ее келий. Сидела она в конце стола, в святом углу, одетая так, как я ее не видывал никогда одетой: торжественно и важно-празднично, в розовый капот и с чепцом на голове. И поза ее, и одежда, и весь ее вид сосредоточенно-серьезный – все это как бы говорило моему сердцу, что этот прием ее и что произойдет на нем будет последнее и наиболее значительное, что когда-либо я получал отдуха великой дивеевской блаженной.
По левую руку под локтем блаженной стоял конец довольно длинного стола, и на нем, у самой ее руки, была поставлена круглая фаянсовая миска с молоком. К ней блаженная сидела боком. Прямо перед ней под прямым углом со столом – рукой достать – стоял диван, вчерашнее ее ложе. У ручки дивана приставлены были две тоненькие ореховые палочки. Над головой блаженной висели иконы. Помолившись на иконы и поклонившись блаженной, мы сели за одним с ней столом в таком порядке: у угла стола, рядом с блаженной, села моя жена, вторым, рядом с нею, отец Иоанн, а за ним, на противоположном конце стола, третьим, – я.
Не глядя на нас и как бы не обращая на нас никакого внимания, блаженная, едва-едва мы переступили порог ее келий, быстрым движением руки отодвинула от себя миску с молоком и что-то почти беззвучно прошептала губами. Стоявшая тут же келейница также быстро из соседней комнаты принесла и рядом с миской с молоком поставила такую же круглую белую фаянсовую миску с теми огурцами, которые накануне по приезде мы послали блаженной. Огурцы, как я заметил, были в миске разложены в порядке, а не как зря, и поверх них лежал очищенный и продольно разрезанный огурец.
– Посолить! – опять едва слышно прошептала блаженная. Келейница подала и рядом с миской поставила солонку.
– Ложку!
Подана была круглая деревянная ложка.
– Отчего не серебряная?
Деревянную переменили на серебряную. И тут вслед началось нечто для меня совершенно непостижимое: сняв верхнюю половину очищенного и разрезанного огурца, блаженная испод ложки опустила в солонку и, сделав вид, что исподом этим солит, посолила огурец, стала от него откусывать беззубыми деснами по кусочку, быстро пережевывать и пережеванное бросать то в миску с молоком, то в стоявшую у ее ног плевательницу. Все это она делала попеременно и как-то необычайно быстро, точно торопясь, пока не дожевала и недоплевала и последнего кусочка обеих половинок огурца.
Я смотрел, старался уразуметь приточность действий блаженной, сердцем чувствовал, что весь их символизм относится ко мне, что это для меня крайне важно, чувствовал, но совершенно ничего понять не мог.
– Маменька, – решился я тут возвысить свой голос, – можно мне взять огурчика?
Тут блаженная впервые обратилась к нам лицом (раньше сидела в профиль), взглянула на меня и довольно громко сказала:
– Можно.
– А мне, – спросила жена, – тоже можно?
– Можно.
И прибавила, глядя на нас обоих:
– Вместе.
Мы поняли, что это значило, чтобы мы оба взяли один огурец и съели бы его вместе. Так мы и сделали, съев его вдвоем, как он был неочищенным и непосоленным.
Следом за нами и отец Иоанн спросил:
– А мне можно?
– Можно, – ответила блаженная.
Ближе всех к миске с огурцами сидевшая, моя жена протянула было руку, чтобы подвинуть миску ближе к отцу Иоанну, но блаженная быстро схватила одну из стоявших перед ней палочек и коснулась ею головы моей жены, делая вид, что хочет ее ударить, и как бы показывая этим: не твое, мол, это дело! Жена покорно склонила под палку свою голову, и блаженная тотчас все поставила на прежнее место. Отец Иоанн так огурца и не получил.
Вдруг блаженная, устремив грозный взор в сторону изголовья своего ложа, как бы увидев там кого-то для нас невидимого, схватила другую палку подлиннее и уткнула ею в том направлении, точно отгоняя или поражая этого невидимого. Затем, ставя палку на место, она обратилась к жене и сказала:
– Что ж ты не вяжешь?
– Это значит, – объяснил шепотом отец Иоанн, – что ты не молишься.
Потом, выйдя из келий блаженной, жена мне сказала, что она до этого втайне творила молитву Иисусову, но, заинтересовавшись последним действием блаженной, внезапно ее оставила. Не утаилось это от прозорливого ока блаженной: тут же заметила и обличила.
Вслед за словами “что ты не вяжешь?” блаженная вдруг обернулась ко мне и жестом и выражением лица сказала что-то для нас непонятное. Жене представилось, что она этим хотела показать, что я в своих исканиях правды Божией и ее разумения хочу все знать, жажду познания, а я понял этот жест так, что мне угрожает или будет угрожать какая-то страшная опасность, но что она эту опасность устранила, отогнав “врага” своей палкой, а жене наказав не оставлять молитвы о муже (Последующая наша жизнь, особенно во время революции, показана, что мое предположение было ближе к истине и что только молитвами блаженной и моей жены мне удалось сохранить свою жизнь от угрожавших ей опасностей).
После этого блаженная взяла в руки миску с огурцами и оставшиеся в ней огурцы разложила на дне ее, образовав из них полный круг, и стала их считать, отсчитывая справа налево неимоверно отросшим ногтем указательного пальца правой руки. Медленно их отсчитывая по одному, она насчитала их семь, отставила миску и, тем же пальцем указывая пред собой, с какою-то торжественно-таинственностью промолвила:
– Семь!
Потом вновь с тою же серьезностью и в том же порядке пересчитала огурцы в миске и опять также и с тем жестом, указывая вперед, произнесла:
– Семь!
И, обратившись к нам и наклонив голову, развела руками в обе стороны жестом, показавшим нам или что она нам все открыла, или что всему пришел конец.
На этом мы стали прощаться, прося молитв блажен ной, она в ответ:
– Простите, что плохо поприветила! Стара, больна стала. Не я звала – сами пришли!
Тут келейница поднесла было коробку с колотым сахаром, полагая, вероятно, что блаженная раздаст нам по кусочку “для сладкой жизни”, но она на нее не обратила никакого внимания, и мы с этого мгновения, видимо, перестали для нее существовать – духом она уже успела уйти туда, куда нам еще доступа не было.
Когда мы уходили от блаженной, келейница успела нам сказать, что как раз перед нашим приходом блаженная требовала себе наши огурцы, собственноручно отсчитала девять штук, расположила их по порядку в миске, очистила один из них, разрезала продольно и положила сверху. Ясно было, что это было сделано неспроста и должно было иметь некое символическое значение для всех нас, для меня же в особенности, как по моему деланию на ниве Христовой, так и по вере моей к блаженной. Символику эту мы видели, но ключа к ней не находили, а ум оказывался несостоятельным и отказывал в разумении без озарения свыше.
– Ну что ж! – услышал я позади себя голос отца Иоанна. – Ну что ж! Все это хорошо, ведь вот, Сергей Александрович, блаженная вам дала вкусить от своей трапезы – это хорошо!
– Хорошо-то оно, может быть, и хорошо, – ответил я, – да вот беда-то в чем, что символику-то ее я вижу, а разуметь не разумею, хотя чувствую, что в ней для меня заключен какой-то таинственный и важный смысл. То-то мне и горе, что хочу понять, надо понять и не понимаю. Вот только дважды ею повторенное слово СЕМЬ как будто дает какой-то ключ к загадке, и все же я как в темном лесу и выбраться из него не умею.
– Семь, – сказал мне на это отец Иоанн, – число священное и собою означает “ИСПОЛНЕНИЕ ВРЕМЕН”.
Это слово отца Иоанна, духовника моего и блаженной, и было для меня тем озарением свыше, которого так ждала душа моя: как только произнес батюшка слово “исполнение времен”, все мне вдруг стало как день ясно. Понял я тут, что все то, чего я искал и домогался как Божиего откровения об “исполнении времен”, о близости явления миру антихриста и Страшного суда Господня, все то из уст великой дивеевской прозорливицы как из уст Божиих и получил я, да еще в такое для нее великое время, когда она причащением и соборованием готовилась к переходу в вечность к Отцу Небесному, во Своей власти положившему времена и сроки, установленные Им для всего мира.
“Семь, – сказал отец Иоанн, – число священное и означает собою исполнение времен”. Я и сам это знал давно, а пришло, однако, это толкование как ключ к символике блаженной не мне, а иерею Бога Вышнего, который “сего же о себе не рече, но архиерей сый лету тому” (Ин. 11,54) как священник и притом как общий наш с блаженной духовник. По тому же слову отца Иоанна открылось мне в словах и действиях блаженной следующее.
Провидя даром благодатного прозрения, чего именно искало от Бога мое сердце, а также и то, что Промысл Божий для утверждения в вере моей и делании приведет меня к ней, прозревая во все, что должно было быть связано с моим приездом и к графине, и к ней, она наперед заказала графине доставить ей все, над чем она символически впоследствии должна была утвердить меня в моих ожиданиях и проповеди и на ожидания эти и проповедь наложить ясную для меня печать истинности, благословить и утвердить вышним благословением.
Получив огурцы, блаженная собственноручно отобрала из них 9 штук, один очистила от кожи и, разрезав продольно, положила его поверх остальных неочищенных. Огурец под кожей своей и мясом скрывает в семенах своих тайну жизни и потому удобен для символизирования той тайны мировой жизни, о которой я вел и веду проповедь свою доселе.
По климату Нижегородской губернии других спелых к этому времени плодов, подходящих к данной цели, не было, потому и выбраны были блаженною огурцы, созревавшие к концу июня только лишь в культурных хозяйствах, где, как у графини, были и парники, и паровые гряды. Перед нашим приходом, как бы знаменуя для моей проповеди важность и значение предстоящего свидания, блаженная, несмотря на болезнь и слабость, приоделась так, как редко и только в особо торжественных случаях одевалась, и заняла место в святом молитвенном углу. Не для меня, конечно, все это сделано блаженною, ибо я – ничто, а для освящения проповеди, получившей Божиим изволением широкое распространение у верующего мира. Так некогда преподобный Серафим утверждал и освящал Н. А. Мотовилова в разумении великой его с ним беседы о цели жизни христианской, говоря ему: “Не для вас одних дано вам разуметь это, а через вас для целого мира, чтобы все, сами утвердившись в деле Божием, и другим могли быть полезными” (Кор. 3, 2; Евр. 5, 13-14).
Так некогда 14 июля 1906 года, при последнем моем свидании с отцом Иоанном Кронштадтским в Николо-Бабаевском монастыре, и я, грешный, получил его благословение на делание мое. Не для меня, а для “целого мира”, таким образом, облекла блаженная в такую торжественность наше свидание, которое Господь освятил, верую, в знаменование важности его значения и ею самою, и присутствием при этом свидании своего иерея, общего нашего с блаженной духовника, племянника ближайшего друга и сотаинника самого великого основателя Дивеева преподобного Серафима Саровского.
При входе нашем перед блаженной стояла миска с молоком. Как только мы вошли, она ее, не глядя на нас, а как бы повинуясь велению свыше, отодвинула от себя и поставила рядом с нею миску с огурцами, знаменуя тем, что нас надобно кормить не молоком, а твердою пищей сокровенных тайн Божиих (“Великое в малом”).
Огурец, очищенный и продольно разрезанный, положенный поверх прочих, который она будто бы ела, должен был знаменовать, что ее твердая пища познания тайн Божиих выше познания других и очищена ее преподобномученическим житием, и потому Божия тайна ей так же открыта, как открыта внутренность во всю длину разрезанного огурца.
Требование блаженной “посолить” должно было означать, что познание тайн Божиих осолено в ней не только ее житием, но Божией благодатью, то есть разумение их дано ей от Бога свыше.
Требование серебряной ложки должно было означать, что как литургийное преподание Тайн Христовых, так и приятие осоления благодатию должно быть преподаваемо при посредстве благородного металла – серебра или золота, а не простого дерева.
То, что блаженная не внутрь себя принимала разжеванные кусочки огурца, а выплевывала их в руку и бросала то в миску с молоком, то в плевательницу, должно было знаменовать, что ее “твердая пиша”, а быть может и моя проповедь, поступают в духовное питание в большинстве случаев или тем, кто духовно способен питаться только молоком, или же тем, кто изблевывает ее в попрание, как бы в плевательницу, в посмех и глумление; иными словами, что толкование тайн судеб Божиих уже не может, за исключением только лишь малого стада избранных овец Христовых, обрести себе достойных слушания, и тем не менее оно необходимо, притом неотлогательно, спешно, подобно той быстроте, с которой блаженная совершала это свое приточное действие. Недаром же сердце мое чувствовало вопреки разуму неразумеваюшему всю важность и глубину значений этих символических действий блаженной.
Данное мне затем разрешение взять огурец и съесть его вместе с женой должно было знаменовать, что и я с подружием моим приобщился познанию тех же тайн, что и блаженная, но не в ее, однако, мере, не в мере очишенности ее духовного зрения и осоления Божией благодатью. Это было показано тем, что огурец наш не был ни очищен, ни посолен.
Разрешение вкусить от трапезы блаженной было, как иерею, дано и отцу Иоанну, но ему не пришлось им воспользоваться по причинам индивидуальным и мне недоведомым, быть может просто в силу отсутствия у отца Иоанна особого интереса к вопросам этого порядка.
Жене моей преподан был блаженной урок не учительствовать, не предлагать своих услуг “освященным” – иерею – к уразумению Богооткровенных тайн.
Отогнание палкою и угроза ею некоему “невидимому” и указание жене моей молиться – “вязать” – могло знаменовать какую-то опасность, угрожавшую мне от того “незримого”, которого она отогнала своею силою, данною ей благодатию свыше, и молитвами моей жены. Кому известна моя деятельность по раскрытию “тайны беззакония” и обличения ее служителей, тот поймет, от кого и за что могла грозить мне опасность.
Заключительным же действием блаженной был счет оставшихся на дне миски и расположенных в виде круга огурцов. Их оставалось ровно семь. Толкование значения этого священного числа уже было дано отцом Иоанном. Значение его – “исполнение времен” – ясно и указывает на выяснение всей глубины – дно миски – открываемой тайны, заключающейся, по приточному толкованию блаженной, в том, что круг земного жития уже заключен, что “времена и сроки, ихже положи Отец в Своей власти” (Деян. 1, 7) уже окончились и наступил – жест рукою – конец, что блаженною мне и было открыто.
Дважды повторенный подсчет огурцов и дважды повторенная цифра 7 могло означать, что сие истинно есть слово Божие и что вскоре Бог исполнит сие (Быт. 16, 32).
Важнее же всего во всем, здесь изложенном, было то, что, по глубокой вере моей, Господу Богу угодно было явить мне через великую блаженную старицу, а через меня, по слову преподобного Серафима Мотовилову, “всему миру, что времена уже исполнились, что антихрист близок, что Страшный суд Господень “близ есть при дверях””.
Два с половиною месяца спустя после великого для меня дня тридцатого июня 1915 года, в половине сентября того же года, великая дивеевская блаженная, прозорливица, Христа ради юродивая, 120-летняя старица Параскева Ивановна успе о Господе, а в декабре 1916 года четвертным изданием вышла в свет моя книга “Близ есть при дверях”, волею Божией ставшая известной и Старому и Новому Свету – “всему миру”.
V “Глас хлада тонка”
В №№ 346 – 348 “Троицкого Слова” была помешена повесть моя о скончавшейся 22 сентября 1915 года великой дивеевской блаженной Параскеве Ивановне (Паше Саровской). В повести этой я, как верный писатель поведанных в ней событий моей жизни, к которым была прикосновенна блаженная прозорливица, не обошел своим воспоминанием и волновавших меня в то время мыслей и чувств. Рассказывая о посещении мною блаженной, когда она убежала от меня в собор со словами “меня за пятак не купишь” и проч., я помянул о келейнице ее, теперь тоже уже покойной, монахине Серафиме и о тех чувствах, которые были вызваны в моем сердце ее отношением к бегству блаженной в связи с моим к ней приходом. “Меня, – писал я, – так и передернуло от этих причитаний матушки Серафимы; за деньги, – подумалось мне, – льстивой монашке все обелить можно”.
Из хода дальнейшего повествования можно было усмотреть, что “искренность, явно слышавшаяся в голосе матушки Серафимы”, изменила до некоторой степени мое дурное расположение духа, впечатление, тем не менее, от слов статьи моей о “льстивой монашке” осталось в силе (по крайней мере, в моей душе), и мне, уже по напечатании моего рассказа, казалось, что я, хотя и невольно, а все-таки погрешил перед памятью матушки Серафимы, недостаточно очистив ее от наброшенной на нее тени подозрения в сребролюбии и лукавстве. А между тем мать Серафима по высоте своего подвига как келейницы блаженной и по жизни своей сама была почти как блаженная. Так о ней мне и покойная старица игумения мать Мария говорила:
– Серафима у нас тоже как блаженная.
И было мне, что называется, не по себе, хотя формальной вины я на своей совести и не чувствовал: грубого нарушения закона Христовой любви и Божией правды не было, то тонкое сердцем ощущалось и сердце беспокоило как бы налетом легкого, воздушно-сквозного облачка. И искало сердце, как бы найти ему путь к исполнению правды Божией поцелуем любви Христовой памяти почившей.
И путь нашелся: указан был перстом Божиим незамедлительно и едва ли не чудесно. Двенадцатого декабря, на день святителя Спиридона Тримифунтского (См. о нем в книге моем “На берегу Божией реки”), подали мне почту, и среди писем, полученных в тот день, я нашел пакет с почтовым на нем штемпелем “Кустанай, Тургайской области” и с надписью: “Сергиевский Посад. В редакцию “Троицкого Слова” для передачи Сергию Александровичу Нилусу, адрес коего неизвестен”. Внизу пакета подпись – “от священника Александра Седых”. Распечатываю пакет и читаю:
“Дорогой Сергей Александрович! Простите, что, не будучи знаком, решился написать вам. К этому побуждают меня ваши литературные труды, которые мне являются как бы родными, так как говорят о близких моему сердцу местах. Я вторично переживаю то, что перечувствовал в 1903 году в Сарове и Дивееве, за что весьма вам благодарен. Прочитав сейчас в № 346 “Троицкого Слова” ваше “На берегу Божией реки”, где упоминается мать Серафима, послушница “маменьки”, я немедленно подвигся духом написать вам, чтобы, если найдете возможным, к вашей реке присоединился еще один маленький, но чистенький ручеек. Дело в следующем.
Когда я в 1903 году был в Саровской пустыни на открытии мощей преподобного, то прожил там с 11 июня по 27 июля (уж очень хорошо там!). За это время два раза пешком (труда ради бденнаго) ходил в Дивеево. В первый раз я был в июне месяце и имел намерение зайти к блаженной, но, постояв около келий и видя массу жаждущих ее видеть, я подумал: зачем буду беспокоить блаженную? Вопросов неразрешимых у меня нет; в Бога и Православную Церковь верую всей душой. Правда, грешный я человек, но для этого я поговею здесь. С этою мыслью я отправился к себе в нумер.
По дороге у меня явилась мысль: да! все это так, я верю. А как было бы хорошо получить подтверждение этой веры хотя бы каким-нибудь маленьким откровением через прозорливых! Но тут же я счел такую мысль искушением Бога, грехом, хотя сердце так сладостно желало этого. И что же? Ведь не оставил Господь этой тайной мысли без ответа, и не дальше, как на другой день, я получил то, чего не только не искал, но и не смел просить, а пожелал лишь, и то как бы украдкой.
Когда на следующий день я вышел из собора после литургии, то увидел какую-то монахиню (потом я узнал, что это была мать Серафима), окруженную богомольцами. Она ходила между ними и просила у кого сухарик, у кого еще чего. Я остановился в сторонке и стал, прямо скажу, любоваться этим, как картиной. Меня приводил в умиление вид монахини; спокойная, кроткая, с такими добрыми-добрыми глазами, с простой речью, она как бы говорила этим своим видом: бросьте суету, стремитесь к небу и будете счастливы! Глядя на нее, я даже подумал: уж не Паша ли она? Но нет – та седая и уже старая, а эта много моложе. В это время она тихо подошла ко мне и сказала:
– Дай копеечку! Я знаю, у кого что просить.
Я достал кошелек и дал ей монету, а сам подумал: это и не удивительно – по одежде можно узнать.
– А был ли ты, – спросила она, – в келии матушки Александры? (Основательница Дивеевского монастыря, в миру вдова полковника Агафья Семеновна Мельгунова).
– Нет, – говорю.
– А в келий батюшки Серафима, что за канавкой, был?
– Нет.
– А на канавке?
– Нет, – говорю, – нигде не был, матушка.
– Ну, – говорит, – сходи непременно, везде побывай.
– Слушаюсь, матушка, побуду непременно.
– Ну а теперь, – говорит, – пойди попей тепленькой водички: так Богу угодно (это ее точнейшие слова, которых я не забуду до гроба).
И она пошла дальше. Отправился и я к себе в нумер. Иду и думаю: что это за напутствие? Если это предсказание, то пойду и напьюсь чаю – только и будет всего без всяких предсказаний. Подумал и бросил думать.
По дороге к гостинице я стал соображать, что мне делать. Завтра, – думал я, – я должен причащаться Святых Христовых Тайн. Дома я готовлюсь к этому всю седмицу, а тут вовсе без говенья: как-то неловко, надо поговеть хоть этот день один. В нумер к себе я не пойду, чтобы мне не подавали монастырского сытного обеда; пойду лучше в лавочку, за ограду, куплю себе чего-нибудь из съестного попроще, съем немножко и потерплю до завтра.
Вышел я за ограду, а лавки, смотрю, заперты: был какой-то праздник, и торговли не было. Что тут делать? Со мною была маленькая сумочка, а в сумочке обычно необходимая провизия: чай, сахар и корки хлеба; на этот раз в ней только и было, что одна просфорка да кусочек сахару. За лавками был чайный барак, и я направился туда в надежде напиться там чаю, чтобы не беспокоить служащей при гостинице подавать мне одному самовар в нумер. В бараке сестра с обычной приветливостью принесла мне два чайника – один большой с кипятком, а другой маленький, я подумал, с чаем. Посмотрел, а там чаю не было ни крупинки. Это меня озадачило.
– Сестрица, – обратился я к послушнице, – а где же чай?
– Да у нас, братец, – ответила она, – не полагается: каждый пьет чай свой.
А у меня свой чай весь вышел. Вот тебе, думаю, напился чаю! Однако, чтобы не показаться смешным, промолчал об этом. Кто-то по соседству заметил мое положение и любезно мне предложил своего чаю. Не имея привычки пользоваться чужим, я ответил отказом, а сам думаю: да что же это я забочусь? То хотел поговеть, а тут из-за еды и пития уже расстроился. Питались же святые отцы хлебом да водою. Возьму-ка я сам, да так и сделаю: съем просфору с тепленькой водичкой, да и потерплю до завтра! Перекрестился я, налил себе пустого кипятку в чашку, разломил просфору, омочил ее и стал есть. И когда я поднес чашку с полуостывшим кипятком ко рту, мне как будто кто-то взял да и напомнил слова матери Серафимы:
– Ну а теперь пойди попей тепленькой водички: так Богу угодно!
Что сталось тут со мною, того не выразить словами. Я едва не выронил из рук чашки. И страх тут был, и радость, и Божие величие, и мое ничтожество, и Его всеведение, и Промысл – все как огнем неопаляюшим озарило и согрело мою душу.
Некоторое время я сидел, не отдавая себе ни в чем отчета, отдавшись весь нахлынувшему на меня чувству, затем от всего сердца возблагодарил Бога за Его внимание к моему недостоинству, съел свою просфорку, еще раз поблагодарил Бога и Его послушницу, подавшую мне “теплую водичку”, и ушел из барака с чувством, что бывает на свете иногда такая “теплая водичка”, которой по вкусу нет равного пития среди всех земных напитков.
Это событие научило меня искать и видеть “великое в малом”, стал я серьезнее и вдумчивее присматриваться к жизни и стал примечать повсюду действие Промысла Божия. От сего явилось в сердце молитвенное дерзновение к Богу и крепкая уверенность, что Он внемлет даже и грешной молитве, лишь бы она приносилась Ему от полноты покаянного сердца.
И теперь, когда стою пред престолом Божиим за Божественной литургией, особенно сильно чувствую я эту великую и простую истину, поминая всякий раз мать Серафиму прежде о здравии, а как узнал о ее кончине – за упокой. Тогда же, когда совершилось со мною все рассказанное выше, я расспросил о ней и узнал о ее строгой и святой жизни. Но тогда я ни слова не сказал никому обо всем этом. Теперь же считаю грехом молчать: она там…”
Таково было ко мне письмо от священника отца Александра Седых из Кустаная Тургайской области, полученное мною на день святителя Спиридона, Тримифунтского чудотворца.
“И се дух велик и крепок, разоряя горы и сокрушая камение в горе пред Господем, но не в духе Господь. И по дусе трус, и не в трусе Господь. И по трусе огнь, и не во огни Господь. И по огни глас хлада тонка, и тамо Господь (III Царств 19. 11-12).
Плакать хочется…
I. “Мой Мотовилов воскрес!” Петров пост и преподобный Макарий Желтоводский
Закончив свои воспоминания о великой дивеевской блаженной Параскеве Ивановне, я невольно мыслью своей перенесся в то уже давно минувшее время, когда жарким днем незабвенного для меня июля 1900 года я в сопровождении трех дивеевских послушниц из Сарова пришел пешком в Дивеев. Вспоминая то время, я и теперь, двадцать четыре года спустя, вновь переживаю то великое горение духа, которым сердце мое, преисполненное любви и веры к великому Саровскому старцу, тогда еще не прославленному угоднику Божию Серафиму, пламенело к моему Богу, Творцу всяческих. Каких времен и событий не был я поставлен свидетелем, совершавшихся на моих глазах за протекшие с тех дней годы, чего только не пришлось пережить и переиспытать за это, чреватое величайшими мировыми событиями, время: не стало России, не стало царя, весь мир пришел в великое смятение, – а память о тех незабвенных днях, когда впервые облагоухала мою душу святыня Сарова и Дивеева, изгладить не могло ничто человечески великое, светит она мне живым и тихим сиянием, разгоняя тьму ниспавшей на мир непроглядной темной ночи, греет мне душу теплом и кроткой радостью незаходимого Солнца правды Искупителя душ наших.
И вижу я: кончается первая, прослушанная мною в Дивееве литургия. Подзывает меня к себе в храме Божием великая дивеевская старица игумения Мария, благословляет меня иконой Божией Матери “Радости всех радостей” в самый день Ее праздника и зовет прийти на беседу к себе в игуменские покои доведать подробно, что могло привести светского, в то время еще богатого и нестарого, человека из мира отступления и вражды на Бога в отдаленную и пустынную обитель сирот Серафимовых.
И еще вижу: накрыт чайный стол в покоях матушки игумений; за столом довольно большое собрание монахинь и мирских старушек, в общем фоне темных своих одеяний сливавшихся с монахинями так, что и отличить их друг от друга было невозможно, приносят послушницы чай… Начинается беседа, и я подробно и по порядку повествую обо всем, со мною бывшем, начиная с января 1900 года, и такою горячею любовью разгорается внезапно мое сердце к Серафиму, великому старцу, к вскормившему его духовно Сарову, к дивному Дивееву, что я едва удерживаю подступившие к самому горлу слезы умиления, и вдруг слышу ко мне обращенный восторженный возглас:
– Да это мой Мотовилов воскрес!
И сейчас еще слышу я это восклицание с характерным нижегородским ударением на букву “о” – “МОтОвилов вОскрес”. Я взглянул в сторону голоса и увидел на почетном месте на диване старушку, одетую во все черное, с простенькой черной кружевной наколкой на голове. Лицо ее приятное и милое осветилось доброй и ласковой улыбкой, а живые, проницательные глазки так и светят на меня ответом загоревшегося где-то внутри глубоко внутреннего огня, еще не застывшего под холодом старости чуткой и чистой души.
То была вдова сотаинника преподобного Серафима симбирского совестного судьи Николая Александровича Мотовилова Елена Ивановна Мотовилова.
С этого-то восклицания – “Мой Мотонилов воскрес!” – и завязалось мое знакомство с этой живой летописью Серафимова детища – обители Дивеевской, завязалось и не развязывалось до самой преподобнической кончины ее в декабре 1910 года, на второй день праздника Рождества Христова.
* * *
1900-й год, когда я впервые посетил Саров и Дивеев, был годом великого внутреннего перелома всего, казалось, крепко установившегося на либеральных устоях шестидесятых и семидесятых годов строя моей внутренней духовной жизни:
Я сжег все, чему поклонялся. Поклонился тому, что сжигал.
В первый раз за всю мою тогда 38-летнюю жизнь я соблюл пост Великого поста, не по-уставному, правда, – никакого еще тогда устава я не знал, но все же добровольно и доброхотно отказавшись от мясного и молочного. Подходил Петров пост – апостольский, про который деревенские свободомыслящие уже успели пустить в обращение крылатое слово, что он выдуман-де бабами для скопа, чтобы было из чего наготовить масла и творогу на зимнее маломолочное время.
В то время на моих руках и заботе было большое сельскохозяйственное дело. Приближалась горячая пора всяких полевых работ: начинался покос полевых посевных трав, подходить стал и по верхам кое-где и луговые травы, в полном разгаре была пахота под озимое и вывозка навоза, отцветала и готовилась наливаться рожь – не за горами была уже и страда деревенская…
Занятый хозяйственными заботами, я совершенно забыл о том, что подходят Петровки – пост апостольский.
Кончился многозаботливый хозяйственный день, получили на следующий день распоряжения по хозяйству все доверенные по разным отраслям сложного экономического строя. Приходит позже всех экономка и спрашивает:
– Что прикажете назавтра готовить – скоромное или постное?
– Почему постное?
– Да со завтрашнего дня начинаются Петровки.
– Ну, – говорю, – Маша, это не Великий пост. Все домашние будут есть скоромное – для одного меня не стоит готовить постное, буду есть со всеми.
Так и порешили.
Преисполненный хозяйственных забот и думушек, – а тут еще подошли разные срочные платежи – я и думать совсем забыл не только о Петровках, но и обо всем мире вне моего хозяйства.
Поздно ночью, едва успев лоб перекрестить, я заснул как убитый и под самое утро увидел такой сон:
Еду я будто в Москве на извозчике по Страстной площади мимо святых ворот Страстного монастыря. Смотрю, около них в самом здании часовенка; в часовенку с улицы открыты двери, и в глубине ее полумрака теплится лампада и горят свечи. Никогда я в этой часовенке не бывал и даже не знал о ее существовании, а тут меня потянуло забежать в нее и помолиться. Я остановил извозчика и бегом устремился в нее, и прямо к большому распятию, что стояло в ней вправо от входа. Помолился я пред ним, положил три земных поклона, приложился. Смотрю, влево от распятия и других икон, точно при входе, стоит прилавок, за прилавком полки с книгами и церковными свечами и стоит благообразная пожилая монахиня.
– Матушка, – обратился я к ней, – нет ли у вас для продажи жития какого-нибудь святого?
– Как не быть, – отвечает, – есть.
И с этими словами монахиня достала с полки и подала мне довольно толстую книгу в розовой обложке – как сейчас ее вижу – и на обложке крупными черными буквами было написано:
ЖИТИЕ
иже во святых отца нашего
МАКАРИЯ ЖЕЛТОВОДСКОГО
Я беру книгу в руки, подаю за нее три рубля и спрашиваю:
– Довольно ли этого, матушка?
– Довольно, – отвечает старушка, – довольно, батюшка!
И с этими словами берет от меня книгу, чтобы ее завернуть, а я тем временем на задней стороне обложки вижу:
Цена 2 р. 50 к.
Вот, подумалось, хоть и монашка, а взяла с меня полтинник лишку. Ну, думаю, пусть идет ей или на монастырь Христа ради.
– А что, – спрашиваю, пока она заворачивала книгу, – нет ли у вас, матушка, в продаже колбасы с чесноком?
Удивленно взглянула на меня старушка, но ответила спокойно:
– Есть и это, батюшка.
– Так отрежьте ж, – говорю, – мне фунтик. Из-под прилавка она достала колбасу, отрезала от нее кусок, свесила, завернула в бумагу, подает мне и говорит, пристально глядя мне в глаза:
– Я вам, батюшка, колбасу-то продала как проезжему, в пути сущему, а следовало бы вам попомнить, что ныне пост-то святой апостольский.
На этом я проснулся. Солнышко было уже довольно высоко: шел шестой час утра.
Э… подумалось мне, вот оно что: в пути сушему послабление поста, по нужде, хотя и не возбраняется, ну а мне-то повелевается “попомнить, что ныне пост-то святой апостольский”.
Я позвал Машу и велел готовить себе весь пост постное.
II
Но к чему явлена была мне во сне книга жития “иже во святых отца нашего Макария Желтоводского”, и что это за святой, о котором я никогда ничего не слыхивал, того я никак уразуметь не мог. И тем не менее и книга эта, и весь сон глубоко запали мне в памяти.
Прошел год, прошел другой и третий – четыре года прошло с того сна. Сна своего я не забывал, ^посты стал держать исправно, но сколько не допытывался у людей посвященных, ни от кого о Божием угоднике Макарии Желтоводском узнать ничего не мог.
Помню, один иерей в Белеве Тульской губернии на мой вопрос о нем ответил:
– Не наш ли это Жабинский Макарии? Его монастырь от Белева в двух верстах. Не он ли? Не спутали ли вы?
И вправду, не спутал ли я? Может быть, и в самом деле Жабинский, а не Желтоводский? – звуковое-то сходство как будто и есть. Съездили с батюшкой в монастырь, поклонились надгробию преподобного (мощи его под спудом). Спрашиваю у гробового монаха:
– Есть у вас житие вашего угодника?
А сам думаю: вот сейчас увижу книгу в розовой обложке и на ней знакомые слова.
– Нет, – отвечает, – его жития у нас нет. Есть краткое о нем предание – оно изложено в книжке об основании нашего монастыря.
Принес тошенькую книжечку с не менее тощеньким содержанием. Нет, не то, совсем не то! И вовсе не Жабынский, а Желтоводский – не мог я этого спутать!
Наступил страшный 1904 год. Как гром с ясного неба ударила по России японская война. В этот год, в августе, мне пришлось быть в Перми. Еду оттуда я в обратный путь и уже неподалеку от Нижнего вижу на левом берегу Волги за высокими стенами стоит и глядится, отражаясь в Волгу, большой белокаменный монастырь. Спрашиваю у матроса:
– Чей это монастырь?
– Макарьевский.
– Какого Макария?
– Желтоводского.
Я едва ушам своим поверил: неужели тут ключ к четырехлетней загадке? В то время пароход наш начал причаливать к противоположному берегу и пристал к пристани. В толпе, снующей от парохода и к пароходу, я после второго свистка заметил монахцню-сборшицу; в руках у нее была тарелка, а в тарелке небольшая, вершка в три, иконочка – не Макария ли Желтоводского? Я быстро по сходням сбежал на пристань и прямо к монахине.
– Из какого вы монастыря, матушка?
– А что напротив, на том берегу, от преподобного Макария Унженского.
– Как – Унженского? – переспросил я разочаровано. – Мне сказали, Желтоводского.
– Да это все тот же угодник Божий: он именуется и Унженским, и Желтоводским.
– Так это, – спросил я, волнуясь, – его икона у вас на тарелочке?
– Его, – ответила она мне, видимо, удивляясь моему волнению.
– Матушка, – воскликнул я вне себя, бросая ей на тарелку серебряный рубль, – пожалуйте мне ее, Бога ради!
А иконе той, от силы прочь, цена в монастыре полтинник.
– Как же я ее вам продам, батюшка? Меня ведь ею сама матушка игумения на сбор благословила.
– Матушка, Христа ради, не откажите!
А тут третий свисток и начали убирать сходни.
– Ну, – говорит, – видно, так самому преподобному угодно, – берите.
Едва успел я вскочить на пароход со своей драгоценной ношей, как он зашумел колесами и стал отчаливать. А монахиня стоит у конторки и вслед мой меня крестит и сама крестится. Надо ли сказывать верующей душе, что я чувствовал? Завеса над тайной как будто приоткрылась, но ключа к загадке я все-таки еще не получил.
III
Прошло еще два года. В корень изменилась вся моя жизнь: по слову блаженной Параскевы Ивановны “зипун” я переменил, оправдалась и символика ее с двумя яйцами – Матерь Божия, по вере моей, даровала мне чудную по единодушию и единомыслию жену (Месяцев за шесть до моей свадьбы я видел во сне некую игумению, спускавшуюся с неба с сонмом монахинь. Обликом своим она была, казалось мне, похожа на покойную старицу игумению Орловского Введенского монастыря Антонию, очень мною любимую. На груди ее был золотой наперстный крест, а в руках папочка. Подавая мне ее в руки, она обратилась к сопровождавшим ее монахиням и сказала: “Ему палочка нужна!” Опора эта и послана мне была в лице моей жены).
И свел меня Господь с путей и распутий мира и века сего и повел по пути Православия, от страны временного пришествия и странничества туда, где верующему оку светит издалече красотою нездешнего света Небесный Иерусалим, град Царя Великого.
Положили мы за правило ежедневно прочитывать по Четь-Минеям святителя Димитрия Ростовского жития всех дневных святых, чтимых Православною Церковью. И так изо дня вдень, из месяца в месяц – целый год. Шесть долгих лет прошло с памятной ночи моего сновидения. Поселились мы тогда с женой в тихом и в то время еще богобоязненном Валдае, на берегу святого Богородицкого озера, омывающего своими прозрачно-голубыми волнами Иверский Богородичен монастырь, любимое детище великого патриарха Никона. Приближался Успенский пост. Надумали мы с женой из Валдайского нашего безмолвия углубиться в безмолвие еще более совершенное и поехать подготовиться говеть в Иверский монастырь, где уже успели у нас завестись друзья по духу и молитвенники среди насельников святой обители.
Как-то случилось так, что начиная с 20 июля у нас временно прекратилось чтение житий святых. Захватили мы с собой в монастырь июльскую и августовскую книги Четь-Миней, и в тишине монастырского безмолвия я под 25-м июля впервые обрел ключ к тайне моего сновидения; он нашелся в житии преподобного Макария Желтоводского и Унженского, память которого именно в тот день и празднуется Православной Церковью.
Вот что обрелось в житии этом.
“Влетобытия мира шесть тысящ девятьсот четыредесять седьмое (в 1439-м году), во дни благоверного великого князя Василия Васильевича, бысть попущением Божиим нашествие агарянское на российские страны. Нечестивый царь Златые Орды Улу-Ахмет, из царства и отечества изгнан быв, к российским пределам приближися и, седши во опустелом граде Казани, нача распространяти область свою, воевати же и опустошати российскую землю, и прииде с сыном своим Мамотяком ратью на Нижний Новград и на пределы того. И рассеявшеся сарацинстии вой повсюду, мечем и огнем опустошаху вся населения христианския. Приидоша и в пустынная в пределах тех места, идоша до Желтоводския Макария преподобнаго обители, на нюже нечаянно нападоши, всех в ней обретшихся иноков и бельцов, овых мечным посечением, аки классы на ниве пожаша, овых же плениша и обитель сожегоша, преподобнаго Макария, емше жива, ведоша с прочими пленники к воеводе своему. Милосердовав убо воевода агарянский, даде свободу преподобному Макарию, еще же и прочия пленныя свободи его ради. Бе же мирян плененных до четыредесяти мужей, кроме жен и детей, всех тех преподобному дарова… едину заповедь преподобному отцу дав ту, да не пребудут на тех Желтоводских местах. И соглашавше ити в Галическме пределы… и помолившися Богу яшася пути непроходимы лесами и благами страха ради поганых.
Бе же тогда месяц иуний.
Грядущим же им дни многи, не доста народу хлеба и бысть скорбь велия изнемогающим от глада. И по Божиему смотрению молитвами же преподобнаго Макария обретоша дивияго скота, глаголемаго лося, в тесном месте, и яша его жива, и хотеша его заклати на пищу себе, и просиша у отца святаго благословения и разрешения поста: бе тогда пост апостольский и еще три дня бяше до праздника святых верховных апостол Петра и Павла. Преподобный же не благословляше им разоряти поста от церкви святыя установленнаго, но веляше терпеливо ждати дне праздничнаго апостольскаго… и повеле да ятому лосю отрежут ухо и пустят его жива. Всемощный питатель Бог и без пищи облегчаше им глад.
Приспевшу же святых верховных апостолов дню и помолившусь святому, внезапу оный преждереченный лось, невидимой рукою приведен, обретеся посреде народа, и яша его руками жива и, видевше урезанное ухо, познаша, якотой есть. Людие же заклаша лося и испекше ядоша вси и насытишася довольно”.
Так, спустя шесть лет после знаменательного для меня сновидения, и открылась мне его тайна в свидетельство непреложной истины, что земная жизнь всякого человека, ищущего спасения в вечной жизни, ныне, как и встарь, управляется всеблагим Промыслом Божиим или непосредственно, или же чрез небесных пестунов – угодников Божиих, подобных Макарию Желтоводскому и Унженскому.
Знаменательно для меня в этом сновидении было и то, что обучение меня хранению святых постов, установленных Церковью, произошло как раз перед первой моей поездкой к преподобному Серафиму за исцелением тела и души: надо было сперва стать покорным сыном Церкви, и только уже затем, а не раньше, протягивать к ней руки за помощью.
IV. Кому Церковь не мать, тому и Бог не Отец
Сложилось уже давно сказание это в сердце моем, но не высказалось: кто такой я, чтобы снам моим, да и вообще особе моей, давать значение и занимать ими братию мою по вере Христовой? Домашние мои все то, что поведано было выше, знали, но чтобы записать это или тем более печатать – мне того и в голову не приходило, пока не произошло следующего.
В том доме, в котором в Оптиной пустыни нам благословили жить оптинские старцы, мы одну комнату, рядом с нашей спальней, отвели под моленную. У жены моей икон было много, а у меня и того больше: не держать же их в сундуке под спудом.
Небольшая иконочка преподобного Макария, та, что я получил от монахини-сборщицы, в ряду других висела довольно высоко, и прикладываться к ней было нельзя.
Как-то раз, прикладываясь после молитвы к нижнему ряду икон, я увидел среди них на необычном месте и иконочку преподобного Макария. Спрашиваю жену:
– Это ты ее сюда поставила?
– Я. Она почему-то сорвалась со своего гвоздика и упала, я ее сюда и поставила.
И вот, как начал я к этой иконе прикладываться каждый день, так точно кто стал мне внушать помыслом: что ж ты молчишь? что не поведаешь ради уловления хотя бы единой заблудшей души в церковное лоно и во славу преподобного с тобою бывшего? Сказалось так в сердце, и не раз, и не два, и не три, пока не сел и не взялся за перо и не послал в “Троицкие Листки” сказания об этом под заглавием “Небесные пестуны”. И что же? Как только я это сделал, икона преподобного вновь вернулась на свое место: жена моя, ничего не ведая о том, что творилось в моем сердце вплоть до отправки моего сказания в печать, взяла и перевесила икону на то место, где она прежде висела.
Но дело тем еще не кончилось.
Прошло с этого времени еще лет одиннадцать. За эти годы затемнился свет земли русской. Жили мы на Украине в Полтавской губернии. Дал нам Господь на это страшное время свою домовую Церковь, а меня удостоил быть при ней и чтецом, и певцом, и сторожем, и ктитором. Жена пономарила. Похаживали к нам в церковь молиться добрые люди и между ними один раб Божий контролер соседнего сахарного завода со своей дочкой лет семи. Как-то раз в беседе с ним я рассказал ему повесть о том, как преподобный Макарий Желтоводский вразумил меня блюсти пост апостольский. Беседа эта происходила за неделю до конца Петрова поста 1922 года. Так она на моего собеседника подействовала, что по заключении ее он от всего сердца воскликнул, обращаясь к сидевшей с нами дочке Валентине:
– Ну, Валя, видно нам с тобой надо будет эту неделю попоститься!
Прощаясь, он уговорился со мной, что как минует пост, он пришлет за нами лошадь и арбу, чтобы у него нам всем пообедать. Своей лошади у него не было, так решено было, что он попросит ее у одного нашего приятеля.
– Только помните, – говорю я ему, – что нынче Петров день падает у нас на среду – день постный, в этот день за нами не присылайте.
– Как постный?! Ведь это праздник!
– Праздник праздником, а пост постом: устав такой, рассуждать не приходится.
Пришел Петров день. Смотрю, в обеденное время подъехала от контролера подвода: пожалуйста ехать!
– Там, видно, забыли, что сегодня день постный, и будут угощать скоромным; придется есть скоромное?
Жена объявила, что скоромного есть не станет и поста не нарушит. Прислуга, много лет у нас жившая, свой человек Аннушка, женщина старого, крепкого закала, возмутилась:
– Оскоромитесь сегодня – весь ваш пост пропадет, будто весь пост ели скоромное!
Сестра хозяина того имения, в котором мы жили, тоже с нами приглашенная на обед, вставила и свое слово:
– Есть не будем – поставим хозяев в неловкое положение. А у контролера-то, всем нам известно, едят и вкусно и сытно, а наша еда всегда вполупроголодь: время переживаем голодное, сколько людей за эти годы уже умерло с голоду. Искушение!
– Ну, – решаю я, – пусть, помолясь, нам ответит на все слово Божие!
Перекрестившись, открыл Библию. И что же открывалось?
Третья книга Ездры, III глава, 21-й стих:
– “С сердцем лукавым первый Адам преступил заповедь – и побежден так, и все от него происшедшие”.
Нечего, стало быть, и думать о скоромном. А когда приехали к контролеру, то оказалось, что не из чего было и огород городить: обед был постный.
А у нас теперь уже и духовенство сплошь стало нарушать посты. За то и само оно, и весь народ, что пошел вслед за богом века сего, сидят зачастую голодные и холодные: у жита – без хлеба, у леса – без дров, у сахарных заводов – без сахара. Не хотим поститься в свое время волею – поголодаем и без времени неволею.
Богу нашему слава!
25 октября 1909 г.
I. Грозное предчувствие. Босяк и министры. Благословение
Удивительная стоит в нынешнем году осень! Вот уже и 25 октября, а тепло все еще держится, и октябрь похож скорее на апрель, а осень на весну. Вечером вчера гуляли за монастырской оградой в чудном Оптинском лесу, я слышал майского жука, близко прогудевшего около моего уха. Это что-то как будто похоже на изменение стихии, предвозвещенное святыми отцами Церкви на конец времен как знамение его приближения. Шли мы с женой из лесу с Железенки, направляясь к своему дому от востока к западу. Лес стал редеть. Вечерняя заря горела над монастырем, как расплавленное с серебром золото. Небо казалось стеклянным и залитым жидкой сквозящей огнем позолотой. Тихо; не шелохнет; ни звука в лесу; безмолвие в монастыре; ни души не видно – все замерло, точно притаило дыхание, чего-то и как будто ожидая. Четко, как вырезанные в золотом небе, высятся и тянутся к нему оптинские колокольня и храм, монашеские корпуса, белокаменные стены.
Глядишь на всю эту Божию красу сквозь редкие на опушке стройные стволы могучих сосен – не налюбуешься. И вдруг откуда-то мысль как молния и с ней пророческие Спасителевы слова: “Видишь сии великия здания? Все это будет разрушено так, что не останется здесь камня на камне”.
Жутко мне стало на душе. Неужели мне суждено дожить до ужаса видеть разрушение святых мест родной земли? И кто же осмелится их коснуться? Чья дерзновенная рука подымется на такое злодеяние, худшее из всех душегубств? И голос сердца ответил скорбным вздохом: “От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговлей твоей ты осквернил святилища твои; и Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет всех, видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о ТЕБЕ; ты сделаешься ужасом; и не будет тебя во веки” (Иез. 28, 17 – 19).
“И Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя!” Этими словами пророка и вздохнуло мое смятенное сердце: не отвне, не от руки чужеземца, а от руки самой твоей Родины, вскормленных и вспоенных святынями веры отцов их, падут эти великие здания за то, что “неправедной торговлей нашей мы осквернили святилища наши”. “Неправедная торговля” – неправедная земная жизнь наша, ибо, по слову Божию, мир есть торжище, жизнь наша – купля. Ой, страшно!
Пошел в рухольную – там шьют мне платье. Хозяин рухольной иеродиакон Макарий, большой мне доброхот и монах очень внимательной жизни, встречает меня словами:
– Полюбуйтесь там в рухольной на человека, послушайте-ка его речи!
В рухольной в ожидании старой ношеной обуви, еще годной до известной степени к употреблению, которую раздают нищим оптинские монахи, сидел босяк общего босяцкого типа – много таких за последнее время наплодила от рук отбившаяся Русь. Он о чем-то оживленно объяснял окружавшим его послушникам, работающим в рухольной. Я подошел с отцом Макарием.
– О чем ведете беседу?
– О том, – ответил на мой вопрос босяк, – что мне нужно хоть сколько-нибудь приодеться, чтобы меня допустили до министров, а то в таком параде – он указал со смехом на свои лохмотья – нашего брата к ним не допустят.
– Зачем же вам министры понадобились?
– А затем, что у нас революция на носу, если министры не примут мер и не доведут до сведения Государя.
– Кто же это вам сказал?
– Мы – низы, низам ли не знать, что на низу делается? Как только война – а войне быть непременно – так сейчас и революция вспыхнет. Уж это вы мне поверьте: нам это хорошо известно. Для этого все готово.
Спорить я с ним не стал и вышел из рухольной. Следом за мной вышел и отец Макарий.
– Что вы на это, С. А., скажете? – спросил он меня.
– Да то же, что и он: по всему видно, что земля наша подкопана и мины под нее подложены.
– Кем же?
– Нашими союзниками – французами, французы известные революционеры и безбожники. От такого союза добра не ждать, как нельзя добра ждать от нашего священного гимна с марсельезой, а их теперь распевают вместе. Какое общение у Христа с велиаром? Не быть добру – так и знайте.
И вспомнились мне слова Череменецкого игумена Антония Бочкова: “Я живу и умру с мыслью, что самый опасный, самый страшный враг наш – французы.
У моих дорогих соотечественников память короткая: они забыли Наполеона и двенадцатый год, а в моем сердце живет и кровоточащей раной доселе болит осквернение святынь московского Кремля. Горе тем сынам России, кто об этом позабудет, горе той России, у которой народятся такие дети!” Горе современной России!
* * *
Вот уже и полгода прошло, как я начал вести свои записки, увлекаясь ими иногда до того, что некогда иной раз и красотами оптинской природы наслаждаться, а между тем частенько является помы-ел: да к чему все это и кому это нужно? И вот, 3 июля, на день святителя московского Филиппа, мои дневники нежданно-негаданно получили в моих глазах новую ценность. Случилось это так.
В Оптиной месяца два тому назад заболел один из наиболее уважаемых старцев иеромонахов отец С., к которому у нас с женой всегда было особое чувство любви и почтения. Заболел он, да так серьезно, что мы уже не чаяли и живым быть ему. Во время болезни его посхимили и он выздоровел. Это бываете больными монахами при пострижении их в схиму. Теперь он настолько уже поправился, что начал принимать кое-кого не только на исповедь, но и на совет и беседу.
Третьего июля мы с женой навестили его в больнице.
– Захвачу-ка я с собой свои дневники, – сказал я жене, – старец-то уже может быть на исходе. Покажу ему свои записки: что он мне о них скажет?
Пришли к старцу, застали его довольно бодрым.
– Пишете ли вы теперь что? – спросил он меня в разговоре.
– А вот, батюшка, взялся вести дневник, а не знаю, какой толк из него выйдет. Он со мной, и благословите прочитать из него что-нибудь на выдержку.
Я прочел несколько отрывков. Смотрю, батюшка встал со своего ложа, обратился лицом к иконам и с особой силой молитвенного вдохновенья произнес такие слова:
– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Владыко Господи, благослови труды раба Твоего во славу Твою, во спасение чад Святой Твоей Церкви.
И, обернувшись к нам – мы стояли на коленях – и лежащим на столе около нас моим запискам, он трижды осенил нас иерейским благословением и произнес:
– Да будет, да будет, да будет!
Много побеседовали мы тут с батюшкой о моих исследованиях в “тайне беззакония”, деющегося в мире.
– Да, – сказал он мне, – близок, близок конец! Пишут мне со старого Афона: наступают скоро 1913 – 1920 годы. В эти годы произойдут грозные и небывалые доселе на земле события, когда сами стихии изменятся и законы времени поколеблются. Поистине люди придут в такое дерзкое безумие против Создателя своего и Бога, что время не выдержит и побежит: день будет вращаться, как час, неделя, как день и годы, как месяцы, ибо лукавство человеческое сделало то, что и стихии стали напрягаться и спешить, чтобы скорее окончить прореченное Богом число для восьмого числа веков. Наступило время сына погибели антихриста.
На этих словах закончилась наша беседа с оптинским схимником.
Ей, гряди, Господи Иисусе!
II. Мировая война
И вот разразилось бедствие, какого еще не видывала земля, – всемирная война, человекоистребление по последнему слову братоубийственной науки.
Страшный гнев Божий, кара Господня, казнь безмерно согрешившего человечества!
– Да! Гнев, и кара, и казнь, но… и человеколюбие крайнее, и всепрощение безграничное, и милосердие непостижимое, никаким грехом не побеждаемое милосердие Божие.
Когда война была уже в разгаре, в те дни дошел до меня слух из Дивеева отдивеевских “сирот” преподобного Серафима:
“Блаженная “маменька” Прасковья Ивановна все радуется, все владоши хлопает да приговаривает:
– Бог-то, Бог-то милосерд-то как! – разбойнички в Царство Небесное так валом и валят, так и валят!”
И вот в то же время, только в другом месте, в том маленьком захолустном городке, куда поселил меня Господь, одной рабе Божией, умом и сердцем препростой (я не назову ее имени, смирения ее ради), было даровано во сне видение судеб Божиих, сокрытых от разумения премудрых и разумных и открываемых младенцам. Очень скорбела эта раба Божия о тех ужасах войны, которые так нежданно-негаданно для многих (немногие-то ее уже давно ожидали) обрушились на Россию. Было это, помнится, вскоре после многодневных жестоких боев на австрийской границе, увенчавшихся взятием Галича и Львова после великих страданий армии Самсонова в Восточной Пруссии, словом, после великой кровавой жертвы, принесенной Россией за грехи свои перед правдой Божией.
И видит эта раба Христова: стоит она будто бы на незнакомом месте. Ночь. Небо темное. На земле ни зги не видать. И вдруг разверзлось небо и в лучезарном блеске ослепительного величия и неизобразимой славы явился на небе причудный, предивный град Сион, великий город, святой Иерусалим. Он имел славу Божию; светило его подобно драгоценнейшему камню яспису кристалловидному (Откр. 21, 10 – 11). Не находя слов к описанию дивного града этого, раба Божия в восторге от видения своего сказывала:
– Ну как Новый Афон, что ли…
Так прекрасен был град тот. А краше и лучше Нового Афона раба Божия, его видевшая, ничего себе и представить не могла. Да и как вообразить себе и изобразить людям красоту небесную, когда ей на земле и подобия нет?!
И от града этого, Иерусалима святого, имевшего славу Божию, увидела она, спустилась до земли от неба величественная лестница. И устремилась к ней всем желанием своим имевшая видение, чтобы как можно скорее подняться по ней и взойти в град небесный, войти в славу его, насладиться небесной его красотой. Но – увы! – до земли не досязала лестница, и концы ее были от земли выше роста человеческого, так что и протянутыми кверху руками нижней ее ступени достать было невозможно.
– И отошла я, – сказывала раба Божия, – к сторонке и стала; смотрю и неутешно плачу о том, что недостойна я града того небесного. И что же, милые мои, вижу? Откуда-то взялись воины: идут в серых шинелях, винтовки за плечами, идут один по одному, целое огромное воинство, полки за полками, без числа, без счету, идут и проходят мимо меня; подходят к лестнице и без всякого труда, как бестелесные, восходят по ней и скрываются в открытых вратах небесного Иерусалима. И пред тем как вступить им во врата Иерусалима небесного, вижу я, загораются на них венцы такой красоты и сияния, что их не только описать, но и вообразить себе, не видавши, невозможно. И долго я стояла и смотрела на них, и плакала, и плакала. А они все шли да шли мимо меня – полки за полками, шли и возносились по лестнице к небу, и сияли своими венцами, как яркие звезды на тверди небесной.
Проснулась я – вся подушка моя была мокрая от слез; и была я вне себя от радости и умиления, от благодарности милосердию Божию. И, проснувшись, я опять плакала, слез удержать не могла: зачем я на земле оставлена, зачем недостойна я красоты той небесной, тех венцов, которые, как звезды, горели на главах небесною славой прославленного воинства?
Прошел год войны; пошел второй.
Проездом по делу в Петербург меня с женой навестили в нашем захолустье две давно знакомые и любимые монахини одного из монастырей Черниговской епархии, того монастыря, что когда-то был ограблен разбойником Савицким. Разговорились о войне, стали доискиваться ее духовного смысла и значения и что имеющему уши слышати и очи видети есть о чем над ней призадуматься. И вот что за беседой рассказала мне старшая из моих собеседниц, пожилая, образованная, а главное духовно настроенная монахиня.
– По близости от нашего монастыря, – сказывала она, – есть помещичья усадьба. В этой усадьбе устроен теперь лазарет для раненых воинов. Зовется он Барышниковский лазарет. Много выздоровевших в этом лазарете раненых перебывало в нашей обители: вылечатся и идут к нам помолиться Богу, поблагодарить за исцеление и поговеть, кто пред возвращением в строй, а кто пред отправкой на родину для окончательно восстановления здоровья. И вот среди таких-то богомольцев мне раз довелось увидеть одного раненого солдата с таким особенным выражением лица, что оно приковало к себе все мое внимание. Что-то совершенно нездешнее, неземное, в высшей степени одухотворенное, было в лице этом, в глазах, во всем облике этого человека. Такое выражение только на иконах можно видеть, на ликах страстотерпцев-мучеников, когда от тягчайших страданий плоти истомленная душа страдальца внезапно ощутит небесную помощь и узрит ниспосланного ей свыше Ангела утешителя. Подошла я к этому человеку.
– Откуда ты, – спрашиваю, – раб Божий?
– Сейчас из лазарета, а то был на войне.
– Заболел, что ли, или был ранен?
– Ранен, матушка, теперь, слава Богу, выздоровел. Вот у вас отговею и обратно в строй, к своим, туда, на Карпаты.
– Ну небось сперва к своим домой съездишь? Ты что ж, холостой или женатый?
– Женатый, матушка, жену, двоих детей имею. Только я, матушка, домой теперь не поеду, а в строй, на позиции. Я своих всех поручил Царице Небесной – Она их и без меня ладно управит. Жду я, матушка, жду не дождусь, пострадать желаю за веру святую, за царя-батюшку, за родимую мать землю русскую, за православный наш народушко, пострадать, да и помереть в сражении.
Я была поражена: нашему ли времени такие речи слышать? “Пострадать и помереть в сражении?!”
– Да откуда ж, – воскликнула я, изумленная, – откуда ж у тебя такие мысли и желания?
– Ах, матушка! – вздохнул он мне в ответ. – Если б только знали вы, как я томлюсь в ожидании этой смерти, как жду ее, ищу ее, а она мне, как клад какой, не дается… С чего это у меня, спрашиваете вы? А вот с чего: было это за австрийской границей. Нашу часть пустили в обход одной горы, поверив некиим предателям, что мы захватим врасплох австрийцев, были мы преданы и попали мы под такой перекрестный огонь неприятеля, что от нашей обходной колонны мало кто и в живых остался. Меня тут контузило, и я упал без сознания. Когда опомнился, то стало уж темнеть. Бой продолжался, но не рукопашный, а огневой. Кругом меня живых никого – одни трупы, горы трупов и своих, и неприятельских. Почти совсем стемнело. И услышал я вскоре нерусский говор. Ну, думаю, австрийцы или немцы идут добивать наших раненых и грабить трупы.
Смотрю, они и есть, только от меня еще далеко. Я поскорее – да под трупы убитых, залез под них и притаился, не дышу, словно тоже убитый. Прошли немцы, обшарили трупы, обобрали, кого штыком ткнули. Меня не тронули: не заметили, глубоко был зарывшись. Прислушиваюсь – ушли. Подождан я немножко и стал потихоньку вылезать из-под трупов на свободу. А уж стало вовсе темно; только вспыхивали как молния разрывы шрапнелей да повизгивали пули. И вдруг, матушка, такой свет откуда-то явился, что я чуть не ослеп от этого свету. И, Господи Боже мой, что ж я тут в этом свете увидел, тому и поверить, кажется, невозможно! Смотрю – идет между павшими в бою Сама Матушка Царица Небесная, сияет светом, как солнце, идет и ручками Своими пречистыми возлагает то на ту, то на другую голову павших воинов венцы красоты неизобразимой. Я как крикну:
– Матушка! Матерь Божия! Даруй и мне такой же венец из ручек Твоих пречистых!
Уж, видно, не в себе я был, коли так крикнул. А Она, Царица Небесная, на крик мой взяла да остановилась, не побрезгала простым солдатом, да и говорит:
– Тебе не время еще. Иди и зарабатывай. Заработаешь – такой же получишь.
– Куда ж, – говорю Ей, – пойду я? Кругом стреляют, меня убьют, и заработать не успею.
– Иди, – сказала Богородица и перстом Своим указала во тьме, куда идти было надобно. И куда она пальчиком Своим показала, там свет проложился как дорожка; и по свету этому я дошел до своих невредимый, хоть и свистали и щелкали вокруг меня пули…
И вот с той самой ночи нет мне на земле покою и все мне стало на земле немило. Ищу я заработать себе венец из ручек Матери Божией, да видно все еще не умею: во скольких боях был, и все ни одной царапины. В последнем, наконец, ранило. Ну, думаю, заработал! Нет, опять выздоровел. Теперь выписался я из лазарета, отговею у вас и причащусь, и тогда скорее опять на фронт, в строй – теперь-то уже, даст Бог, венец себе заработаю.
Так на этом мы с этим рабом Божиим и простились, – закончила свой рассказ моя собеседница монахиня (Монахиню звали мать Людмила. Она происходила из румынского рода князей Гика. Рассказывала это при мне в Валдае Новогородской губернии в 1915 году Е. К.)
Вот, стало быть, что значит, что приоткрылась одним уголком завеса, до времени скрывающая от нас Царствие Небесное и славу венцов его нетленных: блеснуло на человека тем светом, пред которым весь мир наш тьма, и жить уже не стало охоты, и все стало немило, и все земное заслонилось одним видением, одним желанием заслужить и заработать венец на главу из пречистых ручек Царицы Небесной.
А поглядеть да послушать, что пишут да что говорят о войне газеты и умные люди!
“Исповедаютися, Отче, Господи небесе и земли, яко утаил еси сия от премудрых и разумных и открыл еси та младенцем. Ей, Отче, яко тако бысть благоволение пред Тобою” (Мф. 11, 25 – 26).
III. Судьбы России
В 1879 году в великой хранительнице православного духа Глинской пустыни (Курской епархии) скончался великий старец схиархимандрит Илиодор. Вот что из жития его известно мне от двух ближайших учеников его иеросхимонаха Домна и игумена Иассона ( в схиме Иоанна, описателя жития схиархимандрита Илиодора).
Быв еще в сане иеродиакона с именем Иоаникия, в молодых летах, старец отец Илиодор настолько преуспел в очищении сердца, что ему были открываемы знаменательные видения. Случилось это в конце царствования императора Александра I.
“Однажды поздно вечером, – сказывал он, – я сидел в своей келий один, читая послания святого апостола Павла; я остановился на второй главе второго послания его к Солунянам на стихах 2 – 10 и т.д. На этих страшных известиях святого апостола и остановился и погрузился в размышление, рассуждая о явлении в мир человека греха, сына погибели, которого само явление будет по действу сатаны, так что этот ужасный человек сядет в храме Божием, выдавая себя за Бога и требуя себе Божеских почестей. Какой же, – думал я, – будет этот ужасный человек и какое будет то страшное время для живущих на земле! При этом естественно пришло желание не видеть этого ужаса, а потому в уме остановилась основная мысль обращения к Господу в таких словах:
– Господи! Не дай мне видеть то страшное время!
В это время я почувствовал, что кто-то сзади меня положил мне свою руку на правое плечо и сказал:
– Ты сам увидишь отчасти.
Почувствовав осязание плеча и услышав говорящий голос, я осмотрелся вокруг себя, но никого не оказалось, и дверь келий была заперта на крючок. Осмотрелся я еще раз, чтобы увериться, что никого нет. Я удивился и стал рассуждать, что бы это значило и кто тот невидимый, что говорил и отвечал на мри мысли. Неужели же я увижу хотя бы и “отчасти” то страшное время, и как скоро оно будет? Долго я рассуждал и размышлял в недоумении и страхе, переходя от одного рассуждения к другому. Наконец, возложившись на волю Божию, я совершил свое вечернее правило, прилег отдохнуть и только что забылся тонким сном, как увидел такое видение.
Стою я в ночное время на каком-то высоком здании. Вокруг меня было много громадных построек, как бывает в больших городах. Надо мною небесный свод, украшенный ярко горящими звездами, как то бывает в чистую безлунную ночь. Обозревая небесный свод, я любовался красотою неподвижных звезд. Затем, обратив свой взор на восток, я там увидел выходящий из-за горизонта громадного размера овал; он был составлен из звезд различной величины. На середине овала, в верхней и нижней его части, были звезды большого размера; постепенно уменьшаясь, они с боков закругления становились весьма малыми. Посреди овала было изображено большими буквами имя – АЛЕКСАНДР.
Овал этот, взойдя на восток, шел тихо, величественно подвигаясь и склоняясь к западу. Смотря на величественную красоту движения овала, я размышлял и говорил себе: какая славная и великая православная вера наша, царь православный! Вот и имя его так славно и величественно на небесах…
Проводив глазами звездный овал пока он скрылся на западе за горизонтом, я опять взглянул на восток и вижу – выходит оттуда второй звездный овал, столь же величественный и во всем подобный первому, а в середине его изображено было уже другое имя большими буквами – НИКОЛАЙ. И внутренний голос вещал мне, что после Александра I будет преемником его престола Николай. И было то мне в удивление, ибо наследником престола был не Николай, а Константин Павлович. Прошел и этот овал также величественно по небосклону и, склонившись к западу, скрылся за горизонтом.
Проводив глазами и этот овал, я опять обратил свой взор на восток и вновь увидел там восходящий звездный овал, по форме во всем подобный двум первым, но мерою значительно меньший и составленный из звезд малого размера, и притом цвета как бы крови. В середине же овала изображено было кровавыми буквами имя – Александр. И внутренний голос возвестил мне, что после Николая преемником его престола будет Александр, дни которого сокращены будут злодеянием. Прошел этот овал по небу и быстро скрылся за горизонтом на западе. Посем с востока в таком же порядке взошел, прошел по небу и с крылся на западе с большой быстротой овал, подобный первым, но только малого размера, со слабо начертанным в нем как бы в тумане именем АЛЕКСАНДР. И возвещено мне было внутренним голосом, что дни и этого Государя сокращены будут и непродолжительно будет его царствование над русским народом.
После этого на востоке, бледно и туманно начертанное, явилось имя НИКОЛАЙ.
Звездного овала вокруг не было; подвигалось оно по небу как бы скачками и затем вошло в темную тучу, из которой мелькали в беспорядке отдельные его буквы. После того наступила непроглядная тьма и мне представилось, что все рушилось, подобно карточным домам, в момент кончины мира. Ужас объял меня, стоявшего в то время на возвышении, не связанном с разрушающимся миром”.
И когда старец Илиодор сказывал о видении этом ученикам своим, то в страхе при одном воспоминании о виденном закрывал лицо свое руками и говорил:
– Нецые от вас, чадца, живыми предстанете на суд (Видение схиархимандрита Илиодора никогда не было опубликовано полностью. Князь В.Д. Жевахов. впоследствии епископ Иоасаф, был в Глинской пустыни уже после революции и там получил последнюю часть видения, касающуюся царствования императора Николая II. Эта часть видения хранилась втайне, пока не осуществилась).
В Валдайском Иверском монастыре скончался летом 1915 года благочестивой жизни старец иеромонах отец Лаврентий. Старого закала и истинно монашеского духа был этот человек, с молодых лет удостоившийся находиться под духовным руководительством известного в летописях подвижника благочестия XIX века архимандрита Лаврентия – бывшего наместника Киево-Печерской лавры, а скончавшегося настоятелем на покое Валдайского Иверского монастыря. Иеромонах Лаврентий, будучи еще послушником, а затем монахом, был долгое время бессменным келейником этого великого старца. От него он и воспитание свое получил монашеское, а с именем его при постриге и отдуха его принял в мере дарованных ему талантов. С этим подвижником благочестия я имел счастье быть в довольно близких отношениях и поражался его великому терпению в трудной, едва переносимой его болезни (он страдал хроническим воспалением лицевого нерва), и когда периодически болезнь эта обострялась, то страдания его доходили до крайней степени мученичества.
– Самая страшная зубная боль, – говорил он мне, – ничто в сравнении с этою болью.
Был однажды и он, этот адамант терпения, на пороге к самоубийству от нестерпимых страданий, но успел милостью Божией духовным оком узреть лукавого советника, внушавшего ему эту пагубную мысль, и вовремя остановиться на краю обрыва, с которого хотел броситься в озеро и утопиться. Часто мне приходилось иметь с ним духовную беседу, и конечно, большею частью беседа эта вращалась около вопроса о кончине мира: отец Лаврентий не мог примириться с мыслью, что царству русскому приходит конец, а если ему, думал он, еще нет конца, то, стало быть, и антихристу приходить не время, и потому до конца мира еще долго.
Горячий патриот отец Лаврентий внимательно следил во время войны 1914 года за военными действиями и молил Бога о победе русского оружия. Но за полгода до своей праведной кончины, перед которой он удостоился зреть наяву Божию Матерь, отец Лаврентий увидел сон. Читает он будто священную книгу о конечной судьбе земного мира и письмена книги этой изображены огненными буквами. Читает, ужасается и просыпается в величайшем страхе, запомнив из всего прочитанного только заключительные слова книги:
“Но Господь не даст усилиться пагубному и ускорит кончину”.
* * *
Писал мне протоиерей отец Александр Суровцев из Вологды в сентябре 1914 года: “В конце августа был у меня родственник по покойной жене священник из женского Крестовоздвиженского монастыря Яренского уезда Вологодской губернии.
Этот уединенный монастырь известен строгостью жизни монашествующих сестер и расположен в глухом лесу вдали от людского жилья. Приехавший иерей передавал, что к ним в монастырь ежегодно на 14 сентября приходит юродивый зырянин. Прошлый (1913-й) год он был и предсказал нынешнюю войну. Затем, будучи в гостях у священника, он предсказал ему, что три года он проживет в монастыре благополучно, три года, если не перейдет, с большими скорбями, а затем будет то, что если сказать, то “мати” – жена – заплачет. Потом все-таки высказался, что священников будут избивать и скоро будет антихрист.
Зырянин сей даже не умеет говорить по-русски, а объяснялся через прислугу-зырянку. Предсказания этого раба Божия всегда сбываются с точностью. Если судить по указанным юродивым годам, то гонение на нас начнется годов через пять – в 1918 году.
Через год, в 1915 году, тот же юродивый зырянин, придя в монастырь на 14 сентября, ходил по монастырю и по келиям и возвещал:
– Беда, беда! Антихрист, антихрист!”
Так писал мне отец Александр из Вологды.
* * *
В Нижнем Новгороде в начале тысяча девятисотых годов еще жива была многим боголюбцам известная благочестивая вдова Анна Павловна Хлебникова, имевшая от Бога дар видений и прозрения тайн грядущего. Ей еще до японской войны въяве показано было следующее видение. Днем, во втором часу пополудни, при ярком солнечном свете, в июле, явилась на небе Божия Матерь, сидящая в воздухе на престоле в небесной славе, а на коленях Ее находился Господь в отроческом возрасте, имея меч в деснице Своей. Матерь Божия взялась было за десницу Господа, чтобы удержать меч Его, но Он опустил его на землю. На земле стояло множество народа, и вдруг мечом Господа весь народ был объят огнем. Вид Господа был строгий, вид Божией Матери был жалостливо-умилительный. Видение продолжалось несколько минут.
Раба Божия Анна Павловна Хлебникова была строго благочестивой жизни, подвижница и великая молитвенница.
Записано в 1915 году со слов оптинского монаха Серафима.
* * *
Запись со слов Лидии Николаевны Пороховой, дочери камерфрау императрицы Александры Феодоровны.
– Занимаясь с мужем фотографией и имея свободный доступ в места летнего пребывания царской семьи, мы как-то раз в Петергофе попали на Царицын остров во дворец-павильон времен Екатерины Великой. Там нас, как старых знакомых его господ, встретил с низким поклоном смотритель дворца. Оказалось, что это был бывший слуга помощника управляющего Петергофскими дворцами Квашнина-Самарина. Уходя в отставку, Квашнин-Самарин устроил слугу своего смотрителем этого уединения.
– Он у меня богомол, – говорил он нам, – пусть там себе на островке на покое подвижничает да Богу молится.
Этот “богомол” сказывал нам (было это в начале первого десятилетия нового века), что, выйдя раз ночью из своего помещения, он над большим Петергофским дворцом увидел на небе огромной величины огненный меч, и видел его не один он, а вся его семья и сослуживцы, которых он созвал наблюдать это грозное явление, вскоре после того также внезапно исчезнувшее, как и появившееся.
Под 29 июня 1914 года живший в скиту Оптиной пустыни иеромонах Ириней видел в сонном видении, что на востоке от скита на небе появился крест, а под крестом огненный херувим. После того на том же восточном небе он увидел ножны от меча и падающий из них с неба меч.
Под 31 декабря 1909 года записано у меня в моих заметках.
Сейчас вернулся от вечерни, смущенный и расстроенный, и даже испуганный. Подошел ко мне один из ближайших мне моих духовных друзей оптинских и говорит:
– Вы всю службу стоять будете?
– Нет, до акафиста. А что?
– Мне кое-что надо было бы вам передать.
Я вышел с ним из храма и пошел в его келию.
“Великое знамение у нас нынче в алтаре во время службы сочельника явлено было одному из священнослужителей. Стали читать паремии за вечерней перед Преждеосвященной литургией. Вдруг в глазах этого священнослужителя все в алтаре смешалось: не стало видно ни алтаря, ни служащих, а на их месте он увидал огромное множество людей, в величайшем смятении и страхе беспорядочно бегущих от запада на восток и обратно. Что-то совершалось, по-видимому, необычайное и страшное. И вдруг явился светоносный Ангел, который обратился к тайнозрителю и сказал:
– Все, что ты видишь, имеет совершиться в ближайшем будущем”.
Таково было грозное предзнаменование времен, грядущих в Оптиной пустыни.
IV. Сердце царево в руце Божией. Предопределение
…Было это во дни тяжелого испытания сердца России огнем японской войны. В это несчастное время Господь верных сынов ее утешил дарованием царскому престолу молитвами преподобного Серафима наследника, а царственной чете – сына-царевича, великого князя Алексия Николаевича. Государю тогда пошел только что тридцать пятый год. Государыне-супруге – тридцать второй.
Оба были в полном расцвете сил, красоты и молодости. Бедствия войны, начавшиеся нестроения в государственном строительстве, потрясенном тайным, а где уже и явным брожением внутренней смуты, – все это тяжелым бременем скорбных забот налегло на царское сердце.
Тяжелое было время, а Цусима была еще впереди.
В те дни и на верхах государственного управления, и в печати, и в обществе заговорили о необходимости возглавления вдовствующей церкви общим для всей России главою – патриархом. Кто следил в то время за внутренней жизнью России, тому, вероятно, еще памятна та агитация, которую вели тогда в пользу восстановления патриаршества во всех слоях интеллигентного общества.
Был у меня среди духовного мира молодой друг, годами много меня моложе, но устроением своей милой христианской души близкий и родной моему сердцу человек. В указанное выше время он в сане иеродиакона доучивался в одной из древних академий, куда поступил из среды состоятельной южно-русской дворянской семьи по настоянию весьма тогда популярного архиерея одной из епархий юга России. Вот какое сказание слышал я из уст его:
– Во дни высокой духовной настроенности государя Николая Александровича, – так сказывал он мне, – когда под свежим еще впечатлением великих Саровских торжеств и радостного исполнения связанного с ними обетования о рождении ему наследника Он объезжал места внутренних стоянок наших войск, благословляя их части на ратный подвиг, в эти дни кончалась зимняя сессия Святейшего Синода, в числе членов которой состоял и наш владыка. Кончилась сессия; владыка вернулся в свой град чернее тучи. Зная его характер и впечатлительность, а также и великую его несдержанность, мы, его приближенные, поопасались на первых порах вопросить его о причинах его мрачного настроения в полной уверенности, что пройдет день-другой и он не вытерпит – сам все нам расскажет. Так оно и вышло.
Сидим мы у него как-то вскоре после его возвращения из Петербурга, беседуем, а он вдруг сам заговорил о том, что нас более всего интересовало. Вот что поведал он тогда.
– Когда кончилась наша зимняя сессия, мы, синодалы, во главе с первенствующим Петербургским митрополитом Антонием (Вадковским), как по обычаю полагается при окончании сессии, отправились прощаться с государем и преподать ему на дальнейшие труды благословение то мы, по общему совету решили намекнуть ему/в беседе о том, что нехудо было бы в церковном управлении поставить на очереди вопрос о восстановлении патриаршества в России. Каково же было удивление наше, когда, встретив нас чрезвычайно радушно и ласково, государь с места сам поставил нам этот вопрос в такой форме:
– Мне, – сказал он, – стало известно, что теперь и между вами в Синоде, и в обществе много толкуют о восстановлении патриаршества в России. Вопрос этот нашел отклик и в моем сердце и крайне заинтересовал и меня. Я много о нем думал, ознакомился с текущей литературой этого вопроса, с историей патриаршества на Руси и его значения во дни великой смуты междуцарствия и пришел к заключению, что время назрело и что для России, переживающей новые смутные дни, патриарх и для церкви, и для государства необходим. Думается мне, что и вы в Синоде не менее моего были заинтересованы этим вопросом. Если так, то каково ваше об этом мнение?
Мы, конечно, поспешили ответить государю, что наше мнение вполне совпадает со всем тем, что он только что перед нами высказал.
– А если так, – продолжал государь, – то вы, вероятно, уже между собой и кандидата себе в патриархи наметили?
Мы замялись и на вопрос государя ответили молчанием. Подождав ответа и видя наше замешательство, он сказал:
– А что если я, как вижу, вы кандидата еще не успели себе наметить или затрудняетесь в выборе, что если я сам его вам предложу – что вы на это скажете?
– Кто же он? – спросили мыгосударя.
– Кандидат этот, – ответил он, – я! По соглашению с императрицей я оставлю престол моему сыну и учреждаю при нем регентство из государыни императрицы и брата моего Михаила, а сам принимаю монашество и священный сан, с ним вместе предлагая себя вам в патриархи. Угоден ли я вам, и что вы на это скажете?
Это было так неожиданно, так далеко от всех наших предположений, что мы не нашлись что ответить и… промолчали. Тогда, подождав несколько мгновений нашего ответа, государь окинул нас пристальным и негодующим взглядом, встал молча, поклонился нам и вышел, а мы остались как пришибленные, готовые, кажется, волосы на себе рвать за то, что не нашли в себе и не сумели дать достойного ответа. Нам нужно было бы ему в ноги поклониться, преклоняясь пред величием принимаемого им для спасения России подвига, а мы… промолчали!
– И когда владыка нам рассказывал, – так говорил мне молодой друг мой, – то было видно, что он действительно готов был рвать на себе волосы, но было поздно и непоправимо: великий момент был непонят и навеки упущен – “Иерусалим не познал времени посещения своего” (Лк. 19, 44)…
С той поры никому из членов тогдашнего высшего церковного управления доступа к сердцу цареву уже не было. Он по обязанностям их служения продолжал по мере надобности принимать их у себя, давал им награды, знаки отличия, но между ними и его сердцем утвердилась непроходимая стена, и веры им в сердце его уже не стало от того, что сердце царево, истинно, в руце Божией; и, благодаря происшедшему, въяве открылось, что иерархи своих си искали в патриаршестве, а не яже Божиих, и дом их оставлен был им пуст.
Это и было Богом показано во дни испытания их и России огнем революции. Чтый да разумеет (Лк. 13, 35).
* * *
Вскоре после революции 1917 года митрополит Московский Макарий, беззаконно удаленный с кафедры “временным правительством”, муж поистине “яко един от древних”, видел сон.
– Вижу я, – так передавал он одному моему другу, – поле. По тропинке идет Спаситель. Я за Ним и все твержу:
– Господи, иду за Тобой!
А Он, оборачиваясь ко мне, все отвечает:
– Иди за Мной!
Наконец подошли мы к громадной арке, разукрашенной цветами. На пороге арки Спаситель обернулся ко мне и вновь сказал:
– Иди за Мной!
И вошел в чудный сад, а я остался на пороге и проснулся.
Заснувши вскоре, я вижу себя стоящим в той же арке, а за нею со Спасителем стоит государь Николай Александрович. Спаситель говорит государю:
– Видишь в Моих руках две чаши: вот это горькая для твоего народа, а другая сладкая для тебя.
Государь падает на колени и долго молит Господа дать ему выпить горькую чашу вместо его народа. Господь долго не соглашался, а государь все неотступно молил. Тогда Спаситель вынул из горькой чаши большой раскаленный уголь и положил его государю на ладонь. Государь начал перекладывать уголь с ладони на ладонь и в то же время телом стал просветляться, пока не стал весь пресветлый, как светлый дух.
На этом я опять проснулся.
Заснув вторично, я вижу громадное поле, покрытое цветами. Стоит среди поля государь, окруженный множеством народа, и своими руками роздает ему манну. Незримый голос в это время говорит:
– Государь взял вину русского народа на себя, и русский народ прошен.
* * *
Сон этот был мне сообщен в 1921 году, а в 1923 году бывший во время Европейской войны при Русском дворе французским послом Морис Палеолог издал книгу под заглавием “Царская Россия во время мировой войны”. В этой книге он между прочим писал следующее.
“Это было в 1909 году. Однажды Столыпин предлагает государю важную меру внутренней политики. Задумчиво выслушав его, Николай II делает движение скептическое, беззаботное – движение, которое как бы говорит: это ли или что другое – не все равно?! Наконец он говорит тоном глубокой грусти:
– Мне, Петр Аркадьевич, не удается ничего из того, что я предпринимаю.
Столыпин протестует. Тогда царь у него спрашивает:
– Читали ли вы жития святых?
– Да, по крайней мере, частью, так как, если не ошибаюсь, этот труд содержит около двадцати томов.
– Знаете ли вы также, когда день моего рождения?
– Разве я мог бы его не знать? Шестого мая.
– А какого святого праздник в этот день?
– Простите, государь, не помню!
– Иова Многострадального.
– Слава Богу! Царствование Вашего величества завершится славой, так как Иов, смиренно претерпев самые ужасные испытания, был вознагражден благословением Божиим и благополучием.
– Нет, поверьте мне, Петр Аркадьевич, у меня более чем предчувствие, у меня в этом глубокая уверенность: я обречен на страшные испытания, но я не получу моей награды здесь на земле. Сколько раз применял я к себе слова Иова: “Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне” (Иов. 3, 25).
В другом месте, перед важным решением, много молившись, он сказал:
– Быть может, необходима искупительная жертва для спасения России – я буду этой жертвой, да совершится воля Божия!
– Самым простым, самым спокойным и ровным голосом делает он мне, – говорит Столыпин, – торжественное это заявление. Какая-то странная смесь в его голосе и особенно во взгляде (О, этот взгляд! Вовек не забыть мне его! Пятого мая 1904 года государь Николай Александрович проездом через Мценск по направлению к Орлу, Курску и другим городам юга России, в которых он благословлял войска в поход против Японии, принимал на платформе Мценского вокзала депутацию мценского дворянства. В составе депутации был и я. При представлении государю я стоял рядом с Севастопольским ветераном капитан-лейтенантом Владимиром Васильевичем Хитрово. Заметив его по форме и орденам, государь подошел к нему и стал его ласково расспрашивать о его прежней службе. Тут я и имел радость, более того, восторг видеть глаза и взгляд государя. Передать его выражения ни словами, ни кистью невозможно. Это был взгляд Ангела-небожителя, а не смертного человека. И радостно, до слезного умиления радостно, было смотреть на него и любоваться им и… страшно, страшно от сознания своей греховности в близком соприкосновении с небесной чистотой (прим. автора)) решительности и кротости, чего-то одновременно непоколебимого и пассивного, смутного и определенного, как будто он выражает не свою личную волю, но повинуется скорее некоей внешней силе – величию Промысла…”
Вот что значит сердце царево в руце Божией! И кто же пишет это? Француз, представитель самого безбожного народа, самого богоборческого правительства!..
Истинно камни вопиют.
При особе ее императорского величества государыни императрицы Александры Феодоровны состояла на должности обер-камерфрау Мария Феодоровна Герингер, урожденная Аделунг, внучка генерала Аделунг, воспитателя императора Александра II во время его детских и отроческих лет. По должности своей, как некогда при царицах были “спальные боярыни”, ей была близко известна самая интимная сторона царской семейной жизни, и потому представляется чрезвычайно ценным то, что мне известно из уст этой достойной женщины.
В Гатчинском дворце, постоянном местопребывании императора Павла I, когда он был наследником, в анфиладе зал была одна небольшая зала, и в ней посредине на пьедестале стоял довольно большой узорчатый ларец с затейливыми украшениями. Ларец был заперт на ключ и опечатан. Вокруг ларца на четырех столбиках, на кольцах, был протянут толстый красный шелковый шнур, преграждавший к нему доступ зрителю. Было известно, что в этом ларце хранится нечто, что было положено вдовой Павла I императрицей Марией Феодоровной и что ею было завешано открыть ларец и вынуть в нем хранящееся только тогда, когда исполнится сто лет со дня кончины императора Павла I, и притом только тому, кто в тот год будет занимать царский престол России.
Павел Петрович скончался в ночь с одиннадцатого на двенадцатое марта 1801 года. Государю Николаю Александровичу и выпал, таким образом, жребий вскрыть таинственный ларец и узнать, что в нем столь тщательно и таинственно охранялось от всяких, не исключая и царственных, взоров.
– В утро 12 марта 1901 года, – сказывала Мария Феодоровна Герингер, – и государь и государыня были очень оживлены и веселы, собираясь из царского Александровского дворца ехать в Гатчино вскрывать вековую тайну. К этой поездке они готовились как к праздничной интересной прогулке, обещавшей им доставить незаурядное развлечение. Поехали они веселые, но возвратились задумчивые и печальные, и о том, что обрели они в том ларце, то никому, даже мне, с которой имели привычку делиться своими впечатлениями, ничего не сказали. После этой поездки я заметила, что при случае государь стал поминать о 1918 годе как о роковом годе и для него лично, и для династии.
* * *
Шестого января 1903 года на Иордани у Зимнего дворца при салюте из орудий от Петропавловской крепости одно из орудий оказалось заряженным картечью, и картечь ударила только по окнам дворца, частью же около беседки на Иордани, где находилось духовенство, свита государя и сам государь. Спокойствие, с которым государь отнесся к происшествию, грозившему ему самому смертию, было до того поразительно, что обратило на себя внимание ближайших к нему лиц окружавшей его свиты. Он, как говорится, бровью не повел и только спросил:
– Кто командовал батареей?
И когда ему назвали имя, то он участливо и с сожалением промолвил, зная, какому наказанию должен будет подлежать командовавший офицер:
– Ах, бедный, бедный (имярек), как же мне жаль его!
Государя спросили, как подействовало на него происшествие. Он ответил:
– До восемнадцатого года я ничего не боюсь.
Командира батареи и офицера (Карцева), распоряжавшегося стрельбой, государь простил, так как раненых по особой милости Божией не оказалось, за исключением одного городового, получившего самое легкое ранение.
Фамилия же того городового была Романов.
Заряд, имевший и предназначенный злым умыслом царственному Романову, Романова задел, но не того, на кого был нацелен: не вышли времена и сроки – далеко еще было до 1918 года.
28 мая 1922 года
I. Схиархимандрит Иоасаф
Тринадцатого мая старого стиля ушел от нас навеки наш батюшка схиархимандрит Иоасаф. Вот это-то важнейшее в нашей жизни событие я и хочу поведать во главе моего послания. Старец наш уже давно стал ослабевать, но бодрился вплоть до начала нашего зимнего сезона, то есть до ноября. Последний раз он служил соборне литургию на святителя Спиридона Тримифунтского – 12 декабря, после двух начинавшихся в нашем доме пожаров, благополучно, к счастью, затушенных в начале возникновения. За месяц до кончины он подвергся жестокому нападению от злого духа уныния и страдал от него тяжко, невыносимо, так что вынужден был обращаться даже к нашей убогой молитве за помощью и облегчением от ужасающих душевных страданий. Это было явным предварением близости его кончины.
– Боюсь с ума сойти, – говорил он мне, – но не поддаюсь, не поддаюсь!
Шестого мая, вдень праведного Иова Многострадального, пришел я к нему утром на благословение, а он меня встречает, сияющий какой-то неземной радостью (он все время был на ногах), и говорит:
– Боже мой! Какую я получил сегодня при пробуждении неизреченную радость! Я зрел лицом к лицу Пресвятую Троицу. Она осияла меня некоим неизреченным действием, и дух уныния отступил от меня. За всю свою жизнь многострадальную я ничего подобного никогда не испытывал. Видите, я плачу от умиленного восторга…
Лицо старца действительно сияло восторгом благодатного видения, и слезы текли по ланитам, когда он сообщал мне эту дивную тайну…
– Батюшка, – спросил я, – в каком же виде и как удостоились вы узреть Пресвятую Троицу?
– Изобразить сего человеческим языком невозможно. Пресвятая Троица осияла меня, – повторил он, – некиим неизреченным действием, и я слышал голос, от Нее исходящий и возвестивший мне великую радость, и притом в самом непродолжительном времени, неожиданная, величайшая радость! “Вас ожидает великая радость, величайшая радость!”
– Кого же это – вас? – переспросил я.
– Вас и всех одинаково мыслящих, – отвечал он, и притом и самое радость сказал он мне, но взял с меня слово, что я этой радости не открою никому, кроме жены…
– Надолго ли будет дана эта радость, – говорит батюшка, – того мне не возвещено, но что она будет, и притом вскоре, тому верьте – будет это, будет непременно.
То же самое он повторял мне несколько раз • вплоть до десятого мая, когда он слег совсем в постель и как-то сразу, не теряя, однако, сознания земного и окружающего, перешел в область явлений и видений горнего мира. Десятого, одиннадцатого и двенадцатого его причащали, а в четыре часа утра 13 мая он, приняв из рук служащего у нас старичка иеромонаха Феофана (полуюродивого и едва ли не святого) зажженную свечу, воздел обе руки к небу и, свободной рукой указывая что-то ему одному видимое вверху (раньше он там видел двух Ангелов), тихо и безболезненно предал дух свой Богу. Поистине, это была кончина святого угодника Божия.
За два часа до смерти келейник его принимал от него благословение на полунощнииу и он сказал: “Бог благословит”. Два раза отвечал на молитву Господню: “Яко Твое есть Царство…”, и это были его последние слова.
В то же утро мы отслужили заутреню и заупокойную литургию, а после панихиды гроб с его телом (этот гроб больше года стоял у нас в передней) увезли в Пустынь, где в воскресенье 15 мая и предали земле в заранее приготовленном склепе. Знаменательно, что, предчувствуя свою кончину, еще за месяц ранее батюшка собирался вернуться умирать в Густынь и день 15 мая назначил днем своего отъезда. Но еще замечательнее, что по историческим данным Густынский монастырь был основан иеросхимонахом Иоасафом, выходцем из Киево-Печерской лавры. Батюшка же наш в схиму был пострижен тоже в той же лавре и был последним схимником, выходцем из Густыни.
Схимником Иоасафом началась обитель, схимником Иоасафом и кончилась, именно – кончилась, потому что… такова судьба теперь всех рассадников Православия в России, умирающих где естественно, а где и насильственно. Густынь кончается соединением обеих смертей. Что бы то ни было и какая радость ни была нам обетована, а времена и сроки заканчиваются – этого только слепые, вернее, самоослепляемые не хотят видеть. “И не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют” (Дан. 12, 10).
Хочу еще приписать несколько строк, не лишенных значительности: старец мне оставил в наследство свою палку, данную ему Глинским архимандритом Иоанникием, и службу с акафистом преподобному Серафиму, “которого, – сказал он, – вы так любите. Палку – на обратный путь сперва на родину, а потом в Палестину” – это его подлинные слова. А служба преподобному Серафиму? Не придется ли мне еще чем послужить великому моему покровителю?..
II. Великая дивеевская тайна
“Серафим, Серафим! Велик у Бога Серафим!.. Всюду Серафим!” То были слова великой дивеевской блаженной Прасковьи Ивановны, когда она, прикрыв ладонью данные мною два рубля, вопрошала, глядя на икону преподобного, как бы его самого, брать или не брать эти деньги…
Воистину, всюду велик у Бога Серафим!
Какое значение в моей маленькой жизни имел, верую, и доселе имеет преподобный Серафим, читателю моему известно и из книги моей “Великое в малом”, и из прочего, что в разное время выходило из-под пера моего.
Поведаю теперь то, что я хранил доселе в сердечной памяти своей и чему, думается мне, еще не выходили Божий сроки. Если не обманывает меня внутреннее извещение-предчувствие, сроки эти исполнились и настало время явить миру верующих и неверующих сокровенный доныне и мною скрываемый умный бисер, подобного которому мир еще не ведал со дней греческого императора Феодосия Младшего, или Юнейшего (Junior’). Воскрешение Лазаря известно каждому христианину. О воскресении же седми отроков знают весьма немногие, и потому прежде объявления великой Серафимовой тайны (назову ее дивеевской – по месту ее обретения) я вкратце сообщу неосведомленным сказание о седми отроках (Вечный календарь Е. А. Тихомирова. Москва. 1882 г.)
Эти седмь благородных отроков Максимилиан, Екзакустодиан, Иамвлих, Мартиниан, Дионисий, Иоанн и Антонин, связанные между собой одинаковой воинской службой, тесной дружбой и верой, во время Декиева гонения на Ефесских христиан (около 250 года) скрылись в горной пещере, называемой Охлон, близ города Ефеса в Малой Азии. В пещере этой они проводили время в посте и молитвах, приготовляясь к мученическому подвигу за Христа. Узнав о местопребывании юношей, Декий велел завалить вход в пещеру камнями, чтобы придать исповедников голодной смерти.
По истечении более ста семидесяти лет, в царствование Феодосия Младшего (408 – 470), истинного защитника веры, вход в пещеру был открыт и блаженные юноши восстали, но не для мучений, а для посрамления неверующих, отвергавших истину воскресения мертвых. По извещении об этом великом чуде царь Феодосии прибыл с сановниками своими и со множеством народа из Константинополя в Ефес, где обрел юношей этих еще в живых и поклонился им как дивному свидетельству свыше о будущем всеобщем воскресении.
По свидетельству церковного историка Никифора Каллиста, царь был в общении с ними семь дней, беседовал с ними и сам прислуживал им во время трапезы. По миновении тех дней юноши вновь уснули сном смерти уже до Страшного суда Господня и всеобщего воскресения. Святые мощи их прославлены многими чудесами.
Сказание это независимо от церковного предания имеет свидетельство в исторической своей достоверности. Святой Иоанн Колов, современник этого события, говорит о нем в житии преподобного Паисия Великого (19 июня). Марониты сирийцы, отколовшиеся в VII веке от Православной Церкви, чтут в своей службе святых отроков. Они находятся в ефиопском календаре и в древних римских мартирологах. История их известна была Магомету и многим арабским писателям. Григорий Турский говорит (Da gloria martur, lib. I, cap. 95), что эти мужи до сего дня почивают в том самом месте, одетые в шелковые и тонкие полотняные одежды. Пещера отроков доныне показывается близ Ефеса в ребрах горы Приона. Судьба мощей их неизвестна с XII века, в начале которого игумен Даниил видел их еще в пещере.
По вере моей, чудом преподобного Серафима спасенный в 1902 году от смерти, я в начале лета того же года ездил в Саров и Дивеев благодарить преподобного за свое спасение, и там, в Дивееве, с благословения великой дивеевской старицы игумений Марии и пожеланию Елены Ивановны Мотовиловой я получил большой короб всякого рода бумаг, оставшихся после смерти Николая Александровича Мотовилова, с разными записями собственной руки его, и в этих-то записях я и обрел то бесценное сокровище, тот “умный бисер”, который я называю дивеевской тайной – тайной преподобного Серафима Саровского и всея России чудотворца.
Передаю обретенное словами записи.
“Великий старец батюшка отец Серафим, – так пишет Мотовилов, – говоря со мною о своей плоти (он плоти своей никогда мощами не называл), часто поминал имена благочестивейшего государя Николая, августейшей супруги его Александры Феодоровны и матери вдовствующей императрицы Марии Феодоровны. Вспоминая государя Николая, он говорил: “Он в душе христианин”.
Из разных записок – частью в тетрадях, частью на клочках бумаги – можно было предположить, что Мотовиловым была приложена немалая энергия к тому, чтобы прославление преподобного было совершено еще в царствование Николая I, при супруге его Александре Феодоровне и матери Марии Феодоровне. И велико было его разочарование, когда усилия его не увенчались успехом, вопреки, как могло тому казаться, предсказаниям Божиего угодника, связавшего прославление свое с указанным сочетанием августейших имен.
Умер Мотовилов в 1879 году, не дождавшись оправдания своей веры.
Могло ли ему или кому-либо другому прийти в голову, что через сорок восемь лет после смерти Николая I на престоле Всероссийском в точности повторятся те же имена Николая, Александры Феодоровны и Марии Феодоровны, при которых и состоится столь желаемое и предсказанное Мотовилову прославление великого прозорливца преподобного Серафима?
В другом месте записок Мотовилова обретена была мною и следующая ВЕЛИКАЯ ДИВЕЕВСКАЯ ТАЙНА.
“Неоднократно, – так пишет Мотовилов, – слышал я из уст великого угодника Божия старца отца Серафима, что он плотью своею в Сарове лежать не будет. И вот однажды осмелился я спросить его:
– Вот вы, батюшка, все говорить изволите, что плотию вашею вы в Сарове лежать не будете. Так нешто вас Саровские отдадут?
На сие батюшка, приятно улыбнувшись и взглянув на меня, изволил мне ответить так:
– Ах, ваше боголюбие, ваше боголюбие, как вы! Уж на что царь Петр-то был царь из царей, а пожелал мощи святого благоверного князя Александра Невского перенести из Владимира в Петербург, а святые мощи того не похотели.
– Как не похотели? – осмелился я возразить великому старцу. – Как не похотели, когда он в Петербурге в Александро-Невской лавре почивает?
– В Александро-Невской лавре, говорите вы? Как же это так? Во Владимире они почивали на вскрытии, а в лавре под спудом – почему же так? А потому, – сказал батюшка, – что их там нет.
И много распространившись по сему поводу своими богоглаголивыми устами, батюшка Серафим поведал мне следующее.
– Мне, ваше боголюбие, убогому Серафиму, от Господа Бога положено жить гораздо более ста лет. Но так как к тому времени архиереи таконечестивятся, что нечестием своим превзойдут архиереев греческих во времена Феодосия Юнейшего, так что главнейшему догмату веры Христовой и веровать уже не будут, то Господу Богу благоугодно взять меня, убогого Серафима, до времени от сея привременныя жизни и посем воскресить, и воскресение мое будет, аки воскресение седми отроков в пещере Охлонской во дни Феодосия Юнейшего.
Открыв мне, – пишет далее Мотовилов, – сию великую и страшную тайну, великий старец поведал мне, что по воскресении своем он из Сарова перейдет в Дивеев и там откроет проповедь всемирного покаяния. На проповедь же ту, паче же на чудо воскресения, соберется народу великое множество со всех концов земли, Дивеев станет лаврой, Вертьяново – городом, а Арзамас – губернией. И, проповедуя в Дивееве покаяние, батюшка Серафим откроет в нем четверо мощей и по открытии их сам между ними ляжет. И тогда вскоре настанет и конец всему”.
Такова великая дивеевская благочестия тайна, открытая мною в собственноручных записях симбирского совестного судьи Николая Александровича Мотовилова, сотаинника великого прозорливца чина пророческого преподобного и богоносного отца нашего Серафима, Саровского и всея России чудотворца.
В дополнение же к тайне этой вот что я слышал из уст 84-летней дивеевской игумений Марии. Был я у нее в начале августа 1903 года вслед за прославлением преподобного Серафима и отъездом из Дивеева царской семьи. Поздравляю ее с оправданием великой ее веры (матушка, построив дивеевский собор, с 1880 года не освящала его левого предела, веруя, согласно дмвеевским преданиям, что доживет до прославления Серафима и освятит предел в святое его имя); поздравляю ее, а она мне говорит:
– Да, мой батюшка Сергей Александрович, велие это чудо. Но вот будет чудо так чудо – это когда крестный-то ход, что теперь шел из Дивеева в Саров, пойдет из Сарова в Дивеев, “а народу-то, – как говаривал наш угодничек-то Божий преподобный Серафим, – что колосьев будет в поле. Вот то-то будет чудо-чудное, диво-дивное”.
– Как это понимать, матушка? – спросил я, на ту пору совершенно забыв тогда уже мне известную великую дивеевскую тайну о воскресении преподобного.
– А это кто доживет, тот увидит, – ответила мне игумения Мария, пристально на меня взглянув и улыбнувшись.
Это было мое последнее на земле свидание с великой носительницей дивеевских преданий, той двенадцатой начальницы, “Ушаковой родом”, на которой по предсказанию преподобного Серафима и устроился, с лишним через тридцать лет после его кончины, Дивеевский монастырь, будущая женская лавра.
Через год после этого свидания игумения Мария скончалась о Господе.
Вот что писал князю Владимиру Давидовичу Жевахову Е. Поселянин (Е.Н. Погожев) в письме от 19 декабря 1922 года.
“Поведали вчера (18 декабря) бывшие в Понетаевке прошлое (1921-го года) лето монашки. Там весной 1921 года была прислана комиссия для осмотра мощей в Сарове. Председатель – крестьянин, кажется, из Вертьянова. В ночь, уже в Сарове, видит он сон. Стоит у раки, и кости преподобного Серафима соединяются, и вскоре он встает из раки одетый, как рисуют на иконах, и говорит этому человеку:
– Смотри, я живой!
И притом двумя перстами коснулся его щеки. Тот проснулся СТОЯ, дрожа и в поту и с двумя черными пятнами на лице в месте касания. Он поутру рассказал бывшее. Составили акт за подписью, отказался от поручения и уехал.
* * *
На пути моего земного странничества мне пришлось по великой неволе, во дни изгнания буржуев из сел и деревень в города, перебраться в предместье города Пирятина на Украине. Приютила нас, бездомных стариков, одна добрая чета молодых супругов, мало нам знакомая, но близкая по родству дорогому мне человеку. По нем мы и получили у них и приют и привет в самое для нас тяжелое, казавшееся даже безвыходным, время.
Третье апреля 1923 года было днем, назначенным для нашего выселения. В ночь на это число (в тот год третьим апреля была Радоница – поминовение усопших) супруга из этой четы, знавшая обо мне только понаслышке, видит такой сон.
– Вижу я, – сказала мне она, – что иду по какой-то незнакомой улице, где множество народа, и происходит великое смятение при виде надвигающейся страшной тучи. Быстро налетела эта туча, и началось нечто невообразимое: буря коверкала и выворачивала с корнем деревья, разрушая дома, – словом, мне показалось, что началось или землетрясение, или общая гибель и коней света… Я пала ниц на землю, закрыв лицо руками, и от страха впала в полусознательное состояние.
Когда я очнулась и решилась открыть глаза, то увидела страшный мрак и полное разрушенье: поломанные и вырванные с корнем деревья, разрушенные до основания дома, развалившиеся печи и кое-где полуразвалившиеся печные трубы – словом, хаос и ужас… И вдруг на востоке блеснул яркий луч света и пронзил окружавший меня густой мрак. И в голове моей как молния пронеслась мысль: “Это свет от Всевидящего Ока, что обновилось на старом Прилукском соборе”. И в свете этого луча я среди хаоса и разрушения увидала большую картину-икону и на ней изображение лежащего в гробу некоего монаха, под которой была надпись: “Преподобный Серафим Саровский”.
Смотрю, монах этот оживает, поднимается из гроба, встает и смотрит на меня с небесной улыбкой. В благоговейном страхе я вновь падаю пред этим видением на землю, и когда поднимаю голову, то вижу, что преподобного уже нет, а на его месте стоит Божия Матерь с опушенными веждами. Была она одна, и Предвечного Младенца с нею не было.
Я проснулась. О преподобном Серафиме я не думала, мало что о нем слышала, а с вечера, когда спать ложилась, даже и Богу не помолилась, и оттого, когда во сне увидала Божию Матерь, то сильно испугалась, чтобы мне от Нее не досталось за леность и нерадение к молитве.
Простодушный рассказ простодушной женщины я передаю здесь, как он есть. Я не берусь толковать этого сна; но как сон этот подходит ко сну председателя комиссии, явившейся кощунствовать над мощами преподобного, и как идет он к великой дивеевской тайне, о которой сказала мне игумения Мария, что “кто доживет, тот увидит”.
III. “…Всюду Серафим”
Убрал я после службы нашу дорогую защитницу от всех напастей – церковочку нашу, позавтракал и говорю жене:
– Давай-ка почитаем с тобою акафист преподобному Серафиму.
Прочли его перед иконой, что, где бы я ни жил, всегда висит над столом, за которым работаю и пишу, приложились к батюшкиной ручке, книжку службы ему с акафистом я тут же на столе положил поверх моих книг и тетрадей, и говорим ему, как живому (так и всегда ему молимся):
– Защити нас, батюшка!
А сердце тревожно – ждет беды неминуючей: недаром во святых мощах пожаловал к нам преподобный. Но как ни тревожно сердце, а ему еще слышатся слова:
– Слава Богу, что вовремя приехали.
Нет дороги унывать!” Унывать и впрямь нет дороги: не будем же унывать! И вспоминается мне первая моя поездка в 1900-м в Саров и Дивеев. Елена Ивановна Мотовилова – Царство Небесное родной моей старушке! Матушка игумения Мария – и ей Царство Небесное! Келия Елены Ивановны и в ней первописанный портрет преподобного, апельсин!.. Ведь эта моя икона – копия с того портрета, а такие в Дивееве все почитаются чудотворными. Верую, что чудотворна и эта, моя…
19 января. Предчувствие сердца было знамение свыше от преподобного. Только что отбыли мытники, приезжавшие по нашу душу, получше запишу все по порядку.
Сижу я за своим столиком, привожу в порядок свои заметки… Вбегает верная наша слуга Аннушка и испуганно зловещим шепотом восклицает:
– Едут, едут! Двое саней и в них все с винтовками!
Не впервой жаловали к нам “дорогие гости”, и не в диковину было нам принимать их – пора было к ним привыкунть, но тут сердце екнуло и с чего-то оробело.
Да и было с чего! Не успела Аннушка прошептать своих зловещих слов, как в нашу комнату вскочило шесть или семь вооруженных с револьверами, винтовками, в полушубках и, конечно, в шапках на затылок. Впереди всех маленький, невзрачный, корявенький человечек с прямыми, черными, жесткими волосами, выбивавшимися из-под шапки, с быстро бегающими в азиатских узких и косых щелках глазками, в глубине которых вспыхивал и ничего нам доброго не предвещал злой огонек. Рядом с ним, несколько сзади, вскочил и другой, подобный ему видом, очевидно, его помощник. Это было “начальство”, а остальные – подручные из деревенской милиции. В первом я узнал “политического следователя” уездной чрезвычайки, переименованной в “политбюро”. Я уже и раньше слышал о нем как о человеке с очень определенной и вполне установившейся репутацией, а встретил его раз в доме нашего “народного судьи” и тогда с ним мимоходом, нечаянно, имел удовольствие познакомиться; он был тогда выпивши и вряд ли я успел оставить след в его памяти.
– Что вы? – спросил я вошедших, встречая их у порога, – по нашу душу к нам пожаловали?
– На что нам ваши старые души! – свысока, пренебрежительно отвечал мне помощник начальства. – У вас тут есть запечатанный нашими товарищами сундук: его-то нам и надобно.
А у нас перед тем, 15 сентября, произведено было “раскулачивание” и нам была оставлена “товарищами”, приезжавшими тоже с винтовками, “большевистская норма” белья и носильного платья, остальное все было забрано вместе с мебелью, от которой нам оставлена была тоже норма, ровно столько, чтобы не сидеть и не спать на полу. Сундук нашей Аннушки, показавшийся им подозрительным по относительному для прислуги богатству содержимого, был ими опечатан, и ключи от него увезли “впредь до нового распоряжения”. Велико было тогда горе Аннушки! Второго декабря к нам приезжал начальник “раскулачившего” нас отряда и, сняв печати, возвратил ключи Аннушке. Вдовьи и ее дочери сиротские слезы, видно, дошли до Бога!..
– Сундук, который вы ищете, – отвечаю, – распечатан, и ключи от него возвращены хозяйке.
– Как так! Кем?
– Тем же, кто его запер и запечатал.
– Не может быть.
– Справьтесь: телефон на почте и в “исполкоме”-в вашем распоряжении.
“Товарищи” что-то между собой перешепнулись, потолкались на месте, присели, свернули по “цыгарке”, подымили махоркой, бросили несколько беглых взглядов на обстановку и затем со словами “Справимся! Это что-то не так” так же быстро, как вошли, так вышли и уехали.
Сегодня, рано утром, запыхавшись, прибежал к нам наш сосед и тоже прихожанин нашей церкви:
– Вы целы и живы? Вы еще дома?
– Как видите.
– Слава Богу! А я думал, что если вы и живы, то вашего и следу здесь уже не осталось. Вчера перед налетом на вас “политследователь” в “исполкоме” хвалился, что он камня на камне не оставит от вашего, какой выразился, “осиного гнезда”.
Не успели мы с ним порадоваться, смотрю в окно и вижу: катит к нам на санях тем порядком та же честная компания.
– Мы опять к вам. Где тот сундук? – спросил “следователь”.
– Здесь.
Но тут помощник резко его перебил:
– Ну, что тут долго по пустякам разговаривать, надо дело делать!
– Делать так делать! – согласился “следователь”. – Я вам напрямик скажу: наше “политбюро” завалено доносами на вас – их ВО какая кипа! – а потому с этим скверным делом надо раз навсегда покончить. Я должен произвести у вас обыск.
– Просим милости.
С этими словами я провел обоих политических деятелей в свою комнату, привел к своему рабочему столику. “Следователь” встал около него, на этот раз без шапки, и взял со стола в руки первую ему попавшуюся книгу, развернул ее и стал рассматривать, а товарищ его в то время занялся вскрытием ящиков, корзин и сундуков, что стояли по разным углам в моей комнате. Жена взялась ему помогать и давать нужные объяснения.
Смотрю я на “следователя” и глазам своим не верю: стоит он с непокрытой головой перед портретом-иконой преподобного Серафима, держит в руках и задумчиво, точно молитвенно, перелистывает тот акафист, по которому мы накануне молились Божиему угоднику. Стоит он так пять минут, стоит еще, все стоит и не двигается с места, продолжает перелистывать книгу службы преподобному. Товарищ его успел уже и третью корзину перерыть, а он все стоит в той же позе, точно втайне Серафиму великому молится… Подивился я на это и вышел в другую комнату. Следом за мной пошел и “следователь” со всей своей “спирей”. Обошел он все комнаты, зашел в церковь и к нашему старцу-схимнику, который за аналоем в это время молился, не обращая никакого внимания на вошедших, заглянул, словом, всюду, но весь обыск он производил как будто вполусне. Часа два все-таки он у нас с “товарищами” похозяйничал, но довольно миролюбиво, не так, как поначалу было.
Кончился обыск. У меня на столе стоял самовар и блюдо вареного картофеля. Приглашаю “следователя” к столу.
– Только, – говорю, – не взыщите: сахару у нас к чаю нет.
Он добродушно засмеялся:
– Ну уж увольте от такого чаю: мы не святые. Взял бумагу и на ней выдал от себя записку, что по произведенному обыску в присутствии таких-то местных властей у нас ничего подозрительного не оказалось и с нашей стороны претензий никаких не заявлено.
Прощается. Говорю ему:
– Нас хотят выселять: куда нам, старикам, в такую-то пору двигаться? Нет и средств у нас никаких – куда нам выселяться!
– На это я вам скажу, – ответил “следователь”, дружелюбно улыбаясь и протягивая мне руку, – что до весны и до теплых дней вас никто не тронет.
– А церковь нашу?
– И церковь тоже, хотя я имею поручение ее ликвидировать, и ее тоже не тронут.
– Честное слово?
– Честное слово.
Я не утерпел и от всего сердца обнял его и поцеловал. На том мы и распрощались.
Прошло три месяца или четыре. Захожу я к “народному судье” (он в то время был искренний и верный друг).
– Был, – говорит, – у меня сейчас перед вами М-х (тот “следователь”, который нас со “спирей” посетил в январе; с ним “народный судья” поддерживал вынужденную обстоятельствами дружбу). Зашла речь о вас, а он мне и говорит: я его и всех с ним живущих бесповоротно решил было вывезти в город, чтобы духу ихнего в деревне не оставалось, а его, то есть вас, решил по дороге застрелить, не нужны нам такие-то, вредны. Все уже у меня для этого было готово, подводы пригнаны, оставалось только с чего-нибудь начать – я и приступил к обыску. Подошел я к столу, снял с него первую попавшуюся мне под руку книженку, стал ее перелистывать… и вдруг в голове мысль: где я этого старика. – вас – видел?.. На меня, чувствую, как на дурака смотрят, а я все то же и то же думаю, пока не вспомнил: да я его у тебя – у меня – видел! Как вспомнил, так руки у меня и опустились…
“О, Серафим, Серафим! Велик у Бога Серафим! Всюду Серафим!..”
Богу нашему слава!
Пирятин-Заречье 8 марта 1924 года
Видение послушницы Ольги было записано в Киевском Покровском монастыре заботами матери игумений Софии (Гриневой) в апреле 1917 года. Юная Ольга была послушницей Ржищева монастыря. Если я не ошибаюсь, этот монастырь был подчинен Покровскому.
Двадцать первого февраля 1917 года, во вторник второй недели Великого поста, в пять часов утра послушница Ольга вбежала в псалтирню и, положивши три земных поклона, сказала монахине-чтице, которую пришла сменить:
– Прошу прощения, матушка, и благословите: я пришла умирать. Не то в шутку, не то всерьез монахиня ответила:
– Бог благословит – час добрый. Счастлива бы ты была, если бы в эти годы умерла.
Ольге в то время было около четырнадцать лет.
Ольга легла на кровать в псалтирне и уснула, а монахиня продолжала читать. В полседьмого утра сестра стала будить Ольгу, но та не шевелилась и не отзывалась. Пришли другие сестры, тоже пробовали будить, но также безуспешно. Дыхание у Ольги прекратилось и лицо приняло мертвецкий вид. Прошло два часа в беспокойстве для сестер и в хлопотах возле обмершей. Ольга стала дышать и с закрытыми глазами, в забытьи, проговорила:
– Господи, как я уснула!
Ольга спала трое суток, не просыпаясь. Во время сна много говорила такого, что на слова ее обратили внимание и стали записывать. Записано было с ее слов следующее.
– За неделю до вторника второй недели я видела, – говорила Ольга, – во сне Ангела, и он мне велел во вторник идти в псалтирию, чтобы там умереть, но чтобы я о том заранее никому не говорила. Когда я во вторник шла утром в псалтирню, то, оглянувшись назад, увидела страшилище во образе пса, бежавшего на задних лапах следом за мною. В испуге я бросилась бежать и, когда вбежала в псалтирню, то в углу, где иконы, я увидела святого Архистратига Михаила и в стороне – смерть с косой. Я испугалась, перекрестилась и легла на кровать, думая умирать. Смерть подошла ко мне, и я лишилась чувств. Потом сознание ко мне вернулось и я увидела Ангела: он подошел ко мне, взял меня за руку и повел по какому-то темному и неровному месту. Мы дошли до рва. Ангел пошел вперед по узкой доске, а я остановилась и увидела “врага” (беса), который манил меня к себе, но я кинулась бежать от него к Ангелу, который был уже по ту сторону рва и звал меня тоже к себе. Доска, перекинутая через ров, была так узка, что я побоялась было через нее переходить, но Ангел перевел меня, подав мне руку, и мы с ним пошли по какой-то узкой дорожке. Вдруг Ангел скрылся из виду и тотчас же появилось множество бесов. Я стала призывать Матерь Божию на помощь – бесы мгновенно исчезли, и вновь явился Ангел, и мы продолжали путь. Дойдя до какой-то горы, мы опять встретили бесов с хартиями в руках. Ангел взял их из рук бесовских, передал их мне и велел порвать. На пути нашем бесы появлялись еще не раз, и один из них, когда я отстала от своего небесного путеводителя, пытался меня устрашить, но явился Ангел, а на горе я увидела стоящую во весь рост Божию Матерь и воскликнула:
– Матерь Божия! Тебе угодно спасти меня – спаси меня!
Пала я на землю, и когда поднялась, то Матерь Божия стала невидима. Стало светать. По дороге увидели церковь, а под горою сад. В этом саду одни деревья цвели, а другие уже были с плодами. Под деревьями были разбиты красивые дорожки. В саду я увидела дом. Я спросила Ангела:
– Чей это дом?
– Здесь живет монахиня Апполинария.
Это была наша монахиня, недавно скончавшаяся.
Тут я опять потеряла Ангела из виду и очутилась у огненной реки. Эту реку мне нужно было перейти. Переход был очень узкий, и по нем переходить можно было не иначе, как переступая нога за ногу. Со страхом стала я переходить и не успела дойти до середины реки, как увидела в ней страшную голову с выпученными огромными глазами, раскрытой пастью и высунутым длиннейшим языком. Мне нужно было перешагнуть через язык этого страшилища, и мне стало так страшно, что я не знала, что и делать. И тут внезапно по ту сторону реки я увидела святую великомученицу Варвару. Я взмолилась ей о помощи, и она мне протянула руку и перевела на другой берег. И уже когда я перешла огненную реку, то, оглянувшись, увидела в ней еще и другое страшилище – огромного змия с высоко поднятой головой и разинутой пастью. Святая великомученица объяснила мне, что эту реку необходимо переходить каждому и что многие падают в пасть одного из этих чудовищ.
Дальнейший путь я продолжала идти с Ангелом и вскоре увидела длиннейшую лестницу, которой, казалось, и конца не было. Поднявшись по ней, мы дошли до какого-то темного места, где за огромной пропастью я увидела множество людей, которые примут печать антихриста, – участь их в этой страшной и смрадной пропасти… Там же я увидела очень красивого человека без усов и бороды. Одет он был во все красное. На вид он мне показался лет двадцати восьми. Он прошел мимо меня очень быстро, вернее, пробежал. И когда он приближался ко мне, то казался чрезвычайно красивым, а когда прошел и я на него посмотрела, то он представился мне диаволом. Я спросила Ангела:
– Кто это такой?
– Это, – ответил мне Ангел, – антихрист, тот самый, что будет мучить всех христиан за святую веру, за святую Церковь и за имя Божие.
В том же темном месте я видела недавно скончавшуюся монахиню нашего монастыря. На ней была чугунная мантия, которою она была вся покрыта. Монахиня старалась из-под нее высвободиться и сильно мучилась. Я потрогала рукой мантию: она действительно была чугунная. Монахиня эта умоляла меня, чтобы я попросила сестер молиться за нее.
В том же темном месте видела я огромнейший котел. Под котлом был разведен огонь. В котле этом кипело множество людей, некоторые из них кричали. Там были и мужчины и женщины. Из котла выскакивали бесы и подкладывали под него дрова. Других людей я там видела стоящими на льду. Были они в одних рубашках и дрожали от холода, все были босы – и мужчины и женщины.
Еще я видела там же обширнейшее здание и в нем тоже множество людей. Сквозь уши их были продернуты железные цепи, привешенные к потолку. К рукам и ногам их привязаны были огромные камни. Ангел мне объяснил, что это все те, которые во храмах Божиих держали себя соблазнительно-непристойно, сами разговаривали и других слушали – за то и протянуты им цепи в уши. Камни же к ногам привязаны тем, кто в церкви ходите места на место: сам не стоял и другим спокойно стоять не давал. К рукам же камни были привязаны тем, кто неправильно и небрежно налагал на себя крестное знамение в храме Божием.
Из этого темного и ужасного места мы с Ангелом стати подниматься вверх и подошли к большому, блестящему белому дому. Когда мы вошли в этот дом, я увидела в нем необыкновенный свет. В свете этом стоял большой хрустальный стол и на нем поставлены были какие-то невиданные райские плоды. За столом сидели святые пророки, мученики и другие святые. Все они были в разноцветных одеяниях, блистающих чудным светом. Над всем этим сонмом святых Божиих угодников в свете неизобразимом сидел на престоле дивной красоты Спаситель, а по правую руку Его сидел наш государь Николай Александрович, окруженный Ангелами. Государь был в полном царском одеянии, в блестящей белой порфире и короне и держал в правой руке скипетр. Он был окружен Ангелами, а Спаситель – высшими Небесными Силами. Из-за яркого света я на Спасителя смотреть могла с трудом, а на земного царя смотрела свободно.
Святые мученики вели между собою беседу и радовались, что наступило последнее время и что их число умножится, так как христиан вскоре будут мучить за Христа и за неприятие печати. Я слышала, как мученики говорили, что церкви и монастыри будут уничтожены, а раньше из монастырей будут изгонять живущих в них. Мучить же и притеснять будут не только монахов и духовенство, но и всех православных христиан, которые не примут печати и будут стоять за имя Христово, за веру и за Церковь.
Еще я слышала, как они говорили, что нашего государя уже не будет и что время всего земного приближается к концу. Там же я слышала, что при антихрите святая лавра поднимется на небо, все святые угодники уйдут со своими телами тоже на небо и все живущие на земле, избранные Божий, будут тоже восхищены на небо.
С этой трапезы Ангел повел меня на другую вечерю. Стол стоял наподобие первого, но несколько меньше. В великом совете сидели за столом святые патриархи, митрополиты, архиепископы, епископы, архимандриты, священники, монахи и мирские в каких-то особенных одеяниях. Все эти святые были в радостном настроении. Глядя на них, и сама я пришла в необыкновенную радость.
Вскоре в спутницы мне явилась святая Феодосия, а Ангел скрылся. С нею мы пошли в дальнейший путь и поднялись на какую-то прекрасную возвышенность. Там был сад с цветами и плодами, а в саду много мальчиков и девочек в белых одеждах. Мы поклонились друг другу, и они чудно пропели “Достойно есть”. В отдалении я увидела небольшую гору; на ней стояла Матерь Божия. Глядя на Нее, я неописуемо радовалась. Святая мученица Феодосия повела меня затем в другие райские обители. Первой на вершине горы мы увидели неописанной красоты обитель, обнесенную оградой из блестящих, прозрачных белых камней. Врата этой обители издавали особый яркий блеск. При виде ее я чувствовала какую-то особенную радость. Святая мученица открыла мне врата, и я увидела дивную церковь из таких же камней, как и ограда, но еще светлее. Церковь та была необычайной величины и красоты. С правой ее стороны был прекрасный сад. И тут, в этом саду, как и в прежде виденном, одни деревья были с плодами, в то время как другие только цвели. Врата в церковь были открыты. Мы вошли в нее, и я была поражена ее чудной красотой и бесчисленным множеством Ангелов, которые ее наполняли. Ангелы были в белых блестящих одеждах. Мы перекрестились и поклонились Ангелам, певшим в то время “Достойно есть” и “Тебе Бога хвалим”.
Прямая дорога из этой обители повела нас к другой, во всем подобной первой, но несколько менее ее обширной, красивой и светлой. И эта церковь наполнена была Ангелами, которые пели “Достойно есть”. Святая мученица Феодосия объяснила мне, что первая обитель была высших ангельских чинов, а вторая – низших.
Третья обитель, которую я увидела, была с церковью без ограды. Церковь в ней была так же прекрасна, но несколько менее светлая. Это была, по словам моей спутницы, обитель святителей, патриархов, митрополитов и епископов.
Не заходя в церковь, пошли далее и по пути увидели еще несколько церквей. В одной из них монахи в белых одеждах и клобуках; среди них я увидела и Ангелов. В другой церкви были монахи вместе с мирскими мужчинами. Монахи были в белых клобуках, а мирские в блестящих венцах. В следующей обители в церкви были монахини во всем белом. Святая мученица Феодосия сказала мне, что это схимонахини. Схимонахини в белых мантиях и клобуках, с ними были и мирские женщины в блестящих венцах. Среди монахинь я узнала некоторых монахинь и послушниц наших еще живых и среди них умершую мать Агнию. Я спросила святую мученицу Феодосию, почему некоторые монахини в мантиях, а другие без мантий, некоторые же наши послушницы в мантиях. Она ответила, что некоторые, не удостоившиеся мантии при жизни на земле, будут удостоены ее в будущей жизни, и наоборот, получившие мантию при жизни лишены будут ее здесь.
Идя дальше, мы увидели чудный фруктовый сад. Мы вошли в него. В этом саду, как и в прежде виденных, одни деревья были в цвету, а другие со спелыми плодами. Верхушки деревьев сплетались между собой. Сад этот был прекраснее всех прежних. Там были небольшие домики, точно литые из хрусталя. В саду этом мы увидели святого Архистратига Михаила, сказавшего мне, что сад этот – жилище пустынножителей. В саду этом я увидела сперва женщин, а идя дальше – мужчин. Все они были в белых одеждах монашеских и немонашеских.
Выйдя из сада, я увидела вдали на хрустальных, блестящих колоннах хрустальную крышу. Под этой крышей было много людей: монахов и мирских, мужчин и женщин. Тут святой Архистратиг Михаил стал невидим.
Далее нам представился дом: был он без крыши, четыре же его стены были из чистого хрусталя. Его осенял воздвигнутый как бы на воздухе крест ослепительного блеска и красоты. В этом доме находилось множество монахинь и послушниц в белых одеждах. И здесь я между ними увидела некоторых из нашего монастыря еще живых.
Еще дальше стояли две хрустальные стены, как бы две стены начатого постройкой дома. Двух других стен и крыши не было. Внутри, вдоль стен, стояли скамьи, на них сидели мужчины и женщины в белых одеждах.
Затем мы вошли в другой сад. В этом саду стояло пять домиков. Святая мученица Феодосия сказала мне, что эти домики принадлежат двум монахиням и трем послушницам нашего монастыря. Она их назвала, но велела имена их хранить в тайне… Около домиков росли фруктовые деревца: у первого лимонное, а у второго абрикосовое, у третьего – лимонное, абрикосовое и яблоня, у четвертого – лимонное и абрикосовое. Плоды у всех были спелые. У пятого деревьев не было, но места для посадки были уже выкопаны.
Когда мы вышли из этого сада, то нам пришлось спуститься вниз. Там мы увидели море; через него переправлялись люди: одни были в воде по шею, у других из воды были видны только одни руки, некоторые переезжали на лодках. Меня святая мученица перевела пешком.
Еще мы видели гору. На горе в белых одеждах стояли две сестры нашей обители. Выше них стояла
Матерь Божия и, указывая мне на одну из них, сказала:
– Се даю тебе сию в земные матери.
От ослепительного света, исходящего от Царицы Небесной, я закрыла глаза. Потом все стало невидимо.
После этого видения мы стали подниматься в гору. Вся эта гора была усеяна дивно пахнувшими цветами. Между цветами было множество дорожек, расходившихся в разных направлениях. Я радовалась, что так тут хорошо, и вместе с тем плакала, что придется расстаться со всеми этими чудными местами, и с Ангелами, и со святой мученицей.
Я спросила Ангела:
– Скажи мне, где мне придется жить? И Ангел, и святая мученица ответили:
– Мы всегда с тобою. А где бы ни пришлось жить, терпеть всюду надо.
Тут я опять увидела святого Архистратига Михаила. У сопровождавшего меня Ангела в руках оказалась святая чаша, и он причастил меня, сказав, что иначе “враги” воспрепятствовали бы моему возвращению. Я поклонилась своим святым путеводителям, и они стали невидимы, а я с великой скорбью вновь очутилась в этом мире.
Все это со слов Ольги мною было записано в Киеве 9 апреля 1817 года.
Далее повествование о видениях Ольги поведется уже со слов ее старицы матери Анны.
– В первые дни своего сна, – так рассказывала мне мать Анна, – Ольга все искала во сне шейный крест. По движениям ее было видно, что она его кому-то показывала, кому-то им грозила, крестила им и сама крестилась. Когда первый раз проснулась, говорила сестрам:
– Этого враг боится. Я им грозила и крестила, и он уходил.
Тогда решили дать ей в руку крест. Она крепко зажала его в правой руке и не выпускала его двадцать дней так, что силой нельзя было его у нее вынуть. При пробуждении она его выпускала из руки, а перед тем как заснуть снова брала его в руку, говоря, что он ей нужен, что с ним ей легко.
После двадцатого дня она его уже не брала, объяснив, что ее перестали водить по опасным местам, где встречались “враги”, а стали водить по обителям райским, где некого было бояться.
Однажды во время своего чудесного сна Ольга, держа в одной руке крест, другою распустила свои волосы, покрыла их бывшей у нее на шее косынкой. Когда проснулась, то объяснила, что видела прекрасных юношей в венцах. Юноши эти ей подали тоже венец, который она надела себе на голову. В это-то время она, должно быть, и надевала косынку.
Первого марта, в среду вечером, Ольга, проснувшись, сказала:
– Вы услышите, что будет в двенадцатый день.
Бывшие тут сестры подумали, что это число месяца и что в это число с Ольгой может произойти какая-нибудь перемена. На эти мысли Ольга ответила:
– В субботу.
Оказалось, что то был двенадцатый день ее сна. В этот день у нас в обители узнали об отречении государя от престола. Первою узнала об этом по телефону из Киева я. Когда вечером Ольга проснулась, я в страшном волнении сказала ей:
– Оля! Оля! Что случилось-то: государь оставил престол! Ольга спокойно на это ответила:
– Вы только сегодня об этом услышали, а у нас там давно об этом говорили. Царь уже там давно сидит с Небесным Царем.
Я спросила Ольгу:
– Какая же тому причина?
– Какая была причина Небесному Царю, что с Ним так поступили: изгнали, поносили и распяли? Такая же причина и этому царю. Он мученик.
– Что же, – спрашиваю я, – будет? Ольга вздохнула и ответила:
– Царя не будет, – отвечает, – теперь будет антихрист, а пока новое правление.
– А что, это к лучшему будет?
– Нет, – говорит, – новое правление справится со своими делами, тогда возьмется за монастыри. Готовьтесь, готовьтесь все в странствие.
– Какое странствие?
– Потом увидите.
– А что же брать с собою? – спрашиваю.
– Одни сумочки.
– А что в сумочках понесем?
Тут Ольга мне сказала одну старческую тайну и прибавила, что и все то же понесут.
– А что будет с монастырями? – продолжаю допытываться. – Что будут делать с келиями?
Ольга с живостью ответила:
– Вы спросите, что с церквами делать будут? Разве одни монастыри будут теснить? Будут гнать всех, кто будет стоять за имя Христово и кто будет противиться новому правлению и жидам. Будут не только теснить и гнать, но будут по суставам резать. Только не бойтесь: боли не будет, как бы сухое дерево резать будут, зная, за Кого страдают.
Я опять спросила Ольгу:
– Зачем же им разорять монастыри?
– Затем, что в монастырях люди живут ради Бога, а такие должны быть изгнаны.
– Но мы, – говорю, – и в монастыре одни других гоним.
– То, – отвечает, – не вменится, а вот это гонение вменится. При этом разговоре сестры пожалели государя:
– Бедный, бедный, – говорили они, – несчастный страдалец! Какое он терпит поношение!
На это Ольга весело улыбнулась и сказала:
– Наоборот, из счастливых счастливейший. Он – мученик. Тут пострадает, а там вечно с Небесным Царем будет.
На девятнадцатый день своего сна, в субботу 11 марта, Ольга, проснувшись, сказала мне:
– Услышите, что будет в двадцатый день.
Я думала, что это – число месяца, а Ольга пояснила:
– В воскресенье.
В воскресенье 12 марта был двадцатый день ее сна.
Затем Ольга весело сказала:
– Поедем, поедем к батюшке!
“Батюшка” – это старец Голосевской пустыни иеросхимонах Алексий, мой духовный отец и руководитель.
Затем весь разговор по этом пробуждении Ольга вела только об этом батюшке. В конце разговора Ольга и сказала:
– Поедем к батюшке в третий день Пасхи. После этого она заснула… На следующий день, в воскресенье, она опять радостно начала разговор о батюшке. Я говорю ей:
– Оля, поедем же к батюшке! Ольга вздохнула и сказала:
– Вы же написали батюшке два письма.
Так это и на самом деле было, хотя Ольга об этом знать не могла.
Потом она продолжала:
– Ожидайте, ожидайте: скоро будет ответ. Опять, немного погодя, говорила:
– Матушка, матушка! К нам батюшка скоро приедет.
Это она в радостном настроении повторяла несколько раз. Бывшие тут сестры подумали, что это она про нашего монастырского священника отца Всеволода говорит, и слышу, они между собой говорят:
– А, должно быть, Ольге и в самом деле открыты такие тайны, которых другие не знают.
Тут потянуло меня взять крест моего старца отца Алексия. Села я поодаль от сестер, сложила руки на груди и как бы ушла в себя, отрешившись от всего окружающего. Настала полная тишина. Это было в 11 часов вечера. Через несколько минут я пришла в себя. Ольга не спала. Я ей говорю:
– Скоро отец Всеволод придет.
– Ну да, отец Всеволод!
Точно хотела мне сказать, что не в нем дело, и вслед уснула.
На другое утро я получила телеграмму, что накануне вечером отец Алексий скончался. Когда Ольга проснулась, то сказала, что накануне, около 11 часов вечера, она видела отца Алексия, как он вошел к нам в келию, благословил всех и молча удалился. На двадцать четвертый или двадцать пятый день сна Ольги я, вернувшись от вечерни, застала Ольгу пробудившейся. Окружавшие ее постель сестры встретили меня словами:
– Анюта, ожидай гостей: Ольга говорит, что гости будут.
Ольга повторила то же и просила позвать регентшу. Спрашиваю Ольгу:
– Какие ж то будут гости?
– Увидите какие!
Я не поняла, что это за гости, и подумала, что надо в келий место освободить для них. Говорю, чтобы часть сестер вышла. Ольга улыбнулась и сказала:
– Будь хотя полна келия сестер, все равно они не помешают: гостям место будет.
Тут мы поняли, что будут к нам не земные гости, и стали спрашивать, увидим ли мы их. Ольга ответила:
– Не знаю. Когда придут, почувствуете.
Тут вид ее лица изменился, точно она увидела нечто таинственное, великое, молча обводила она келию глазами. В таком состоянии она находилась минут двадцать. Я почувствовала в это время как бы толчок в сердце: меня охватил какой-то еще никогда не испытанный благоговейный страх, и я заплакала, чувствуя присутствие в келий кого-то не из здешнего мира. Сестры, бывшие в келий, шепотом творили молитву, некоторые плакали… Потом из слов их видно, что они в то же время испытывали то же, что и я, когда плакали, но никто, как и я, ничего не видел и не слышал.
Минут через двадцать лицо Ольги приняло обычное выражение и она залилась слезами. Успокоившись немного, на расспросы сестер ответила:
– Как же это? Ведь я думала, что вы видите и слышите пение. А гости-то какие были: сам святой Архистратиг с Небесным своим Воинством!
– Что же пели они? – спрашиваем.
– Они пели “Тебе Бога хвалим”, и как пели-то!.. С ними были и блаженные старцы, и святые молитвенники, к которым мы прибегали с матушкой Анной и имена которых были у нас записаны на псалтирном чтении. Святой Архистратиг Михаил перекрестил всех присутствующих и окропил святой водой…
Пять минут спустя Ольга опять заснула.
В субботу на первой неделе Великого поста Ольга причастилась, как и все сестры нашей обители, двадцать первого февраля она уснула. На другой день ее соборовали, но она этого почти не помнит; помнит только приготовление к таинству священников, но самого соборования не помнит, говоря, что ее в то время здесь не было, что она уходила со своим путеводителем.
На четвертый день, в пятницу, в 11 часов вечера она просыпалась. После краткой исповеди ее причастили. Перед причащением я была в страхе, боясь, чтобы она не заснула когда придет священник, но она сказала:
– Не бойтесь: я дождусь!
Потом по пробуждении Ольга говорила, что только этот раз она видела батюшку.
Уходя ночью после причащения, батюшка сказал, что в воскресенье ее надо будет снова причастить, это исполнит другой очередной священник. Когда в этот день пришел священник, Ольга спала, зубы ее были стиснуты и священник причастить ее не решался. Я взмолилась Господу, и Ольга открыла рот. Батюшка ее причастил. Когда потом Ольга проснулась и я об этом ей рассказала, то она мне сказала:
– Не бойтесь, я всегда буду открывать рот. Я спросила ее:
– А слышала.ли ты, как приходил и причащал тебя батюшка?
Она ответила, что его не видала и ничего не слышала, а видела Ангела, читавшего молитву пред причащением, и тот же Ангел причастил ее.
Когда об этом сообщили отцу Всеволоду, он решил причащать Ольгу и Преждеосвяшенными Дарами. Так и сделали и стали с тех пор причащать спящую по средам, пятницам, а также по субботам и воскресеньям весь Великий пост до полного ее пробуждения. И всякий раз, как читали молитву “Верую, Господи, и исповедую”, Ольга постепенно открывала рот и к концу молитвы открывала его вполне. Иногда и после причащения открывала его, чтобы из рук священника принять две-три лжицы воды.
В Великую Пятницу она проснулась на несколько минут и сказала:
– Завтра причастите меня в шесть часов утра. Я завтра в этот час должна прийти.
Я передала об этом отцу Всеволоду и он согласился.
Проснувшись в Великую Субботу, чтобы идти к утрени, отец Всеволод внезапно увидел как бы молнию, блеснувшую и осветившую ему лицо, и услышал голос:
– Пойди приобщи спящую Ольгу.
И когда батюшка стал раздумывать, что бы это значило, он вновь услышал тот же голос, повторивший те же слова.
После утрени, еще раньше шести часов, отец Всеволод причастил Ольгу. Она все еще спала. Через час после того она проснулась, приподнялась на кровати, посидела на ней несколько минут в полузабытьи, потом сразу встала с постели и начала ходить по келий, хотя была слаба и, видимо, истощена. Во все время своего сна она, кроме причастия и нескольких лжи ц воды, ничего в рот не брала.
В Великую Субботу она целый день более уже не ложилась, а к половине двенадцатого ночи оделась и пошла к Светлой заутрени. Во все время пасхального богослужения она не садилась, хотя сестры и уговаривали ее присесть, и так простояла всю заутреню и обедню.
После того она долго была в большой задумчивости и тоске и плакала. На расспросы сестер отвечала:
– Как мне не плакать, когда я уже больше не вижу ничего из того, что я видела, а все здешнее, даже и то, что прежде было мне приятно, все мне теперь противно, а тут еще эти расспросы… Господи, скорее бы опять туда!
Когда потом записывалось в Киеве бывшее с Ольгой, то она сказала:
– Пишите не пишите, все одно – не поверите. Не то теперь время настало. Разве только тогда поверят, когда начнет исполняться что из моих слов.
Таковы видения и чудесный сон Ольги.
Эту Ольгу и старицу ее я видел, с ними разговаривал. На вид Ольга самая обыкновенная крестьянская девочка-подросток, малограмотная, ничем по виду не выдающаяся. Глаза только у нее хороши были – лучистые, чистые, и не было в них ни лжи, ни лести. Да как было и лгать и притворяться пред целым монастырем, да еще в такой обстановке – почти сорок дней без пищи и пития?!!
Я поверил и верю.
“Аминь, глаголю вам: иже аще не приимет Царствия Божия, яко отроча, не имать внити в не” (Лк. 18, 17).
4 марта
Опять в Оптикой. Из скитских записок Льва Кавелина (В монашестве Леонид, впоследствии архимандрит и наместник святой Троице-Сергиевой лавры): именины старца отца Макария; кончина Ф.Я. Тарасова; кончина монахини; слепец и безногий; присоединение к Православию К.К. Зедергольма; самоубийство сребролюбца; комета; святой Иоанн Дамаскин о кометах
От ужасов и страданий всемирной войны, грохочущей над миром пушками кровавого кайзера и его противников, от военных слухов, от глада, мора, от землетрясений по местам – от всего того “начала болезням”, которое видится мне – да и одному ли мне – в современных событиях, уйдем с тобою, читатель дорогой, туда, где все еще по-прежнему струит свои прозрачные воды тихая Жиздра, отражая в зеркале их и бездонно-голубое оптинское небо, и вечнозеленый свод соснового оптинского бора.
Передо мною пожелтевшая тетрадь скитских записок. Записки эти по послушанию вел послушник из образованных, именитых дворян Лев Александрович Кавелин. Записки эти помечены 1853 годом и последующими. Выписываю из них только то, что может иметь общехристианский интерес и значение.
19 января 1853 года
“День Ангела батюшки отца Макария (Старец Оптиной пустыни, в миру Михаил Николаевич Иванов, из дворян Дмитровского уезда Орловской губернии, родился 20 ноября 1783 года, скончался 7 сентября 1860 года. Старчествовал в Оптиной пустыни совместно со старцем Леонидом (в схиме Львом) с 1836 года по октябрь 1951, когда скончался старец Леонид. По кончине старца Леонида и до самой своей смерти нес единолично великий и святой подвиг старчествования в обители). Обедню совершал в скиту чередовой иеромонах отец Гавриил. После обедни соборный молебен о здравии батюшки совершали скитские иеромонахи отец Пафнутий, отец Амвросий, отец Гавриил, иеродиакон отец Игнатий; монастырские иеромонахи отец Тихон (духовник батюшки), отец Евфимий и иеродиакон отец Сергий. После обедни все присутствовавшие в церкви – скитская и монастырская братия – были приглашены на чай. Каждый спешил принести свое поздравление любимому старцу, а занимающиеся рукоделием присоединили к сему что-либо от трудов своих. Гостиницы были наполнены гостями, преимущественно монахинями разных обителей, прибывших и издалека (одна приехала из Великолуцкого монастыря – шестьсот верст от Оптиной) принести свое поздравление тому, кто отечески руководит ими на пути спасения, с самозабвением и дивным искусством оспаривая у врага каждый шаг на поле духовной битвы, как пастырь добрый, всегда готовый положить душу свою за ближняя своя – за чад своих.
Обед был у отца игумена, в нем принимали участие семейства окрестных помещиков, приехавшие поздравить достоуважаемого старца. До пятнадцати человек братии перебывало в течение дня в келиях батюшки. Все были угощены чаем.
Как благотворна христианская любовь и как нравится сердцу все, что на ней основано! Призвал бы я посмотреть на подобный сегодняшний праздник одного из тех, которые требуют от ближнего должного к себе уважения, и они бы собственными глазами убедились, какая бесконечная разница между тем, что делается по долгу и по любви.
14 марта
Отец Каллист, возвратившись из Орла, привез известие, что говевший у нас в скиту Ф.Я. Тарасов в среду 11 марта скончался о Господе, удостоившись перед кончиною вторичного напутствия Христовых Таинств. Мир тебе, человек Божий! Все, знающие покойного, искренно пожалеют, что одним добрым человеком стало меньше на земле, и порадуются о мирной христианской кончине, свидетельствующей, яко благ и милостив Господь.
О кончине Ф.Я. Тарасова пишет старцу друг почившего Василий Васильевич Сотников:
“М. С. О. н. Г. И. X. С. Б. п. н. г. (Начальные буквы молитвословия “Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас грешных”) Святейший батюшка! Разлука с Феодором так поразила меня, что тоска и скорбь моя с каждым днем делается сильнее, болезнь сердца ощутительнее. Кто заменит здесь лишение его? Ко вознаградит мою потерю? Великую часть моего сердца отделил Феодор и понес с собою в вечность… Но благословен Господь! Слава Ти, Господи, сотворившему сия вся Промыслом Своим и по воле Своей!..
Болезнь Феодора была в высшей степени поучительна и назидательна для нас; его кончина мирна и блаженна; погребение светло, торжественно. Не смею проникать в тайну вечной жизни покойного, но что Господь удостоил его извещения о переходе в будущую жизнь, сие свидетельствую сими словами блаженного:
– Братец! О, как мерзка для меня здешняя жизнь, как отвратительны все блага земные, все земные отличия человека!.. Иду к Тебе, Господи, иду!
Так всю дорогу из Оптиной в Орел вопиял больной в самых лютейших пароксизмах своей болезни.
В понедельник девятого числа мы приехали в Орел в 10 часов утра. Явились три доктора. Больному сделалось лучше, пароксизмы унялись, но живот опух.
– Васенька! – говорит он мне, – завтра, если буду жив, хочу особороваться маслом. Слышишь ли? – это моя воля. Иду ко Господу!
Десятого числа особоровался маслом и простился со всеми. Романа – кучера с семейством – отпустил на волю. Тут мы семейно, вчетвером, в присутствии Ивана Михайловича посоветовавшись, решились сделать еще консилиум и пригласить четырех докторов. Сделать о сем предложение больному предоставлено мне и Михаилу Феодоро-вичу. Лишь только помянули ему о докторах – откуда взялись силы – встал, сел и самым выразительным голосом произнес:
– Вася, брат! Отвергаю все… Ко Господу иду!
– Мы вас не держим, но просим, чтобы вы послушанием успокоили нас и по отшествии вашем не оставили тоски о том, что мы вам предложили дозволенные, возможные средства, а вы их отвергнули.
– Чтобы успокоить вас, слушаюсь. Делайте со мной, что хотите, но завтра, если буду жив, еще хочу приобщиться Святых Тайн… Можно ли это будет после лекарства?
– Можно.
Явились доктора. Пошла суетная работа… Наступило одиннадцатое число – день отшествия праведника. С пяти часов утра перестали давать лекарство. В девятом часу Феодор Яковлевич исповедался и приобщился Святых Тайн. В десятом часу выпил с нами две чашки чаю, походил по комнате, благодарил меня за участие и просил сегодня еще побывать у него. В конце пятого часа пополудни, до кончины своей за пять минут, из кабинета покойный прошел в столовую, потом в гостиную, спросил про меня, приехал ли я или нет. Потом сказал:
– Дурно мне!
Михаил Феодорович взял его под руку, провел в спальню, посадил на кровать. В ту же минуту больной потребовал кресте мощами. Ему подали. Перекрестился, поцеловал крест, взял его в руки, благословил всех и сказал:
– Простите меня. Отхожу ко Господу моему! Устремив взор свой горе, крест приложил колбу и мирно, тихо отошел ко Господу. Через три минуты я приехал, но застал уже тело его мертво и бездыханно… Но, батюшка родненький, в эти минуты как описать вам мое утешение? Мысль – Феодор со Христом и у Христа теперь вечно царствует, блаженствует – исполнила душу, дух и все существо мое. Но что больше всего восхитило душу мою, это то, что сороковой день по исходе его придется на девятнадцатое апреля – на первый день Пасхи Христовой… На третий день было погребение. Тело было теплое, запаха ни малейшего. Предводители губернский, уездный, множество чиновников – все в мундирах. Певчие архиерейские, весь хор – словом, это было торжество благочестия Феодора, а не похороны.
Кто как живет. Тот так и умрет.
Феодор оставил нам великие уроки жизни, пользовал исходом своим в вечность, утешил и погребением.
Помолитесь, родимый батюшка, чтобы жизнь Феодора привилась к моей омертвелости, чтобы его пламеневшая ко Господу душа возгрела оледенелую мою душу, окаянную и грешную”.
Июнь
…В письме от 25 мая монахиня Севского девичьего монастыря Афанасия Николаевна Глебова пишет:
“Нынче скончалась сестра Наталии (которая жила у матери Мелетии) Татьяна Феодоровна блаженною кончиною. Была она долго больна и чахоткою покончила дни свои. За три часа до кончины забылась, потом, очнувшись, радостно засмеялась и рассказала при ней бывшим:
– Я видела Господа. Господь показал мне мой дом, такой прекрасный, что и выразить невозможно. И когда я у Господа спросила, за что мне такой хороший дом, то Господь сказал:
– Ты принимала и успокаивала нищих и странных, и милостыня твоя помянулась и уготовила тебе сие жилище.
Еще говорила она своему мужу:
– Я видела и твой золотой дом, который приготовлен тебе за два золотых, которые ты по просьбе моей подал нуждающемуся.
И еще говорила, что она теперь совсем здорова, спешит домой, а сюда вернулась лишь для того, чтобы сказать, как ей там хорошо, что ей никого и ничего не жаль, что здесь все дурно и гадко,а хорошо лишь там. Просила одеть ее в хорошее платье, а то там, при Господе, в худой одежде нельзя быть. Говорила, что в конце обедни надо будет ей идти. И точно: в конце ранней обедни тихо и спокойно отошла в вечность. Говорят, что лицо ее было так спокойно и весело, точно она улыбается.
Как утешительно и умилительно было слышать о таковом извещении перед кончиной! За отшедшую можно быть спокойным, и оставшуюся малолетнюю дочь, конечно, она скоро возьмет к себе, ибо, по видению, говорила, что за Людочку свою она не тревожится, ибо уже оставила душу ее в прекрасном доме вместе с другими детьми. Мужу своему она говорила:
– Пожалуйста, не оставайся здесь долго: дом этот гадкий; спеши туда, где так хорошо, где несравненно лучше здешнего. Я буду за вас молиться, чтобы вы поскорее туда пошли.
8 августа
Причащались в скиту замечательные убогие – безногий и слепец; слепец безногого носит на себе.
Оба орловские. Живут в союзе любви не по одной нужде, а, как слышно, по Богу…
На днях прибыл в обитель некто г. Зедергольм (Константин Карлович Зедергольм, впоследствии скитский иеромонах отец Климент. Известен по монографии К. Н.Леонтьева), намеревающийся принять православное исповедание веры. Он сын бывшего немецкого пастора, который отставлен от должности (не могу иначе выразиться, ибо считаю лютеранского пастора не более как профессором теологии, читающим публичные лекции в кирке) за то, что открыто увешевал немцев не принимать православной веры. Молодой Зедергольм окончил курс наук в Московском университете, особенно занимался греческим языком, и по принятии греко-российского исповедания веры намеревается поехать в Грецию для филологических занятий.
На вопрос, что его отвратило от лютеранского исповедания, он очень просто и умно ответил вопрошавшему (отцу Иоанну Половцеву) (Впоследствии архиепископ Литовский и Виленский Ювеналий).
– Меня ничто не отвратило, но ничто и не привлекало. Я всегда был недоволен сухостью и безжизненностью нашего вероисповедания, которое ничего не дает молодому сердцу, естественно жаждущему сочувствия, участия, оживления, указания прямой, верной цели будущего. Например, у нас в Москве два пастора: один человек совершенно светский, в проповедании фразер, не более; другой начинает и кончает криком – сначала как бы пугает этим, а под конец надоедает. Да и какое место в церкви рассуждениям? Я могу наслушаться их вдоволь в университете. От религии желательно иное, лучшее, чем сухие бесплодные рассуждения.
Константина Карловича направил в нашу обитель Иван Васильевич Киреевский (рекомендовавший ему прежде обратиться к одному из московских священников для ознакомления с догматами Православия, кажется, к Терновскому). Отец-пастор долго уговаривал его сперва отложить это дело до его смерти, потом на два года, потом на год и, наконец, на полгода, но молодой Зедергольм на все это отвечал отказом, чувствуя настоятельную потребность немедленно удовлетворить требованиям своего духа. Немало также поразила его та холодность, которую он встретил в других своих единоверцах, когда объявил им о своем решении.
– Мне, – говорил он, – казалось весьма естественным, что они с горячностью будут отвлекать меня от сего, и, признаюсь, я даже втайне желал сего, но вышло напротив, и это еще более показало мне шаткость наших религиозных убеждений.
9 августа
Сего числа найден за скитом в лесу удавленник, козельский мешанин Глеб Николаев. Он был человек холостой, трезвый; лет ему было тридцать пять.
Несколько лет он собирался вступить в монастырь, но смущался тем, что, раздав малый свой капитал в проценты, не мог собрать его. Главная же сумма была им отдана дяде-раскольнику, который грозил Глебу, что если он не откажется от мысли вступить в монастырь, то он не отдаст ему денег. Этим-то, как надо полагать, он и смущал сердце Глеба, который от страсти сребролюбия и пришел к отчаянию в своем спасении, ибо, как признавался родным за несколько дней до смерти, впал в страшную хулу… Впрочем, приступит человек, и сердце глубоко: нет сомнения, что милосердие Божие не прежде оставляет человека, как испытывает все меры к его спасению, совместимые с Божественным правосудием.
Повесился Глеб на высоком пне в нескольких саженях от скита, на северной стороне в порубежном овраге, тому назад три недели (последний раз был в монастыре 22 июля). Сегодня началось следствие по сему делу, которое, как все следствия земской полиции, никогда не имеют прямою целью ближайшим путем открыть истину. По следствию, Глеб оказался умершим от неизвестной причины и погребен в обители.
13 августа
Сего числа Константин Карлович Зедергольм присоединился к Православию. Во избежание соблазна для новообращенного батюшка (отец Макарий) заплатил соборному причту десять рублей из своих средств за присоединение.
11 ноября
В первый раз усмотрели новую комету. Она величиною с утреннюю звезду, к концу имеет несколько ветвей, светит весьма ярко, попеременно из бледно-зеленого цвета переливаясь в бледно-огненный цвет. Видна по направлению к юго-востоку… Без всякого суеверия смотря на сие небесное знамение, нельзя не подумать, что оно, как и во все исторические эпохи, служит предзнаменованием грозных событий грядущих…”
Святой Иоанн Дамаскин кометы прямо называет вестниками событии…
С. Нилус
В дни разгрома тысячелетнего здания православно-русского духа, в грозные дни, нами переживаемые, дух неверия, вольнодумства, нового язычества, дух антихриста, грядущего в мир, употребляет тысячи всевозможных средств для торжества своей пропаганды: печать во всех ее видах, различные общества и союзы и, наконец, забастовки всех видов и именований – все это непроницаемой тучей, вырвавшейся из преисподней, охватило самое дыхание русского православного человека, грозя задушить его насмерть.
Очевидно, что против такой силы недостаточно просто научных доказательств или обращения к смыслу пережитой нами тысячелетней истории, обнажающей всю гибельность того пути, на котором нас насильно и стремительно толкают в пропасть, из глубины которой нам нет и не может быть возврата. Если дух антихриста, которого теперь ожидает бессознательно и в редких случаях сознательно почти все верующее человечество, выступает против вас крепко сплоченной и единодушной армией своих представителей, то и вера Христова должна на борьбу с ними выставить такую твердыню, которая могла бы противостоять всей совокупности адских сил, восставших вкупе на Господа и на Христа Его: она должна действовать тем же испытанным оружием, которым она действовала в жестокие и страшные дни языческого и иудейского гонения на Церковь Христову на утренней заре христианства.
Оружие это – нравственное превосходство святости и смиренной любви исповедников Христа перед современными нам служителями диавола и антихриста. Это оружие в чистых руках, как и самое имя Христово, как крест Христов, одно может одолеть всю несметную рать сил адовых, ополчившихся на нашу Родину, тысячелетнюю носительницу духа истинной Христовой, апостольской веры.
Без этого оружия нет средств борьбы, без него поле великой битвы роковым образом останется за врагами.
Это хорошо известно преисподней, и стрелы ее, разженные сатанинской ненавистью, всей силой своей направлены теперь на эту сторону христианского духа. Кому из скорбных наблюдений современности не очевиден поход, предпринятый против христианской нравственности? Стоит только взглянуть на объявления о мирских зрелищах, начиная с театров и кончая кинематографами, на рекламы издаваемых в головокружительном количестве развратных книг, газет и брошюр, безнравственных видов и карточек, чтобы ясно видеть цель, которую строго систематически преследует дух известного противника истины.
“Горе живущим на земле и на море! Потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что времени ему останется уже немного…” (Откр. 12,12).
И вот, развращая христианский мир, дух действующего в мире антихриста, одолев мирян, набросился яростно на последний оплот христианской нравственности и чистоты, хранителями которой призваны быть православные монастыри. История ближайших к нам по времени тайных и явных нападений на эти твердыни православия хорошо известна христианам, еще не отпавшим от веры отцов. Клевета и издевательство, щедро рассыпаемые в газетах и журналах на монашество самозванными радетелями человеческого благоденствия, еще свежи в нашей памяти, и нанесенные ими раны общечеловеческой совести не только не заживают, но ежечасно растравляются.
Тяжесть обороны усугубляется тем, что по существу призвания и служения истинного монашества оно поставлено в невозможность защищаться тем же оружием, которое против него поднимается: оно должно молчать, зная и веруя, что чем больше над его смиренно-склоненной головой изливается бешенства, ругани и поношений, тем большая собирается мзда на небесах поносимых, тем более им веселия и радости.
“Аще, – говорит Спаситель, – от мира бысте были, мир убо свое любил бы; якоже от мира несте, но Аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир”. Не было от века слыхано, чтобы люди, отказавшиеся от мира, были любимы всем миром, чтобы на них не клеветали и не злословили.
Отказываясь от этой ненависти, восставая на самозашиту, добиваясь любви от мира, служа и прислуживаясь ему мирским деланием – воспитанием и образованием детей мира, мирской благотворительностью и всем тем, чего от него лицемерно требует дух времени, и таким образом забывая единое на потребу – очищение своего сердца, отдаваясь всецело внешнему деланию, монах изменяет своему существеннейшему призванию, не хочет быть последователем Христа, отказывается от несения креста, взятого им добровольно, отрекается от стяжания Царства Божия внутрь себя, меняя его на царство князя мира сего, века сего.
Пусть бранят его, пусть поносят и в газетах, и в собраниях, в домах и на уличных перекрестках, пусть обливают его помоями, изливающимися из сердца поносителей, – ему не стоит обращать внимания на грязь и пустоту этой бешеной болтовни, пусть ее читают и ею увлекаются те, кому ругань эта по сердцу, ведь разумный и трезвый человечек не остановится на улице перед пьяным оборванцем, который станет ругать его только за то, что он не так замаран грязно, как этот пропойца.
“Не отвещай безумному, – говорит премудрый, – да не подобен ему будеши, но отвещай безумному по безумию его, да не явится мудр у себе” (Притч. 26, 4 – 5). Эта мысль премудрого в отношении к поднятому вопросу удивительно верна, и единственно убедительным ответом безумию хулителей монашества может быть только, как мы и говорили выше, нравственное превосходство святости отрекшихся от мира перед теми, кто из мира возвышает голос клеветы, кощунственной хулы на это святейшее установление деятельного христианства.
Монашеское житие в принципе есть житие равноангельское, а Ангелы живут в сфере, недоступной для клеветы и человеческого злоречия; и пока цвет монашества, который еще в наше скудное любовью и верою время благоухает святыней деятельной ангелоподобной любви, пока цвет этот еще не осыпался с древа Христовой Церкви и не лишился способности плодоносить для духовного окормления Святой Руси Серафимов Саровских, Леонидов, Макариев, Амвросиев, Иларионов Оптинских, до тех пор не страшны монастырям нашим все хулы, вся ненависть, все нападения антихристова мира на эти твердыни Православия.
Когда на Христа Господа клеветали перед Пилатом, Он молчал и Пилат предал Его на распятие; но Христос воскрес, и кто может сравниться с Ним в славе?
И монашеству нет иного пути, кроме крестного, нет и оружия защиты иного, кроме молчания на все изветы и строгого исполнения каждым из монахов тех обетов, которые он возложил на себя свободным изволением.
Не словом, а делом должно защитить себя монашествующее братство, да видят люди добрые дела его и прославят Отца Небесного.
Нам возразят: а где добрые дела эти? Мы их не видим!
Ответим: прииди и виждь!.. Спроси у голоса своей божественной совести, не подскажет ли она тебе, в чем заключена тайна монашеского православного труда, тайна его влияния на жизнь верующего и даже уклоняющегося от веры человека; не объяснит ли она тебе поставленного мною вопроса: для чего и кому нужны монастыри? И если голос совести твоей скажет тебе вещее слово свое, то поймешь ты и то, для чего и кому нужно их уничтожение.
Тебе указывают и ты сам видишь отбросы монашества: по этому отребью, которое есть и, увы, всегда было, ты берешь на себя право суда над всем монашеством, которого не видишь и не знаешь. Но взгляни когда-нибудь на быстротекущую реку – что видишь ты на ней? По ней плывут, уплывают в далекое море всякие отбросы; но прозрачна и чиста глубина ее живительной струи. Не раскрывай перед нею насильнической рукой подземной бездны, чтобы из-за сбросов, которые должна поглотить она, не иссяк навеки источник животворный: чем утолишь тогда ты свою жажду, чем освежишь запекшиеся уста?..
– Ваше боголюбие, – говорил некогда одному боголюбцу преподобный Серафим, – без праведников не стоять ни граду, ни веси. И если вы блазнитесь, что ныне плохо живут и монахи, и мирские, то знайте, что и между ними есть сокрытые от взоров ваших благоурождающие Господу. Скажу вам: если стоит кладбище, то состояние его терпит Господь из-за святых мощей сокрытых в нем угодников Божиих. Так и о градах, и о весях, и о монастырях, и о всей земле разумейте!
Запомни же, покрепче запечатлей это в своей памяти, православный мой читатель!
Оптина пустынь
Предрождественские дни 1908 года. Сергей Нилус
Впервые опубликовано: “На берегу Божьей реки” (Сергиев Посад, 1911).