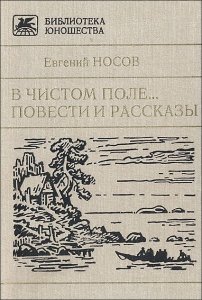
Туман по-осеннему колюч, студен, хватал за руки и был так плотен, что Устин не видел даже своего стада, а лишь различал шумное сопение коров, обрывавших траву. Парусиновый картузик на нем отволг и потемнел, сизым сделалось и остроносое лицо, поросшее невесомой, редкой бородой, сквозь которую видны были пуговицы рубахи. Опираясь на батог, Устин слушал стадо и время от времени, шмурыгая по траве сапогами, не торопя скотину, переходил на новое место.
Из тумана вынырнул Валерка, долговязый подпасок, переросший за лето Устина почти на целую голову.
— Во, насунуло! Носа не видно.— Он потер красные озябшие руки.
— Дак ить Ильин день проше-е-ел! — прокричал Устин с бодрой готовностью поговорить.— Самое теперь туманы пойдут.
Валерка достал блескучий портсигар, откинул перед Устином крышку с тремя выдавленными на ней богатырями. Тот долго копался, пытаясь подцепить корявыми дрожащими пальцами сигарету, но, так и не сумев вынуть ее из-под резинки, махнул рукой.
— Мне ить нель-зя! Врачи начисто запретили!
— И по лампадику нельзя?
— Не-е! — замотал бородой Устин.
— А то — есть! — Валерка, хитровато сощурясь, хлопнул по дерматиновой сумке, висевшей через плечо.— Нынче ведь праздник. На деревне гулять будут.
— Какой такой?
— День механизатора.
— А-а… Ну-ну… Дак и верно: вчера по радио объявляли. Только мне теперь нельзя. Отпился.— Устин виновато засмеялся.— Все! Выбрал весь свой лимит. Врачиха сказала: — Дышать — дыши, а больше на этом свете ничего не положено. Вот как!
— А я думал — все: отбросишь копыта.
— Да не-е пока… Выцарапался. Считай, весь желудок обрезали,— засмеялся Устин.— Штаны не держатся. Хоть к пупку пристегивай!
Устин не говорил, а выкрикивал Валерке, будто глухому. Кричал, должно быть, оттого, что стоял туман, и эта кромешная, промозглая слепота сама по себе заставляла напрягать голос, а может, кричал и потому, что был он радостно возбужден первым своим выходом в луга. Пролежал он в больнице с самого апреля, увезли еще до травы, не чаял уже вернуться в свои Кулики, и теперь ему был весь белый свет внове. Он живо ощущал сквозь чуткие резиновые сапоги холодок мокрой травы, приятен был ему и грубоватый уют тяжелого брезентового дождевика с его застарелым псиным запахом и даже радовался батогу, давнишней своей палке, захватанной руками до костяного блеска, которая все лето простояла в углу за печкой вместе с бабкиными ухватами и чапельниками.
— Это, говорит врачиха, все от сухой пищи получилося! Надо, говорит, горячее потреблять! А иде оно горячее — поле да поле! — смеялся Устин.— Молодая, рази она понимает наше? Картох напекешь — то-то брюхо и погреешь! — Устин ласково глядел на Валерку, радуясь ему и тому, что Валерке можно выпить по случаю праздника.— А и выдурился ты, гляжу! Ерой стал! Девок, поди, щупаешь, когда в клубе кино пущают, а?
Валерка закраснел оттопыренными ушами.
— Во флот попадешь, помяни мое слово, во флот!
Постояв, они продвинулись немного вслед за стадом. Завидневшаяся невдалеке черно-рябая корова, вытянув морду, задумчиво уставилась на Устина.
— Сорока, Сорока!— позвал он, узнавая корову.
Сорока потянулась к нему, обнюхала рукав дождевика, негромко мыкнула, обдав запахом утробного травяного варева.
— Ты гляди, а? — счастливо удивился Устин.— Не забыла!
Он принялся шарить по карманам, привычно отыскивая корку хлеба, но, не найдя, поерошил корове кудлатую челку, осыпанную водяной пылью.
— Стало быть, ходишь еще, а, Сорока? У, дуреха! А я вот, вишь, было отбегался… Что поделаешь… Ну, ходи, ходи, глупая!
Валерка подхлестнул корову кнутом, та взбрыкнула и вмиг исчезла из виду, растаяла в тумане.
— Не балуй зря,— укорил Устин.— Не обижай…
Туман вдруг ожил, заклубился, закипел румяно, и Устин понял, что взошло солнце. Подперев грудь палкой, он смотрел в легком стариковском забытьи в ту сторону. Стадо тоже почуяло солнце: коровы перестали щипать, тронулись брести все разом навстречу свету, ревя с протяжной ленцой и оставляя на сером росном лугу сочные густо-зеленые полосы, и там, где только что паслись коровы, туман остро пах скотиной и парным молоком.
Наметанным ухом Устин вскоре определил, что стадо вышло к речке Ивице: послышался хруст осоки, чавканье воды под копытами.
Забирая левее, чтобы стать во фланг, за последней коровой, они и сами вышли к реке, дымным провалом обозначившейся внизу, под берегом.
— Ой, ктой-то?!
У воды, в парном куреве, неясно мелькнуло нагое тело, затрещали лозняки.
— Ты, что ль, Татьяна? — догадался Устин.
— Напугалась-то как! — отозвался из кустов женский голос.— Думала, рыболовы.
— Куда бежишь? То ли на праздник?
— В Кулики. Говорят, артисты приедут.
— Дак пошто рано-то так?
— К девчатам забегу. Платье хочу укоротить. Дядь Устин… шел бы ты… Одеваться стану. Валерка, чего вызрелся, дурак…
— Нужна ты мне.— Валерка, волоча кнут, вразвалку ушел по берегу.
— Ты что ж, гляжу, плыла? — спросил Устин.— Мать-то чего не перевезла?
— С малым нянчится.
За невидимой Ивицей, за розовой клубящейся ватой тумана плакал ребенок. В его хныканье вплетался торопливый говорок Татьяниной матери — Нюрки:
— Ну, миленький, ну, Павлушенька… Да что ж ты так? Или зубки режутся?
— Дак сама-то и переехала б,— сказал Устин.— Вода небось ледяная.
— А ну ее, лодку, крутиться с ней. Еще рыболовы угонят. Тут под берегом только и глыбко осталось. По коленки всю речку шла. Бр-рр!! Роса какая жгучая! Дядь Устин, иди уж…
— Иду, иду,— готовно заспешил Устин.
Он отошел на несколько шагов. Валерка чуть подальше лежал на боку, постукивал по сапогу кнутовищем.
Татьяна, прижимая к животу ком белья, выбралась из мокрых кустов и, маяча округлым телом, принялась одеваться. Устин глядел, как она, облитая процеженным заревым светом, отвернувшись, набрасывала на шею собранную хомутом нижнюю рубаху, как затем торопливо обдергивала ее, липкую, неподатливую, по мокрой спине, и удивлялся тому, как быстро выросла Татьяна: давно ли бегала вот эдаким поганышем, а уж вон какая… Глядел, смиренно радуясь Татьяниной красоте, ее молодой, свежей, только что свершившейся взрослости. И, посматривая на нее так, припоминал по ней свое молодое, далекое, что будто сон: вроде и было и не было…
— Муж-то как? — спросил он, вспомнив, что у этой девочки есть уже муж.— Пишет чего?
— Ой да ну его! И думать не хочу. Куда-то укатил на Север, так и концы в воду. Ни одного письма.
— Напишет еще. Оглядится — и напишет.
— Больно нужен. Небось другую уже нашел… А ты, Дядь Устин, значит, опять вышел?
— Да похожу, погоняю еще маленько, пока ноги носют.
— Шел бы ты уж на пенсию. После такой-то операции.
— Дома и хуже,— засмеялся Устин.— А тут воля. Вроде как и опять жилец.
Татьяна оделась, повязала косынку и заспешила босая, разбрызгивая траву, будто зеленую воду. Оперлись на батог, Устин смотрел на ее строгий прямой след в мокрой траве.
«Вот уж и выросла»,— думал он про Татьяну.
За речкой бабахнуло. Устин встрепенулся от своих дум. Палили, должно быть, под лесом. Дуплет раскатился протяжно, и Устин определил, как выстрел ударился о невидимый сейчас заречный саженный сосняк, загремел по нему гулким и бодрым эхом.
— В заказнике, не иначе,— кивнул Валерка, подходя к Устину.
— Скажи ж ты… Вот ведь и запрещено, а балуют. Вскоре с шелковистым посвистом с той стороны на эту пронеслись утки. Оба задрали головы, силясь разглядеть выводок за туманом.
— Чирята! — признал Устин, провожая уток по слуху долгим и жадным взглядом. Ему было радостно, что где-то еще водятся утки. И вообще было хорошо видеть, слышать и узнавать в лугах все прежнее, знакомое, что связывало его с этой землей, с этим миром.
Притомившись топтаться, Устин нагреб сухой, кем-то накошенной осоки, взгромоздил ворошок под ракитовым кустом, привалился боком:
— Полежать, что ль… К земле, брат, гнет. Бяда-а! Валерка выложил на осоку краюху ржаного хлеба, ломоть сала, крупные налитые помидоры, головку молодого чесноку и соль в спичечном коробке. Потом деловито достал из полевой сумки зеленую четвертинку, зубами вырвал бумажную затычку, на всякий случай, больше из вежливости, протянул посудинку Устину. Тот, засмеявшись, потряс головой.
— Мне твоей еды-питья не положено,— сказал Устин, вынимая из холщовой сумочки бутылку молока и городскую баранку, обсыпанную маком.
Валерка крупно глотнул из горлышка, сморщился и поспешно разломил помидор, заблестевший сахаристым инеем на изломе.
Река еще курилась туманом, но уже просветлевшим и редким, и на середине Ивицы обозначился остров. За лето, пока Устин лежал в больнице, остров еше больше зарос лозой, и от его нижнего конца далеко по течению высунулся узкий песчаный язык, разделивший Ивицу на два рукава.
— Вон как прет,— кивнул Устин.— Дурнина пустопорожняя. А ить глубина была, когда мельница стояла. Вожжами не промеряешь. Ты не захватил, не знаешь.
— Сваи-то помню,— сказал Валерка.— Тракторами таскали.
— Тут ить прежде ивы росли. Во какие, не в обхват. По обоих берегах. Лес! Только на середине речки небо и увидишь. Половодье-то схлынет, крыги унесет,— вспоминал Устин, поглядывая на реку,— так скворухов слеталось видимо-невидимо. Все дерева, бывало, обсыпят. Свиристят, гомонят в затишке… А то цвесть начнут, пушиться серьгами. Ивы-то. Аж по лугам дух сладкий. Пчела как полетит, как повалит! Гудит все пчелою. Потому и речку нашу Ивицей назвали.
Устин стал рассказывать, как любил ездить сюда с отцом по новине. Увидел себя мальчишкой, отца, старую свою хату, двор, амбар, вкусно пропахший зерном, сбруей, старыми полушубками. Вспомнил, как батя еще с вечера подкатывал к амбару полок, отвинчивал гайки на осях, стаскивал колеса, мазал ступицы дегтем. Как потом начинал грузить мешки с житом, укрывая их рядном, клал в передок полушубок, еду, торбу с овсом… А перед тем неделя
молотьбы.
На огородах за половнем начисто разметали ток, выкладывали снопы, голова к голове, колосья на колосья и — пошел, пошел цепами.
— Туки-туки, туки-туки…— Устин замахал батогом, изображая молотьбу.— Ты ить и не знаешь такого, а?
— Да слыхал…
— А-а, слыхал!— по-детски восторжествовал Устин.— А я меньше тебя был, годков десяти, а уже имел свой цепок. Батя сделал. Вроде как для забавы, а сам меж тем уже к работе приучал… «Давай-давай, Узька,— бывало, подбодряет.— Да по соломе-то не лупи. Не порть солому. По колосьям меться».
— Тоже, значит, техника была,— усмехнулся Валерка, поддевая складничком соль из спичечного коробка.
— Да ить какая техника: держак да дубовая бита на ременных завертях. За день так-то умолотишься, что и домой не дойдешь, а тут прямо в солому и ткнешься. Ни рук, ни ног. Ну, а на мельницу поедешь, там-то уж воля-вольная. Это ж теперь кино да телевизоры. А тады слаще, как на мельницу съездить, и развлечения не было. Так с ракит в воду насигаешься, аж в ушах звон. А то лошадей пораспрягаем, да всей гурьбой на них в Ивицу. Шум, плеск. Кони храпят, гуркают утробой от удовольствия, а уж нам ребятишкам, и вовсе… Да-а…
Валерка допил, зашвырнул пустую четвертинку в протоку и, ковыряя в зубах травинкой, спросил с сытой ленцой:
— А мельница куда ж делась?
— Да ить как же… Всему свой конец приходит. Машина в Куликах объявилась. Машиной молоть начали.
— Дизель, что ли?
— Не-е! — засмеялся Устин.— Тады таких еще не знали. А и тоже сила была. Чего хошь сыпь — все перетрет. Так это, бывало, пыхтит, пары пущает. И зимой, и летом.
В Куликах неожиданно заиграла музыка, стало даже видно, как сквозь туманную дымку, должно быть, возле клуба, зеркально взблеснула медная труба. Валерка приподнялся на локте, поглядел, прислушиваясь, на деревню.
Устин начал было еще о чем-то рассказывать, но Валерка все поглядывал на деревню, все вострил в ту сторону уши, по всему было видно, что ему теперь не больно-то интересно слушать словоохотливого старика, и Устин, сдержанно покхекав в кулак, замолчал.
— Сегодня гульнут! — с тайной завистью сказал Валерка.
— А што ж,— одобрил Устин.— Зябь попахали, дело теперь законное. Да ты шел бы тоже. Я и один попасу.
Валерка оживился:
— Сходить нешто…
— Иди, иди, соколик. Дело молодое. Чего томиться. Валерка не заставил себя упрашивать, поддернул голяшки сапог и, не убрав закуску, широко зашагал лугом.
— Иди, милай,— радостно напутствовал его Устин.— Теперь твое время.
Коровы, привлеченные водой, все еще лазили по берегу, добывали себе из ила узловатые корни рогоза, громко хрумкали кочерыжками. Растревоженный рогоз источал душный аптечный запах. Устин лежал на животе, глядел на Валеркину угловатую фигуру, пересекавшую седой дымящийся луг, на то, как солнце уже одолевало туман над высоким убережьем, по которому длинной вереницей ракит обозначились Кулики. Солнечные лучи подожгли пожаром высокие окш в новом клубе, кумачово полыхали флаги, вывешенны на белых колоннах. Потом высветились краснокирпичные ряды гаражей и мастерских, длинные бруски коровников, бело-серебристая водонапорная башня, похожая на гранату, поставленную торчмя.
— Эко наворочали! — дивился Устин.— Вот как взялись. Чисто город!
Возле клуба снова заиграла музыка, на этот раз звучали неторопливые «Сопки Маньчжурии». Устин улавливал знакомый старинный вальс и одновременно слышал, как в заречье Нюрка громыхала пустым корытом, хлопала сенешной дверью.
— Сейчас мы с Павлушей стирать будем,— явственно долетел Нюркин голос в чуткой утренней тишине.— Рубашечку Павлуньке постираем. Чистенькое наденем. Мамка воротится домой и не узнает нашего Павла. И чей же это, спросит, такой умница?..
«Ти-та-та…
хо-та-та…
во-та-та…
круг-та-та» —
задумчиво вздыхала в Куликах басовая труба.
— …Да неужто, скажет мамка, это наш Павлунька такой чистенький да умытенький? — приговаривала по другую сторону Ивицы Нюрка.
И какая-то высокая, голосистая дудка совсем по-человечески выводила:
Музыка сладко щемила, скребла и царапала какую-то еще не усохшую струнку в Устиновой душе. Он даже зажмурился, весь уйдя в слух, в радостно-тихое восприятие звуков. Мысли его все время почему-то углублялись в прожитое, и Нюркин баюкающий говорок, процеженный туманом, такой молодой и чистый, вплетаясь в плавные переливы оркестра, напомнил Устину те далекие его годы, как он, уже парнем, ездил молоть на Ивицу, как выпрашивал у матери поновее рубаху, намусливал лампадным маслом непослушные вихры, а перед тем бегал в винопольку купить в дорогу шкалик. К тому времени мельница отошла Куликовской коммуне, и заправлял ею Ивашка Бобров, Нюркин отец, бородатый плечистый мужик на деревянной ноге, которую он привез с собой после австрийского плена. Мельницу он отдал в коммуну добровольно, и его поставили заведовать общественным помолом.
«Это ж как соберутся бабы-мужики по новине, как съедутся!— вспоминал Устин, посматривая на реку, туда, где горбился остров.— Мать честная! Что тебе ярмонка! Возы скрипят, лошади ржут. Конь чужого коня, из другой деревни, увидит, и то интересуется. А уж человеку и вовсе занятно: кто, да што, да откудова. Ночью под деревами костры палят, лясы да байки точат, ожидаючи-то своего череда. Девки дак и петь возьмутся. А вода знай себе шумит на плотине. Денно и нощно. Бьет, пластается вода в щелки, в ставни-то… И жернова: жур-жур, жур-жур… Жуют жито. Теплой мукой пахнет. Уж так все припорошится пылкой; мужики бегают — брови, картузы белые…»
Помнил Устин и ту прежнюю Нюрку, тогда еще молодую девку, как угощала она помольцев горячими ситнухами из общей муки, которые сама ночью же пекла. Как приносила она эти хлебцы в решете, прикрытом полотенцем, под самые ивы, к костру, где коротали ночь мужики. Босоногая, румяная, только что от жаркой печи, пропахшая свежим хлебным тестом, кивком головы поправляя темную крученую косу, Нюрка обходила всех, приговаривая: «Ешьте, ешьте, люди добрые, с новиной вас». К решету тянулись темные корявые руки мужиков, разбирали хлебы, натирали горячие краюхи чесноком и салом. «Берите, берите,— предлагала Нюрка,— я еще напеку». Тянулся к хлебу и Устин, краснел и не глядел на Нюрку. И был он готов уступить свою очередь, молоть самым последним, чтобы еще вот так позоревать у костра, дождаться, весь обомлев, этого Нюркиного ночного прихода.
Все хотел он с ней как-нибудь заговорить, да так и не решился, так молча и ушел в Красную Армию на действительную службу.
Когда же воротился домой, Нюрка была уже засватана. Прибился к ней Степка Грач с Ивицких хуторов, черномазый скуластый малый с вертлявыми глазами. Был он годов на пять постарше Устина, держался бойко и самоуверенно. К тому времени старый мельник, Нюркин отец, уже помер, и всем делом на мельнице заправлял этот самый Степка.
Помнится, как пробрался Устин на плотину, как лежал в чужой телеге, таился, ждал, не выйдет ли Нюрка по прежнему своему обычаю… И верно, вышла и опять обносила всех ситнухами, а у самой под фартуком вроде тоже ситнух запрятан. И так тогда сделалось Устину безвыходно, так нехорошо было глядеть на ее беременный живот. Кинулся бежать, не помня себя, ломился сквозь какие-то кусты, в клочья изодрал гимнастерку, жахнулся по грудь в торфяную зыбь, потом всю ночь пролежал в сырой траве, в темени, то стеная, то загорясь жгучей слепой местью. Недели две после того пил запойно, а потом и сам женился с отчаяния, чтобы враз отрубить. Взял незнакомую, чужую, из дальнего села.
«А и было тоже,— подумал как не о себе Устин без сожаления и обиды.— Куда что девалося. Ушло время».
Года через два в Кулики привезли ту самую машину. Волокли ее со станции на восьми волах, разукрасили портретами, березовыми ветками с красными бантами. Пока везли по деревне, возле машины бегал, волчком вертелся подвыпивший Степка Грач, махал руками, указывал, по какой дороге везти, где меньше колдобин, подсовывая под чугунные колеса снопы соломы. Старый мельничный сруб втемеже разобрали, свезли на деревню, сделали из него сарай над машиной. И опять Степка командовал: сам метил цифрами бревна, сам снимал жернова, выдирал скобы и петли. Его и поставили потом заведовать новой мельницей. Предлагали ему заодно перевезти в деревню и хату, но он отмахнулся, дескать, сейчас не время, главное, чтобы машину пустить. Поначалу Степка бегал к машине из заречья, потом все чаще стал оставаться ночевать, а когда прирубил себе сбоку камору, то и вовсе неделями не ходил домой. Завелись у него дружки-приятели, сказывают, будто шастала в эту камору одна хуторская разбитная бабенка.
Однако все кончилось тем, что как-то раз сильно хмельного Степку затянуло ремнями и задавило приводным колесом.
Вместо Степки назначили какого-то заезжего мастерового, и все пошло своим чередом. Той же осенью в Кулики повалили обозы аж из соседних волостей. Меж тем старую плотину размыло и унесло половодьем, и Нюрка с дитем осталась в лугах одна. Но об ней особой речи не шло, а только вспомнили, что на той стороне осталось десятин двенадцать артельной пахотной земли. Думали, думали, как поступить с той пашней, засевать ее было теперь несподручно, поскольку туда не стало переправы, и порешили передать этот неудобный клин в договорное пользование какой-то городской артели. А заодно передали тоже вроде как в аренду и саму Нюрку, потому как она оказалась ни то ни се…
Как-то раз, еще в те года, возвращался Устин с Ивицких хуторов вьюжной ночью. Ехал зимним путем по остановившейся реке, и конь сам повернул к Нюркиному подворью. Видел, что свернул с дороги конь, потянул было за вожжи, но потянул как-то робко. Все в нем пыхнуло горячим содомом, и он не стал воротить коня, а вдруг, ополоумев, огрел кнутом и погнал напрямик. По глубокому снегу пробрался к темному окошку. Долго стоял, осыпаемый с крыши бегучей снежной заметью: постучать или не постучать. И постучал… Нюрка долго не отпирала, выглядывала в протертую круговину окна, наконец узнала, вышла в сени, что-то испуганно заговорила ему, придерживая щеколду, но он, ничего не слыша, не помня себя, рванул дверь и, как был в завьюженном тулупе с мокрым лицом, сграбастал полураздетую отбивавшуюся Нюрку, шагнул с нею в сени. И тут же, неся ее кулем, сразу весь обмякнув и похолодев, почувствовал сквозь замашную нижнюю рубаху жесткий вспученный ее живот… Остывая, он бережно положил ее на пол, Нюрка отвернулась, закрыла лицо ладонями…
— Как бы не помял тебя сдуру,— сказал он, смутившись.
— Чего уж мять…— глухо отозвалась Нюрка.— Мятая. А ты иди, Узя, ступай себе…
Устин постоял, покомкал мокрую шапку:
— В Кулики, что ли, переезжала бы… На люди.
— И в Кулики твои не хочу… Иди, иди…
Раза два после того встречался Устин с Нюркой, опять уговаривал переезжать на деревню. Нюрка не глядела на Устина, молчала. Да так и осталась по ту сторону, вот уже скоро сорок годов. Менялись всякие арендаторы, переходила из рук в руки и Нюрка со своей хатой…
— Ну ладно, перекусили маленько,— сказал сам себе Устин, вставая. Он спустился к реке и принялся полоскать свою бутылочку.
Река тем временем просветлела, открылась на всю ширину, заиграла под солнцем, и на той стороне выбелилась одинокая Нюркина хата. Стали видны ступеньки, прорытые в глинистом обрыве, сбегавшие к мосткам, у которых дремала большая, как называют в Куликах, сенная лодка. В двух правых оконцах пламенели какие-то цветы: там обитала Нюрка с Татьяной. В крайнем левом, загораживая выбитую шибку, стояли конторские счеты. В этой половине в разные времена размещались всякие огородные конторы. Теперь там обосновалось подсобное хозяйство глухонемых. Со стороны казенной половины, на забурьяненном, загороженном дворе, громоздились штабеля тарных ящиков, стояли плуги и телеги, краснел тракторок на дутых колесах. Ближе к берегу торчала на столбах фанерная Доска почета, обращенная фасадом к Ивице, а рядом с ней физкультурный турник, на котором иногда баловались возчики. Контора от самого мая пустовала, картошка и капуста еще не поспели, глухонемых на уборку посылать было еще рано, так что, кроме завхоза, здесь никто не появлялся все лето.
В дверях хаты показалась баба в солдатской гимнастерке навыпуск. Это была сама Нюрка. Она вынесла из сеней деревянную зыбку, привязала постромки к перекладине турника, потом опять сходила в хату, принесла всхлипывающего в голубенькой рубашке ребенка, уложила в зыбку.
— Уж я тебя на солнышке покачаю, вот как хорошо-то на солнышке,— певуче выкрикивала Нюрка.— Слышь, вон музыка в Куликах грает!
Ребенок устало квохтал, было видно, как он задирал ножки, хватал их руками.
— А вот на-ка тебе цацу! На-ка огурчик! Поточи, поточи зубки. Ишь ты, зубки не дают спать нашему Павлуньке… Болят, болят, окаянные…
Присев на колоду, Нюрка закатала рукав, принялась тискать белье в корыте.
— Точи, точи огурчик,— выкрикивала она, болтая седыми космами в такт движениям сухих оголенных рук.— А я тебя побаюкаю.— И, горбясь над корытом, начала тягуче и высоко:
— Кхи, кхи…— квохтал в зыбке малец.
Нюрка высвободила из мыльной пены руки, обтерла о подол гимнастерки, поймала конец кушака, который волочился по земле вслед за люлькой, принялась раскачивать и снова припевать:
Голос ее чисто и ясно перелетал тихую утреннюю Ивицу. Мальчонка, ненадолго присмирев, начал снова однотонно басовито реветь.
— Да дай же мне достирать!— подскочила Нюрка, и голос ее загремел грубо и зло, будто и не она только что так сладко и душевно напевала.— Понапачкал и не дает сполоснуть!
— А-а-а-а…— трубил малец.
— Вот, вражье семя, ирод полосатый, угомону на тебя нетути, прости ты мою душу грешную.
Нюрка торопливо принялась выкручивать белье, перекладывая отжатое себе на плечо.
Близко, где-то за мельничным островом, опять шарахнул выстрел. Сонная поверхность Ивицы взметнулась мальками, будто в воду сыпанули гороху.
— Слыхал? Будешь нюниться? — кричала Нюрка.— Вот придет Мамай с ружьем, заберет тебя в сумку.
Павлушка приумолк.
— Вон, вон Мамай идет! — продолжала устрашать Нюрка, развешивая белье на гребне Доски почета.— Иди, иди скорей, Мамай, забери Пашку-поганца.
И верно, той стороной, берегом, отражаясь в воде, шел охотник. Брел он неспешно, устало, ружье висело поперек груди, отвернутые голяшки болотных сапог толсто свисали под коленками.
«Батура идет». Устин узнал в грузной, облаченной в кожаную куртку фигуре Нюркиного завхоза. На его поясе болталась убитая утка. Было видно, как при каждом шаге охотника птица взмелькивала светлым брюшком.
— Здорово, бабка! — еще издали буркнул Батура сиплым басом.— Жива? — Он заглянул в зыбку, отчего Павлушка сразу же заревел.— Ну-ну! — прицыкнул на него Батура и пальцами показал козу.
Нюрка принялась трясти люльку, а завхоз, пройдя к хате, приставил к стене ружье, расстегнул патронташ и вместе с уткой повесил его под застрехой. Освободившись от пояса, Батура помахал полами куртки на округлый живот. Нюрка шмыгнула в сени и вынесла большую медную кружку. Батура долго пил, широко расставив сапоги, потом снял кепку, нагнулся и, шумно отфыркиваясь, вылил остальное себе на шею.
— От, добре! — довольно крякнул завхоз и прошелся по двору, разглядывая хозяйство.
— А это что ты тут понавешала? — строго крикнул он, остановившись перед Доской почета.— А ну, сними!
«А и верно, нехорошо это,— подумал Устин.— Не для того предназначено».
Хотя, впрочем, поколь стоит эта доска, уже порядком обветшалая, на ней еще никто ничего не писал, не делал никаких отметин, кроме разве сорок да галок. Что же касается постирух, то сколько он помнит, вечно на виду у всех Куликов в Нюркином дворе болтались пеленки да рубашки. Однако детишки почему-то не выживали. Может быть, оттого, что лечили их всякие захожие бабки. Уцелела только Татьяна. Родила она ее после войны, будучи сама уже в летах. В то шумное, безалаберное послевоенное время по воскресеньям наезжали в заречье городские артельщики из коопторга, целый день лазили по Ивице с бреднем, а вечером на берегу палили костры, варили уху, горланили песни. Какие они собирали со всего огорода урожаи, Устин уже не помнит, зато после них Нюрка снова была с прибылью: родила эту самую Татьянку. Девочка росла почти что на Устиновых глазах: училась она в Куликовской школе, нередко оставалась у него ночевать, а по весне, когда Нюркину хату отрезало недели на две, на три половодьем, жила у них до сухого. Девчушка она была тихая, привязчивая, лицом живо походила на Нюрку, особенно глазами, и Устин, у которого так и не народилось своих детишек, встречал ее, как свою, одаривал то конфетами, то яблоками. А иногда, таясь от жены, покупал в сельповской лавке чулки, а то и ботинки и дожидаясь со стадом в лугах, когда Татьянка побежит в школу, заставлял ее тут же, на траве, переобуться в обновку…
Теперь вот пришел Нюрке черед развешивать внуковы рубашонки.
Пока Нюрка перевешивала белье с Доски почета на борта телеги, завхоз оглядывал заросший бурьяном инвентарь, сунулся было в распахнутый сарайчик, где обитал подхозовский мерин, но оттуда через Батурину голову вылетела белая курица. Батура запустил в нее кепкой, попал на лету, курица, роняя перья, взвилась аж на самую хату и долго орала там, вышагивая, взад-вперед по самому гребню, перепуганно вытягивая шею и не решаясь слететь. Батура подобрал кепку, пошел в огороды. Постоял, поглядел на капустные грядки, воротился обратно, на ходу застегивая ширинку.
— Дочь дома? — спросил он, засматривая в окно.
— Нету,— отозвалась Нюрка.
— А может, дома?
— В Кулики пошла.
— Чего она у тебя такая… неразговорчивая? — Батура пощелкал косточками счет, выставленных вместо разбитого стекла.
На деревне снова заиграл оркестр. Завхоз приставил ладонь к козырьку, долго прислушивался, глядел в сторону клуба.
— Чего там у них? — поинтересовался он.
— Праздник какой-то…
— Гм…
Батура сдвинул кепку на лоб, почесал затылок, постоял над рекой, должно быть, силясь разглядеть, что происходит в Куликах, потом подошел к зыбке, принялся что-то бубнить Нюрке. Та мотала головой, разводила руками, но Батура все терся около, клал руку на Нюркино плечо и даже хватался за кушак, которым она раскачивала люльку.
— Давай, уважь… — доносилось до Устина. Нюрка отдала-таки кушак, сбегала в хату и вернулась оттуда повязанной белой косынкой.
— Давай, не бойся… Я с ним тут побалакаю.
Она сдернула с крыши сарая весло и спустилась к лодке. Павлушка, должно быть почувствовав, что Нюрка куда-то уходит, завопил, заколотил ногами.
— Ух ты! Ух ты! — Батура тряхнул зыбку.— Горластый-то какой! Когда штаны носить будем? Поори мне! Живо оторву воробья, закину кошке.
Нюрка долго возилась с лодочным замком, наконец отомкнула, загремела цепью и отчалила.
— А вон, гляди, курица на крыше орет,— заговаривал Батура Павлушку.— Дура пустоголовая. Давай-ка мы ее из ружья трахнем.
Нюрка торопливо гребла, скоргыкала веслом по борту и все оглядывалась на кручу.
«Кудай-то она? — запереживал Устин, наблюдая из-под куста.— Мальчонку бросила. Не видит Татьяна…»
Ближе к середине тяжелую плоскодонку подхватило течение, начало разворачивать. Нюрка суетливо совалась веслом то справа, то слева, но лодка не слушалась, с разгона ткнулась днищем в песок и остановилась.
— Чего там такое? — крикнул с обрыва Батура.
— Да мелко тут…— отозвалась Нюрка.— Совсем воды не стало.
Плоскодонка прочно села на тот самый песчаный язык, что уже под водой тянулся от острова. Нюрка уперлась в дно веслом, попробовала сдвинуться, но лодка не поддавалась.
— Надо было тебе объехать,— подосадовал Батура, раскачивая зыбку.— Живешь, а речки своей не знаешь.
— Да ить побыстрей хотела…
— Ты вылазь теперь, вылазь! Чего сидеть? Подтолкни ее.
Нюрка подобрала подол, послушно полезла за борт.
— На меня давай вороти! Куда ж ты ее дальше-то задвигаешь? Экая бестолковая! Да цыть ты! — прикрикнул он на Павлушку.— Чего разорался? Цела твоя бабка.
Нюрка обошла лодку, ухватилась за цепь. Подол юбки выскочил из-за пояса, но она больше не подтыкала его, а мокрая, растрепанная, с повисшим на шее платком, тянула за цепь изо всех сил, увязая в быстро таявшем под ногами песке.
— Покачай ее, покачай! Чего без толку тянешь? — сердился Батура, не переставая дергать кушак. За его спиной под турником размашисто мелькала зыбка. Павлушка, обессилев от крика, захлебывался и сопел. Плач мальчишки еще больше сердил Батуру, и он, топчась возле люльки, нетерпеливо кричал, ударяя пятерней по бедру: — Наваливайся на нос, подпрыгивай! Подпрыгивай, говорю… Раскачивай, чтоб вода под днище-то подпирала.
Нюрка попробовала исполнить то, что кричал ей Батура.
— Да не так! Не так, черт тя дери! Ты давай животом на нос дави, а потом отпускай. Поняла?
— Да уж я надавливаю…
— Ну, давай по команде: раз-два, взяли! Е-ще раз — взяли!
«Поди сам да попрыгай»,— озлился Устин и первый раз за весь день лапнул себя по карману, машинально отыскивая кисет.
— Ну еще разок — взя-ли…
«Эть как настырничает! Эть командует! Чистый урядник.— Устин, сердито поглядывая на Батуру, начал стаскивать сапоги.— Совсем заездили бабу».
Он сбросил дождевик, ватник, торопливыми дрожащими пальцами расстегнул на штанах ремень.
— Погоди, сичас! — крикнул он Нюрке, выходя из-под куста в одних подштанниках.— Не тужись без толку.
Его заметили.
— Во-во! Помогай, папаша! — обрадовался Батура.— Давай, подпихни, а то бабка одна не сладит.
Устин попробовал ногой воду. Он не купался в речке несколько последних лет, и даже мелькнуло сомнение, не разучился ли плавать.
— Да ты не бойся! — подбодрил его Батура.— Тут раку по это самое место…
— Не учи, едрена Матрена…— буркнул Устин.
Батурины слова насчет «не бойся» еще больше озлили Устина. Придерживаясь за ветки ивняка, он ступил одной ногой с берега, сразу ошугнулся до пояса, зашелся с непривычки от студено охватившей его глубины и постоял так, обвыкая и перебарывая сердцебиение. Потом, глотнув воздуха, решительно окунулся с головой и поплыл незабытыми саженками. За его головой с прилипшими к черепу седыми волосами пусто пузырились кальсоны.
— Давай, давай, папаша!
Плыть до мелкого было недалеко, каких-то метров двадцать, но Устин быстро запыхался и, немного не дотянув, попробовал стать на ноги. Однако бегучий песок ускользал из-под пальцев, быстрое течение воротило прочь. Устин чуть было не опрокинулся, но вовремя успел уцепиться за долгие, пластавшиеся на струе, космы водорослей. Задирая бороду, чтобы не захлебнуться, он по-рыбьи хватал воздух, в глазах зарябило от радужной мути.
«Оплошал,— с досадой подумал о себе Устин.— Совсем никуда…» Он отдышался маленько, снова поплыл и, когда толкнулся коленками о дно, встал и пошел, пьяно шатаясь, животом обрывая травяные путы и волоча за собой мокрые хвосты водорослей.
— Куда ж ты такой,— оторопело выговорила Нюрка — Из больницы толечко, из-под ножа…
— Куда… куда…— огрызнулся Устин.— Ты-то куда… Он сердито отобрал у Нюрки весло, подважил им под носовой брус. Песок зашипел под днищем. Упрямо сопя, синея проступившими ребрами, Устин поддевал и поддевал веслом, орудуя, как ломом; лодка мало-помалу начала подаваться.
— Лезь, отяжеляй тот конец…— велел он Нюрке.
На вольной воде лодку подхватило течением, понесло, Устин проворно вскочил коленками на носовое сиденье и, загребая выставленной ногой, направил лодку к Нюркиному берегу.
— Эй, дед! — замахал с обрыва Батура.— Куда правишь? Слышь?
Устин не отвечал.
— На ту сторону давай!— шумел Батура.— Глухой, что ли?
— Уважь ты ему Христа ради…— попросила Нюрка.— Перевези уж…
— Какое такое спешное дело? Небось за водкой послал?
— Дак ведь пристал: дай выпить и дай… Я ему: нетути у меня, не гоню больше. А он: на деревню, говорит, сбегай. Там, дескать, гуляют нынче, у всех есть.
— На нет — и суда нет,— отрезал Устин.
— Когда сама гнала, дак и было. А позапрошлым летом милиция из району налетела… Для них, для конторских, и гнала, заставляли. Иной раз сами сахару привезут, дрожжей. Давай, дескать, займись… Им гулянья, а мне условный год присудили. Теперь вот зареклась больше…
— Зарок дала, а сама бежишь. От дите-то хворого. Совсем ум отжила.
— Дак ить просит человек… Отказать нельзя: вся зависимая. Уж перевез бы ты меня от греха… Я ведь все собираюсь с ним насчет алиментов обговорить.
— Какие тебе алименты? — плюнул за борт Устин.— Дочь уже сама мать. Надо было тогда и спрашивать, по горячему следу.
— Люди скажут, положено мне… За выслугу-то годов.
— Дак то пенсию положено!
— А не знаю я, как это зовется по-конторскому-то. Пенсию, дак и пенсию… Годки-то мои совсем повышли, ноги теперь не носють… Что ж я… и так всю-то жисть бесплатно. Ни копеечки ломаной…
— Тебе разве зарплату не дают?
— Дак чего там… Одной натурой… Овощем всяким.
— Экая ты, однако, дура! — досадовал Устин на Нюркину бестолковость.— Чего ж не договаривалась?
— Дак чего… Живу и живу. Приедет новый начальник хозяйство принимать, спросит: кто такая? Сторожиха, говорю, здешняя… Ну, ладно, скажет, сторожи… Вот тебе и весь договор… Просила Таньку написать бумагу, чтоб, стало быть, похлопотать. А она: это ж, говорит, письменное подтверждение надо, что здесь работала, справки за все года. А какое подтверждение, ежели и так все знают, как я тут день и ночь верчусь… Уж перевез бы ты меня, принесла бы ему поллитру, дело таковское, не слиняю… Он человек новый, может, и пособил бы…
— Такое дело за поллитру не правят. Прокурору сразу и пиши. Чтоб по закону.
— Ох ты, грехи мои тяжкие…
Батура еще что-то выкрикивал, но Устин, мелькая сухими локтями, борясь с течением, упрямо продвигал лодку к Нюркиному берегу и, когда лодка наконец ткнулась в мостки, велел Нюрке вылезать.
— А ну иди сюда, дед! — потребовал Батура.
— Иду, иду…— многозначительно пообещал Устин и, не мешкая, полез вслед за Нюркой. И пока он карабкался по крутым ступеням, помогая себе веслом, Батура попирал берег широко расставленными резиновыми ботфортами, возвышаясь над Ивицей во всей своей начальственной строгости.
Нюрка смиренно прошла мимо него, забрала из люльки Павлушку.
— Ты чего ж это, а? — Батура обдал Устина козлиным духом распаренной кожанки.
— Дак а чего?
— Старый, а такой неуважительный. Сказано, на ту сторону надо.
Устин впервые видел перед собой незнакомо-замкнутое, с набегавшими на кожаный ворот багровыми бурдами лицо заречного завхоза, однако не дал себе стушеваться и, сам побагровев от отчаянной смелости, выпалил:
— А мне, мил человек, твой сказ не указ! — И для собственной твердости прибавил: — Понял?
— Да ты кто таков? — Батура смерил Устина взглядом.
Вид у Устина и верно был не весьма авторитетный, это он и сам за собой чувствовал: мокрая борода свисала обсосанной косицей, непросохшие подштанники облепляли голенастые ноги. Но Устин от сознания этого своего несоответствующего вида еще больше взъерошился и мокрым бесом подскочил к Батуре.
— Кто? Ты думаешь, ежели я с кнутом, так уже и никто? А ну, Нюрка, давай бумагу, буду протокол составлять.
— Какой еще протокол? — С Батуриного лица сошла административная жесткость, и проглянуло удивление.
— А вот узнаешь, как пропишу,— напирал Устин и, понимая ответственность момента, а также и то, что на плеть надо переть с обухом, решительно соврал, пристукнув веслом о землю, будто державным посохом:— Я, может, есть депутат райсовета, понял? И имею полномочия разговаривать со всякими.
— Ох ты, господи! — вздохнула Нюрка.
— Иди, иди, дед, отсюдова,— захохотал Батура.— Хлебнул, что ли?
— А ты, гражданин, не смейся! — На Устиновом впалом животе малиновел рубец со следами недавних больничных ниток. Он поддернул подштанники и опять затребовал: — Давай, давай, Нюрка, бумагу. Писать буду, как этот гражданин принуждал к незаконности, самогон вымогал. А ты, гражданка, будь свидетель.
— Но, но! — Батура перестал смеяться.— Ты эти штучки, дед, брось. Какой такой самогон?
— А ну, гражданка, подтверди,— потребовал Устин.— Дай показания.
— Я ее на почту с телеграммой посылал. Чтоб рабочих на уборку давали. Скажи ему…— Батура обернулся к Нюрке: — Скажи, куда я тебя посылал…
— Устин Ваныч, не надо…— испуганно проговорила Нюрка.
— А ты помалкивай, ежели дура,— огрызнулся на нее Устин.— Я вот сейчас участкового кликну. Пусть ему ответит, по какому такому полному праву в запретном месте дичь стрелил. Вон она, улика, висит убитая.— Устин ткнул пальцем в сторону застрехи.— Пусть участковый самолично спросит у этого гражданина письменное дозволение. Он думает, ежели на этом берегу, дак и сладу на него нету? Это тебе не крепостное право, беззакония творить.
При упоминании об утке Батура окончательно смутился.
— Да ну вас к черту! — сплюнул он.— С дураками свяжешься — дураком будешь. Иди, дед, проспись…
Батура прошел к хате, снял с гвоздя патронташ, принялся подпоясываться. Лицом он был хмур и строг, будто говорил тем самым, что больше не позволит шутить с собой дурацкие шутки.
— На той неделе капусту возить начнем,— крикнул он Нюрке хозяйственным тоном.— Ты тут тово, готовься… Контору хоть прибери.
Завхоз перекинул через плечо ружье и направился к огородам. Нюрка с Павлушкой на руках угодливым бежком поспешила ему вслед.
— Сделаю, Захар Степаныч… Все сделаю…
— Да шмутье свое, смотри, не развешивай. Развела срамоту. И чтобы всякие посторонние,— он кивнул в сторону Устина,— не шлялись на территории. А то, поди, всю капусту растащили, депутаты эти…
— Все цело, как есть…
— Да ты хоть глядишь-то?
— Гляжу, Захар Степаныч, как не глядеть?..
— Наверно, и носу не кажешь…
— Третьего дня ребятишки озоровали, дак шумнула… А так бог миловал…
— Миловал! Смотри у меня.
Он поправил на плече ружье и не спеша пошел, на ходу оглядывая инвентарь и постройки, делая вид, что вовсе ничего не боится и уходит только потому, что нет времени разглагольствовать со всякими встречными.
— Всего хорошего, Захар Степанович,— закачалась вместе с Павлушкой в поклоне Нюрка.— Уж вы не беспокойтесь.
Устин отошел к берегу, сел, свесил ноги с обрыва и, все еще не остыв от горячего разговора, глядел на куликовские луга. Солнце уже хорошо припекало, стадо, насытившись, мирно полегло.
С Павлушкой на руках робко подсела Нюрка. Она долго разглядывала Устина, косясь на его немощную худобу, и в ее опутанных морщинами глазах светилась грустная материнская озабоченность. Многие годы она не видела его вот так близко и теперь почти совсем не узнавала.
— Ты обратно-то на лодке езжай,— сказала Нюрка.— Не плыви больше… А Танька вернется, дак и пригонит.
— Ладно…— кивнул Устин.
— Исхудал-то ты как, изболелся… А я, Узя, хотела тогда съездить к тебе в больницу. Уж и творожку припасла. Да вот не поехала, грешная…
— А, пустое… Об чем теперь говорить…
Они напряженно молчали. Павлушка добродушно сопел на ее руках, изворачивался и все норовил ухватить Устина за локоть. Устин долго недвижно глядел на плоскую равнину лугов, потом перевел взгляд на деревню, стал глядеть, как и кто успел перестроиться за это лето и сколь еще осталось домов под соломой. Старых домов почти не осталось, все больше под шифером и под железом, а в одном месте, в щербатине между ракитами, будто вставной зуб, сверкала под солнцем даже цинковая крыша.
«Зажили люди»,— успокаиваясь, порадовался Устин, глядя на помолодевшую деревню, и вдруг остро почувствовал, что скоро ему уже не ходить по куликовским улицам, по этим лугам… Все это останется: и дома, и речка, и коровы… И будут жить другие люди… Татьяна, Валерка, Павлушка… Теперь все это ихнее…
«Ничего, тепло еще подержится,— утешал себя Устин, думая, что пока постоит тепло, поживет и он.— Осень, глядишь, будет погожая. До покрова еще сколь… В иные года стоит и стоит теплынь… Дак, а что ж, ежели покров… Дровец насечь да печку истопить…» И он, сидя в отрешенном забытьи, стал прикидывать, как бывает, когда падет зазимок. Вспомнил белый праздничный свет за морозными окнами, стрекот сороки на коньке сарая, пахучую сухость сенных стогов под шапкой первой пороши, мягкое тепло впервые надетых валенок… И выходило, что после покрова тоже бывает хорошо…
— Ну, мне, однако, пора…— очнулся Устин.— Скоро Доить придут.— Он встал, подобрал с земли весло.— Прощай, Анна,— сказал он со сдержанной строгостью и, не глядя на Нюрку, стал спускаться по ступенькам.
На мостках он отомкнул цепь, ступил в лодку отчалился. Посудину сразу же подхватило течением, но Устин, стоя во весь рост, напрягшись, поворотил ее и погнал на середину в объезд острова.
— Заходи когда,— каким-то не своим голосом робко крикнула ему вослед Нюрка, оставшаяся сидеть на обрыве.
Устин не ответил. То ли не счел нужным откликаться на пустое, а может, не разобрал Нюркиных слов, потому что в Куликах снова загремела музыка.
Играли что-то веселое, плясовое.