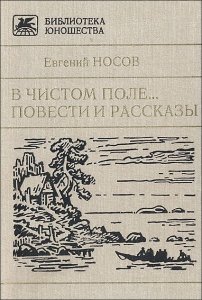
В междуречье верхних притоков Днепра и Дона, по сухим увалистым водоразделам еще и теперь сохранились клочки дикой, непаханой степи, некогда уходившей от порубежных русских земель к Черному и Каспийскому морям — и дальше, за Волгу, в необозримые киргизские кочевья.
Места эти издревле заселялись полупахарями-полувоинами, «с конца копья вскормленными», которым назначено было принимать на себя налеты бесшабашных половецких орд. Позже здесь обживались стрельцы и пушкари, казаки и ямские люди и тоже пахали и сеяли промеж главным делом. С тех пор и остались во многих городах этой полосы, как память о беспокойной старине, стрелецкие и пушкарные, ямские и казацкие слободы. Правда, слободы уже не те: с кинотеатрами и кафетериями, с больницами и школами-десятилетками, а там, где раньше были ямские подворья и ночлежные станции с запасными тройками, стоят железнодорожные депо и вокзалы. Но до сих пор еще жителей называют по старинке — стрельцами и пушкарями, казаками и ямщиками, хотя ямщики Уже давно пересели с облучков на поезда, да и стрельцы с пушкарями нашли себе новое дело. Русь раздвинула свои границы, и никто из теперешних слобожан не страшится, что вдруг наскочит дикий кочевник и отсечет кривой саблей иную зазевавшуюся стрелецкую голову или красавицу на модных шпильках уведут в полон в Крымское ханство. Теперешние стрельцы и стрельчихи и сами валят в Крым в несметном числе — полежать на южных пляжах. Бежит время!
Острова же тех прежних, первозданных степей затерялись теперь в безбрежном море паханых и перепаханных полей, окружены селами и деревеньками, опутаны шоссейными и проселочными дорогами, по которым снуют автобусы и «Волги» или катят грузовики со всякой колхозной пожитью — зерном и картошкой, молоком и сахарными бураками.
Но странная, непривычная тишина охватывает всякого, кто после каждодневной сутолоки, житейских дел и забот шагнет вдруг в дикие травы. Как и сотни лет назад, шумят, переливаются седые ковыли, одиноко в вечном сне дремлют курганы, подернутые синеватой марью, и все так же кружат над дикой равниной отрешенные от всего степные орлы, под крыльями которых проносятся столетия: прошли когда-то Игоревы полки «испить Дону широкого», прошла и конница Буденного — «от Касторной на Тихий Дон»…
Ранней весной рушится и оседает под щедрым солнцем серый торосистый снег, пробивают себе путь к земле талые воды, обнажая бурые, взъерошенные от прошлогодней травы пригорки и холмушки, а сквозь старую дернину уже вострятся зеленые пики ковылей и типчаков. Едва зазеленев, степь сплошь золотится адонисом и сон-травой. В мае она уже бело-лиловая от диких ирисов и анемонов. В июне душно и густо синеет шалфеем, а к концу лета вдруг просияет ромашками, вымечет пуховые ковыли и заволнуется, засеребрится на ветру. Потом все это побуреет и поникнет, солнце иссушит, а дожди прибьют к земле мелкотравье, и только жестко и неприветливо будут торчать ржаные стебли конского щавеля да черные скелеты татарника. И побежит по степи проволочным клубком бездомное перекати-поле. А вскоре падет снег, степь замрет, затаится до весны, а там снова — адонис и сон-трава, ирисы и анемоны… И так год за годом, века, а может быть, и тысячелетия в неуемном и неистощимом круговороте.
Дикая вольница!
Пройдут краем степи мужики из соседних деревень, остановятся, любуясь ширью, и в который раз подивятся слепому неразумию этой праздной, еще ни разу не служившей человеку земли, что сама сеет, щедро и без устали родит, сама пожинает свои плоды, ни с кем не делясь, разве что с птицами, беспечно и расточительно обращая все, что породила за лето, в прах и тлен. Постоят, подышат пьяным полынным ветром и пойдут к себе, на соседние косогоры, к своим стократ паханым и перепаханным полям…
Останавливался у пограничной канавы и сапрыковский мужичок Яшка — маленький, узкогрудый, в сером мешковатом пиджаке с отвислыми карманами. По-рачьи красное, безусое и сморщенное Яшкино лицо непривычно мигало, будто так с самого детства и осталось, не обретя зрелых мужских черт, так и состарилось, подобно не набравшему силы, преждевременно оброненному деревом яблоку. То ли за эту детскость, то ли за терпеливую безропотность считали Яшку на деревне дурачком. В колхозе он не имел твердо определенной должности, посылали его на всякие работы, обычно невыгодные, на которые другие шли с неохотой, он же брался за все, был исполнительным, хотя по хилости своей охотнее всего прибивался к бабам — полол с ними бураки, сажал капустную рассаду, собирал долгоносиков. Все это не помешало ему, однако, жениться и наплодить кучу ребятишек.
Прикидывая сухонькую ладоньку к белесым детским бровям, Яшка глядел на буйный непроворот степных трав и бормотал:
— Ай-я-я… Зазря как… Ай-я-я…
— Чего уставился? — раздалось вдруг за его спиной. Яшка пугливо вздрогнул и оглянулся. Большой, грузный, в армейской, сбитой набок фуражке, с круглым и сонным лицом, со следами отпечатавшихся на щеке травинок, к нему поднимался с бруствера пограничной канавы объездчик Игнат Заваров. Игнат тоже был сапрыковский, Яшку признал и потому особенно строго и нравоучительно изрек:
— На чужой каравай рот не раз-зевай.
— Поглядеть, чай… а что ж тут, если я из любознательности,— пролепетал Яшка.
— А чего глядеть? Трава — и трава.
— А трава она ноне тоже хитрость. Не стало-ть трав-то… Вот и любо… Сена-то какие… Ай-я-я…
— Какие тут тебе сена?
— Да я так только… Предположительно. А вот тут чернобыльник завелся. Почистить али как…
— Не твоего ума дело,— неохотно, размеренно отозвался Игнат.— Нам чернобыльник не помеха.
— Дак ведь забьет, забьет…
— Науке все нужно,— вяло, будто показывая, что Яшке с его умишком все равно этого не понять, пояснил Игнат.— Науке что плохие травы, что хорошие.
Яшка поднял сухой ком земли, швырнул в суслика, любопытно и нахально разглядывавшего его с рассыпчатого холмика. Суслик сварливо заверещал, юркнул в дырку, мелькнув светло-желтыми подштанниками.
— И не швыряй,— наставительно и сурово сказал Игнат.
— Дак я суслика…
— Небось на столбе читал? Сказано: что произрастает и обитает на территории, охраняется законом.
— Какой суслик — закон? — усмехнулся Яшка.— Мы их на своем поле почем зря давим. А вы подбираете… Под закон приют даете.
— Давай, парень, налаживай лапти.— Игнат нахмурился, поигрывая крученой ременной плетью, пошлепывая ею о начищенную голяшку сапога.— Нечего мне с тобой попусту брехать. А то схлопочешь соли в штаны.
— А я канаву не переходил,— сощурился, скосив набок головенку, Яшка.— На нашенской земле стою. А конь твой хрумкает запретную траву… А на столбе написано…
— Вот я те сейчас пропишу! — Игнат топнул по брустверу сапогом, в канаву посыпались комья.
Яшка отпрянул и пошел, опасливо оглядываясь.
— Давай-давай, чеши! — помахал вслед плетью Игнат.— Шляются тут…
Отойдя к придорожным тополькам, Яшка еще раз оглянулся. Игнат вразвалку, будто в морскую пенную волну, забрел выше колен в ковыли и ромашки и, тихо посвистывая, принялся ловить жеребца. Рослый, грудастый жеребец красивой буланой масти со светлой рассыпчатой гривой поднимал из трав узкую сухую морду, косился на Игната, откликался сдержанным радостным ржанием. Игнат подходил к нему с вытянутой рукой, и конь, то косясь на ладонь, тянулся к ней с опасливым любопытством, то, будто передумав, взметывал шею, прижимал уши и бочком отходил, не даваясь, играя с Игнатом.
— Но, балуй мне, балуй! — добродушно сердился Игнат и вдруг, крупно шагнув, схватил повод, откинутый на луку. Конь приседал, рвал мордой, плясал, часто перебирая ногами, но объездчик легко, одним броском взлетел в седло и, будто сбросив лет пятнадцать, весь подобравшись, помахивая плетью в прямо отставленной руке, пустил жеребца размашистым галопом по невидимой со стороны степной тропе. И Яшка, затаясь в жидкой тени тополька, невольно любовался и конем и седоком, завидуя вольному Игнатову делу.
Игнат появился в степи лет пятнадцать тому назад, вскоре после демобилизации.
Побывав в Берлине с казаками, поглядев на вражье логово и снявшись на искромсанных ступенях рейхстага, Игнат о четырех медалях на бравой груди летом сорок пятого воротился в свою Сапрыковку. Еще издали увидел он родные кровли, но в деревню сразу не пошел, а, как бы отдаляя удовольствие, сбежал на луг под деревней, стащил гимнастерку, поплескался в торфяной копани, смыл дорожный пот. Улегшись на мягком ковровом кочкарнике как раз против своей хаты, он вдыхал знакомый кизячный дымок, долетавший из трубы, взглядывался в отчий плетень, в поникшие, затяжелевшие головы подсолнухов и, растравляя себя ожиданием, смотрел, не выйдет ли кто из хаты. Со двора в огородную калитку вышмыгнул огнисто-красный петух, кукарекнул, будто поприветствовал, и пошел на грядки — должно быть, клевать огурцы. Петуха этого Игнат не знал, видно, завели уже без него, но все равно было приятно глядеть и на петуха — как-никак тоже родственник.
— Погоди ж ты! — радовался Игнат.— Вот я тя…
Снисходительно, с теплой усмешкой думал Игнат и о своих стариках. Мать небось топит печь, раз Дым из трубы. Отец тюкает топориком махру в деревянном корытце. И не знают, не ведают, что сын их Игнат, целый и невредимый старшина казачьего эскадрона Кременчугского, Белостокского ордена Суворова Первой степени гвардейского имени Котовского кавалерийского полка, лежит у них перед самым носом. И стоит только ему, Игнату, подняться и перелезть через плетень, как в доме и во всей Сапрыковке начнется великий переполох.
Обмахнув вересковым пучком легкие старшинские сапожки, сшитые ему на заказ полковым сапожником, он достал из чемодана шпоры, приладил, обдергал гимнастерку и, предвкушая столпотворение, суматоху, пошел по приседающим под ним кочкам к огородному плетню.
Все вышло так, как и хотелось Игнату. Мать заголосила, обхватила сухими руками его шею, бессильно повисла, уткнувшись впалым виском в Игнатовы медали.
Сестренка Нюська, вытянувшаяся за эти годы, с робкими пупырышками грудей, онемев, глядела из-за двери на брата, потом, точно опомнившись, шмыгнула из хаты, побежала в колхоз за отцом. Повалил народ — старики и бабы. Невесть откуда набилось полно ребятишек, босоногих, в выцветших и выгоревших рубашонках. Прибежал отец, протолкался к сыну, на ходу снимая кепчонку и крестясь. Запыхавшийся, со струйками пота в седых висках, сел с Игнатом рядом на лавку и тут же трясущимися, непослушными пальцами стал крутить цигарку, будто затем только и бежал, чтобы закурить. Игнат обнял его за плечи и, чувствуя под пальцами худое, невесомое тело, проникаясь доброй, снисходительной теплотой к старику, на секунду привалил его к своей груди.
— Ну, батя, как жизнь?
— Дак как? Вот дождался. Вся тебе и жисть…
— Ну-ну…— Игнат щелкнул трофейной зажигалкой и уважительно, под ревностными взорами окружающих поднес отцу огонька.
Меж тем мать в окружении баб уже затеяла на кухне стряпню. На всю кухню запахло мокрым горячим пером.
Разомлевший от духоты, Игнат протиснулся к ведру с колодезной водой. Напившись из старого, с детства еще памятного медного ковшика, постоял над корытом, у которого присевшие на корточки бабы ощипывали кур. Мать сноровисто обдергивала ошпаренного кочета, того самого огненного петуха, что давеча первым выбежал навстречу Игнату и голосисто приветствовал его.
— Откукарекался,— усмехнулся Игнат.
— Да уж все огурцы издолбил,— с радостной готовностью отозвалась мать.— Не чаяла, как избавиться.
Кто-то принес бутылку самогона, к ней донесли другую, натащили соленых огурцов, капусты, у кого что нашлось на скорую руку. Игнат, со своей стороны, выставил две бутылки припасенного спирта, достал кусок сала, селедку, и пошло накатываться, как снежный ком, веселье — до свету и от свету до поздна. Все перемешалось: и день и ночь. Игната поздравляли с благополучным возвращением, плакали по своим невернувшимся, зарытым — какой под Орлом, под Варшавой, а то и просто неизвестно где,— расспрашивали Игната, когда должны отпустить домой, ежели служит в артиллерии или еще где. Люди приходили и уходили, и только один Игнат сидел в красном углу бессменно, упрямо не покидая стола. Невыспавшийся, с оплывшим лицом, он чокался с вновь прибывающими, пьяно целовался, не выпуская стопки из руки, обнимал односельчан.
— А во — видели? — говорил он в который раз, беря со стола камень.— От самого рейхстага.
— Скажи ж ты! — Бабы пугливо пялились, разглядывая обломок, и почему-то все до одной прикидывали его на ладони.— А вродя как обыкновенный…
На второй день на таратайке с железными ходами от плуга в передке подъехал Васюхин, сапрыковский председатель.
Длинный, с пустым рукавом, желтым сухим лицом язвенника, выбывший из войны в самом ее неинтересном месте — осенью сорок первого, без медалей,— Васюхин уважительно и заискивающе глядел на целого и невредимого Игната и даже наперекор донимавшей его язве с охотой выпил с ним стопку.
— За благополучное возвращение — это можно,— радостно сказал он.— Это мне никто не воспретит.
— А вот это — видел? — Игнат подсунул обломок к Васюхину.— От самого этого самого…
— Пошабашили, значит.
— В пух и прах расколошматили.— Игнат захохотал и стукнул кулаком по медалям.
— Н-да…— Васюхин задумчиво повертел обломок.— Оно, сказать, и у нас кирпича набито порядочно. Ох и набито! И не только кирпича… Из нашей Сапрыковки за все годы почитай рота ушла. А возвернулись Захар Зуев, Ванек Чугунов да вот ты.
— Смертью храбрых, значит! Выпьем за смертью храбрых!..
— И в колхозе тоже,— сказал Васюхин.— Один трактор и семь пар волов осталося. На бабах до сево дня пашем…
— Ну, это все ерунда. Свои кирпичи…— Игнат, красный, потный, весь словно пропитанный хмелем, обнял, положил свою тяжелую лапу на остренькие плечи Васюхина, жарко и пьяно запел ему в шею: — И по камушку, по кирпичику…
— Да уж как-нибудь сообща залатаем…— закивал Васюхин.— Я небось больше отца-матери тебе рад.
Походив еще недели две по родным и знакомым, Игнат наконец выбился из сил и несколько дней отсыпался. Постепенно интерес к нему пошел на убыль. Мать больше не рубила к завтраку курицу, перевела все до единой в первые дни приезда и теперь виновато ставила на стол пустой суп, заправленный черными шкварками лука, и неизменную картошку с огурцами. Отец пропадал на конюшне, и Игнат, вяло позавтракав, в томлении топтался по знойному, заросшему просвирником двору или, опершись о плетень с торчавшими на кольях жаркими, раскаленными на солнце горшками, в которых заунывно трубил ветер, смотрел на деревню. Глядел он на серо-пыльную дорогу улицы, безлюдную об эту пору дня, на унылые ряды соломенных крыш, не перекрывавшихся еще с довоенных лет, обветшалые, посеревшие от дождей, придавленные старыми боронами и лемехами, глядел на низкий, сырой луг в черных рябинах нарезанного торфа, слушал кудахтанье кур, забившихся в крапиву, в сухую жаркую тень от плетней и сараев, и поднималась в нем тяжелая и мутная тоска и раздражение…
Иногда он забредал к отцу в конюшню. В длинном приземистом сарае было сумрачно и пусто, тянуло гнилой соломой, било в нос крепким, как спирт, запахом застоялого, забродившего в духоте навоза. В косых столбах солнечного света, сквозившего в дыры на крыше, носились и зудели бронзово-зеленые мухи. Игнат, в начищенных сапогах, праздно-брезгливо пробирался по истыканному копытами вязкому проходу, заглядывая в пустые стойла, на которых остались еще дощечки с кличками когда-то стоявших здесь лошадей. Теперь в конюшне ютилась вся колхозная живность: несколько коров, десятка два овец, семь пар волов и единственная лошадь — председательский мерин. Но днем конюшня была пуста, скотина паслась или работала, лишь в одном стойле лежал, уткнувшись мордой в пах, с намазанной дегтем холкой мослатый большерогий вол.
В каморе с узким длинным оконцем и кой-какой сбруей на деревянных гвоздях отец, сутулясь, ковырял шилом хомут. Игнат присаживался рядом на ракитовом чурбаке, оба закуривали и молчали.
— Для чего хомут-то? — прашивал Игнат.
— Как — для чего?
— Лошадей-то нет.
— Жив живое гадает. Про запас. Все равно так сижу. До вечера.
Игнат сосредоточенно дымил цигаркой, пуская струю себе в сапоги, оглядывал нехитрый упряжный скарб каморки.
— Вот у мадьяров хомуты… Серебром отделаны. И с рогом. На каждом хомуте рог торчит.
— Рог-то для чего?
— А так. Для красоты… И скрипки любят. Как цыгане. Усы почти у всех. А сало — крашеное. И хлеб белый. Круглыми ковригами по полпуда. Огромные рундуки, там овес… А в овсе — сало и коврига. А то и сливянки перепадало… Крепкая, зараза.
Игнат хотел было рассказать, как он выменял у одного поляка за десять тысяч таблеток сахарина турецкого жеребца. Поляк тот у одного графа кучером был. Граф с немцами бежал, а жеребца бросил. Весь кипенно-белый, со змеиной шеей и злыми фиолетовыми глазами. И как потом он, Игнат, гарцевал на нем, когда проходили города, и как полячки забрасывали эскадрон тюльпанами, а одна, особо выделив Игната, подбежала и воткнула в стремя белую яблоневую ветку…
Но, вспомнив, что обо всем этом уже рассказывал, Игнат вздыхал и, скучая, поглядывал в оконце, за которым пустынно голубело выцветшее сапрыковское небо. И опять ему становилось невмоготу тоскливо. В такие минуты он чувствовал себя не просто демобилизованным, а выбитым из седла, несправедливо разжалованным, как-то сразу потерявшим свою старшинскую власть, чин и все привычные привилегии.
— Ну, я пойду,— бросал он, вставая.
— Зашел бы к Васюхину,— говорил вслед отец.
— Зачем?
— Наказывал, чтоб зашел. Может, дело какое?
— Какое у него дело? Сам на железных ходах ездит…
По вечерам, позвякивая шпорами, с резной ивовой тростью Игнат шел на деревню, выпивал где-нибудь самогонки и, уже подвыпивший, повеселевший, вваливался на девчачий пятачок. Собирались обычно возле сельсовета. Сельсоветский сторож Леонтий приносил с собой на ночное дежурство старую, залатанную ливенку, и вокруг него собирались позоревать ребятишки, девки и бабы. Игнат беспечно балагурил, плясал, иногда, разойдясь, посылал ребятишек на огород за огурцами и, подбрасывая один за другим огурцы высоко над головой, вдрызг разбивал их тростью, обдавая всех огуречными семечками.
Ребятишки млели перед Игнатовой ловкостью.
— Это что! — говорил он небрежно.— Вот бы шашку. Рубал бы на заказ: кому на скибки, кому от пупка до хвостика.
— И не надоело тебе шашкой-то махать? — говорил дед Леонтий.
Игнат хмыкал.
— Теперь, знай, косу вострить надо.
Под осень заезжие плотники подрядились сладить обветшалую конюшню. Игнат сошелся с ними, бегал для них за самогоном, а когда пошабашили, ушел с бродячей артелью в город. Где он пропадал потом, никто не знал, только через год Васюхин, проезжая мимо, встретил его в степи — с ружьем и в седле.
— Стало быть, в городе не понравилось? — спросил Васюхин.
— А! — Игнат неопределенно махнул рукой.
— Промеж городом и деревней обосновался?
— Опять в казаках!
— Что ж фуражка-то не казачья?
— Ту потерял. Вот новую купил в военторге.
— Дак эта ж летчикская,— заметил Васюхин, поглядев на голубой околыш.
— А! Хрен с ней! Дело не в фуражке, а — что под фуражкой,— усмехнулся Игнат.— Так, что ли, земляк?
— Так-то оно так…
— А ты все на железных бегунках катаешься? Поди, тряско?
Васюхин не ответил, тронул вожжи.
— Так что кланяйся отцу с матерью,— уже вслед Васюхину сказал Игнат.— Передай — мол, опять в казаках. А я как-нибудь наведаюсь.
С той поры уже пятнадцать раз по весне степь зацветала золотой сон-травой и пятнадцать раз, отковылившись, бурела и замирала под снегами.
За это время ушла из Игната дурашливая бесшабашность прежних лет, когда он, бывало, подвыпив, особенно на праздники, устраивал для сотрудников заповедника — ботаников, почвоведов и студенток-практиканток «рубку лозы»: натыкал вдоль степной дороги ракитовых шестиков с пучками травы и, лихо гикнув, припав к коню, пускался поддевать их и сбрасывать через себя самодельной деревянной шашкой. Ботанички смеялись до слез и в знак восхищения его удалью надевали на разгоряченную Игнатову голову холодный венок из одуванчиков. По вечерам на центральной усадьбе танцевали под трофейный итальянский аккордеон или играли в волейбол. Игнат тоже пристраивался и все норовил попасть кулаком по мячу изо всей силы. Ботанички принимались обучать Игната правилам, и ему льстило, что эти ученые барышни, диковинно тоненькие, в узких наглаженных брючках, похожие на полек, которые осыпали его эскадрон цветами, обращали на него внимание. И вообще против сапрыковской жизнь здесь, в степи, была не в пример интереснее.
Вскоре, однако, Игнат соблазнил-таки «рубкой лозы» здешнюю кассиршу. Для молодых устроили свадьбу с речами, тостами и подарками и даже выделили комнату в только что отстроенном коттедже. Но жить у всех на виду Игнату быстро надоело, и он попросил разрешения поселиться отдельно.
Для жительства Игнат облюбовал глухой лесистый лог на краю степи, поросший дубняком, дикими грушами и лещиной. Когда ходил выбирать место, спугнул волчий выводок и выстрелом из ружья уложил матерого.
— Хватит, пожил. Теперь я тут жить буду,— посмеялся Игнат, подняв за хвост взъерошенного зверя.
Срубил крепкую дубовую избу, выложил камнем погреб, на вольные сена завел корову, поставил во двор казенную лошадь, купил батарейный приемник, индюков расплодил… Все пошло своим чередом. Приосанился, посолиднел. Однако по старой привычке по-прежнему носил военные фуражки. Фуражки и теперь были его страстью, он перепробовал все рода войск и, хотя чуб его давно вытерся до звонкой арбузной плеши, носил их с фасоном, свалив на левое ухо. Фуражки придавали его калмыцкому лицу, багрово-глянцевому на скулах, вид внушительный и весьма административный. Мужики из соседних деревень давно уже почтительно именовали его Игнатом Степановичем.
Перекинув через плечо ружьишко, казавшееся за его широкой, заметно погрузневшей спиной игрушечным, он неспешно объезжал степь, глядел, чтобы не забредала скотина, не шастали за ягодой ребятишки и вообще чтоб не было никакого баловства. А укачавшись в седле и притомившись на солнцепеке, отпускал коня побродить и приваливался в тень подремать.
Иногда, особенно по воскресеньям, в степь наезжали туристы или так просто любопытствующие. Побродив по степи с экскурсоводами и наудивлявшись, они просили разрешения перекусить на лоне природы. Игнат выжидал, пока гости войдут в азарт, чинно подъезжал к компании и, не слезая с коня, предупреждал:
— Только прошу, чтоб все аккуратно. Бумажки, окурки…
— Конечно, конечно! Мы понимаем…
И почти всегда в таких случаях Игната приглашали перекусить.
— Благодарю,— степенно отказывался Игнат.— На службе. Никак нельзя.
Гости умилялись Игнатовой строгости к самому себе, наливали стопку, подавали в седло.
— Ну разве что одну… За знакомство.
Игнат запрокидывал голову, выпивал, благодарил, брал с протянутой вилки кружок колбасы и, еще раз предупредив, чтоб «все было в аккуратности», с достоинством отъезжал.
— А цветов можно сорвать? — спрашивали гости.
— По букету — это можно,— разрешал Игнат.
Выпадали и особенно урожайные дни, когда Игнат по стопочке «за знакомство» к вечеру набирался-таки порядком. В общем, служба была сносная.
Иногда Игнат наезжал в свою Сапрыковку, привязывал под окнами лошадь и с торжественным видом ставил на стол бутылку водки — выпить с отцом. Отец, теперь даже летом не вылезавший из валенок, выпивал самую малость, и Игнат потихоньку приканчивал всю поллитровку.
— Ну как вы тут живете-можете? — снисходительно расспрашивал он, подразумевая, что в сравнении с ним в Сапрыковке никто крепче не живет.
— Да как живем…— неопределенно говорил отец, глядя слезящимися глазами на свои корявые кисти рук, казавшиеся непомерно большими по сравнению с худеньким его телом, будто они еще продолжали расти и узловатеть.— Вот по троице схоронили Васюхина. Царство ему небесное.
— Что так?
— Сгорел мужик. Не поест, не поспит вовремя. Все мотался по полям. Думал поскорее сладить дело, а выходит, одной-то жизни и не хватило.
— Другого дадут,— успокаивал Игнат.— Свято место пусто не бывает.
— Дак больно душевный был Иван-то. Жалко.
— Кого теперь метят?
— Дак кого… Чепляют нас теперича к Алябьевке. И Сосновку туда же. Ихний и будет теперь над нами. Теперь мода на укрупнение пошла. Сказывают, и другие деревни так же одноя к другой лепят. Как бы не вышло: где широко, там и мелко…
— Стало быть, невесело живете.
— Дак пока плясать не из чего… Пока все гармонь ладим.
Игнат скучающе смотрел в окошко, на все тот же кочковатый луг в черных рябинах торфяных копаней.
— Что ж ко мне не заглянешь? — спрашивал он под конец.— Внуков бы поглядел. И вообще как живу.
— Теперя вот, видать, совсем к лавке прирос. Ноги не шастают… Свез бы — дак почему же не посмотреть.
— Свезу,— обещал Игнат.— На Октябрьские.
Отец с первыми осенними дождями слег и вскоре умер. Похоронив его, Игнат все реже наведывался в Сапрыковку, а когда мать уехала жить к Нюське в Кокчетав, свез старую хату к себе в лог, сладил из нее амбар и с тех пор больше в деревне не бывал.
Весь этот день нещадно парило. По всему горизонту зыбился перегретый воздух, вместе с ним текла и струилась степь, а к полудню в белесом небе появились тяжелые гряды облаков. Казалось, вот-вот дело кончится оглушительной и разгульной грозой с ливнем, который снимет с земли тяжкое бремя удушья. Но, так ничем и не разрешившись, небо вскоре очистилось, облака скатились к востоку и там, потеряв свою пышность, слеглись над курганами в плоскую, длинно вытянувшуюся пепельно-сизую завесу. И только к ночи в той стороне стало глухо погромыхивать. Показавшаяся было огромная багровая луна исчезла. Мгновенными вспышками далеких молний все чаще выхватывало из темноты тяжелые хребты поворотившей обратно, в степь, тучи.
Отпустив поводья, с бездумно приятным звоном в голове от выпитого вина Игнат возвращался домой с объезда. Жеребец размеренно шлепал по мучнистой дорожной пыли, укачивая Игната в седле, и тот временами задремывал, по старой привычке чувствуя коня одними только коленями.
Иногда он поднимал голову и, поглядывая на острые конские уши, проступавшие из темноты при вспышках далеких молний, приятельски говорил жеребцу:
— А я, брат, опять нынче выпимши… Служба, брат, такая… А ты вот меня вези теперь… Потому как я тебя, стервеца, можно сказать, из смерти извлек. Была бы из тебя колбаса по рупь сорок с чесноком. А теперь ты как в царстве небесном… Никаких хомутов и трава до пуза. Понял? Ну и хозяин один…
Года три назад из соседних колхозов вдруг валом погнали лошадей. Из одного колхоза гонят, из другого. Заинтересовался Игнат, вышел на пограничную канаву спросить мужиков, что за оказия.
— Бумага такая пришла,— говорили мужики.— Чтоб гнать, стало быть, на мясо.
— У нас что ни год, то новые указы,— посмеивался Игнат.— То зайцев пускаетесь разводить, а теперь вот лошадей изничтожаете.
— А мы — что? Нам как скажут,— оправдывались мужики.— Говорят, что дармоеды лошади-то. Вот их за это и побоку.
— Худому плясуну завсегда свой зад мешает.
Выходил Игнат и в другие разы к канаве, приглядывался к лошадям, порешив воспользоваться удобным случаем и обменять у мужиков своего застаревшего мерина на молодого конька. Им-то что? Им все едино, лишь бы счет головам. Примеривался внимательно, по-хозяйски и выглядел-таки себе вот этого буланого, в ту пору еще не объезженного, дурашливого стригунка. Шел буланый за медленно катившими дрогами в табунке таких же молодых кобыл и жеребчиков, не подозревая, какая ему уготована участь, игриво гнул шею с коротко подстриженной, светлой гривкой, пружинисто и мягко вытанцовывал высокими, еще не стоптанными восковыми копытцами — гибкий и легкий, с нежно вздрагивающей при каждом переступе грудью. Шел, льня и ластясь к кобылкам, западал ушами и скалил чистые зубы на соперников, дружков и сотоварищей по лугу, по вольной ночной пастьбе, а мужик, сидевший в дрогах, время от времени досадливо хлестал молодняк кнутом:
— Ну разыгрались тут!
Погонщик, оказавшийся сапрыковским конюхом Иваном Чугуновым, даже обрадовался, когда Игнат предложил ему обмен.
— Выбирай любого, Игнат Степаныч. Все едино в распыл пойдут.
Игнат обошел коней, присматриваясь.
— Бери вон этого, со звездой. Отец его полторы тонны возил, как машина. И без поломок, не пробуксовывал, лопатой не откапывали.
— Нет, мне порезвей бы… Под седло чтоб.
— Бери под седло.
— Буланого возьму,— решил Игнат, но все еще продолжал шарить глазами по стригунам: не прогадать бы.
— Буланого так буланого,— одобрил Иван.— Войдет в лета — зверь будет конь.
Игнат достал специально припасенную бутылку перцовки, отъехали в сторону, выпили прямо из горлышка.
— Говорят, теперича все машинами будем делать,— заговорил Иван, сразу охмелев и слезливо заблестев глазами.— А я так скажу: конь машине не помеха, а, наоборот, подмога. Машина машиною, а конь завсегда исправен и на мази. Вдруг развезет, носу не кажи, или завьюжит. Да и по мелочам, по деревне — торфу воз, мешок ли на мельницу, картошку выпахать. Семьсот дворов в колхозе — на каждый машину не напасешься. Так ведь, Игнат Степаныч? Рассуди?
— Им с горы виднее, что делают.
— И опять же, уж больно жалко лошадей-то. Корову не жалко, свинью. Этих и сами били, и возить возили живым весом. А лошадь в жисть никто не значит, в распыл, мужики весь день на конюшне колготились: глядели, какую свести, а какую приберечь. Выведем на свет, глядим-глядим, да и опять поставим! Жалко! Этак раза по три каждую выводили и заводили! Поначалу наскребли десятка полтора, каких постарее да если где подшиблена. А теперь вот и до малолеток добрались, потому как звонят, укоряют.
Игнат курил, глядел на выбранного жеребчика и, уже считая его своим, любовно примечал, как тот бойчится, задирается с одногодками.
— А жеребчик пусть у тебя, Игнат Степаныч. Это я с радостью. Во степу пусть гуляет. Была б моя воля — всех бы тебе отдал. Дети ведь еще… Вот и балуются, как дети малые… Эх!
Игнат, сняв седло, пристегнул своего мерина к телеге и отвязал буланого. Телега тронулась. И долго еще буланый рвал из рук Игната повод, останавливался и тревожно, тонко ржал вослед пылившим по дороге лошадям, не хотел отделяться от товарищей.
Конь, как и прочил Иван Чугунов, на вольной степной траве, под хозяйской рукой получился добрый, и Игнат баловал его и холил, любя ревнивой цыганской любовью.
Между тем гроза обкладывала степь широкой огненной подковой. Глухо, настороженно темневший восток где-то по ту сторону плотной завесы внезапно вспыхивал на полгоризонта, мгновенно становились видны аспидно-синие хребты тучи, на мертвенно-призрачной, белесой от ромашек плоскости степи черным разломом прорезалась дорога, будто в этом месте треснула земля и разошлась, раздвинулась глубоким провалом. Потом все снова тонуло в глухом, беспросветном мраке, и уже в темноте тягуче прокатывался запоздалый гул грома.
Игнат, однако, не торопил коня, ему даже нравилось вот так одному ехать под громами, чувствуя себя в этот поздний час единственным властителем заповедного степного царства. Правда, в степном этом мире,- кроме него, обитали еще и другие, но у тех было свое дело, которое они называли наукой, а у него свое — объезд. Заповедных сожителей Игнат не принимал всерьез и про себя думал о них снисходительно и скептически. Вся их наука казалась ему детской игрой: то они, протянув через кусок степи рулетку, высчитывали, сколько на ее протяжении встречается злаков, а сколько белых и красных клеверов, то детским совочком выкапывали какие-то корешки и, чему-то радуясь, укладывали их в папки, а то набирали в пробирки землю и потом у себя, на главной усадьбе, долго разглядывали ее под микроскопом. Люди они были вежливые, к Игнату относились уважительно, ничем ему не докучали, тем более что свою службу он нес исправно, со строгостью, без какого бы то ни было панибратства даже с мужиками из своей Сапрыковки.
Игнат дремотно прислушивался к далеким раскатам грома и лениво думал о том, что ночь нынче будет тоже жаркая и душная, что в хату он не пойдет — блохи, да и жена заругает, а лучше всего спать ему в сарае на сеновале, где никаких блох и где духовитый воздух от свежего сена и хорошо протягивает сквозняком в чердачное окно…
Жеребец вдруг остановился, и задремавший было Игнат поднял отяжелевшую голову. Под конем заплескалось, запахло взбитой пылью и теплым пивным запахом конской мочи. Ленясь слезть с коня, он и сам помочился — прямо из седла. И, справив нужду, ощущая под рукой теплую, вздрагивающую от прикосновения холку жеребца и проникаясь к коню дружеским расположением, добродушно сказал:
— Во… А теперь, брат, давай покурим.
Он полез в галифе за папиросами, но вдруг насторожился, задержал руку в кармане. Повернувшись в седле, вытянул в темноте голову, прислушался.
Справа, из душной, туго натянутой тишины явственно донеслось: ж-жик… ж-жик…
— И-и…— в неожиданном замешательстве потянул Игнат горлом воздух, и враз взмокло у него под фуражкой темя.— Косят!
Наливаясь яростью, он бесшумно свалился с коня, зашарил руками у края дороги, нащупал куст чернобыльника, сгреб его снопом, захлестнул вокруг повод, чтобы жеребец никуда не ушел. Дождавшись, когда между грозовых раскатов снова осторожно завжикала коса, все еще не веря и удивляясь этому звуку, Игнат определил направление и, крадучись, ступил в траву.
— Ах мать твою…— бормотал он, по-петушиному пригнувшись, вытянув шею и прокрадываясь по рослой густой траве.— Ах ты, зараза! Косит!
Небо полыхало, на миг мелькнули перед Игнатом седые космы ковылей, и ему вдруг почудилось, будто увидел он сразу несколько человек, рассыпавшихся по траве.
Он упал и затаился. Часто дыша в липкую паутину ковылей, стал соображать, что ему делать. Выждав молнию, сторожко высунулся из травы: перед ним чернели метелки конского щавеля, которые он принял за людей.
«Померещилось…» — подумал он. Но тут же явственно донеслось: ж-жик… ж-жик…
— Нет, косят. Один косит…— определил Игнат, прислушиваясь.— Где же ты есть?
Пробежав несколько шагов и остерегаясь, как бы его не увидели, он при очередной вспышке снова упал в траву. Грохнул оглушительный, разломистый раскат грома. Игнат тотчас подскочил и, пока грохотало, перекатывалось из конца в конец неба, пользуясь наступившей темнотой, сделал перебежку. Снова присел, затаился, дожидаясь света, нетерпеливо вытягивая голову поверх трав. И когда небо пронизали сразу в нескольких местах пучки молний, увидел впереди себя, шагах в тридцати, темную фигуру косца, увидел в его руках белое, новое, недавно выструганное косье.
— А-а, сволочь! — злобно обрадовался Игнат. Примериваясь, как его взять, как налететь сзади и заграбастать поперек вместе с руками, чтобы не успел замахнуться косой, Игнат, весь напрягшись, изготовившись к прыжку, привстал, но вдруг в тишине заливистым, протяжным ржанием его позвал жеребец. Косец, выхваченный молнией, замер, лицо его, мертвенно-голубое, с черными провалами глазниц, было повернуто к Игнату, но тот не успел разглядеть, как тотчас, поглощенное темнотой, видение исчезло.
— Будь ты неладен…— обругал Игнат нашумевшего жеребца, вскочил на ноги и побежал, тяжело давя траву и уже не стараясь пригибаться. И когда степь снова полыхнула, увидел, как впереди верткой серой мышью улепетывал косец.
— Сто-о-й! — закричал Игнат. Запнувшись о что-то, с размаху грохнулся на землю, нащупал рукой мешок, туго набитый травой.— Стой, паразит! Стрелять буду!
Ружья в этот раз при нем не было, и он, досадуя, что нечем пальнуть, напрягая все силы, стервенея, пустился вдогонку, засекая в мгновенных вспышках мелькнувшую перед ним призрачную фигуру, чтобы гнаться потом за нею в темноте по памяти. Косец и не думал останавливаться на окрики, и Игнат, загораясь неукротимым охотничьим инстинктом, яростной гончей жаждой догнать во что бы то ни стало, хрипло подбадривал себя, до боли сжимая кулаки:
— Ну, поймаю… Ну, поймаю…
Почувствовав, что его догоняют, косец заметался, запетлял по степи, появляясь при внезапном свете в неожиданных местах и своей заячьей верткостью еще больше распаляя Игната. Наугад прикинув, куда должен на этот раз вильнуть беглец, Игнат скакнул наперерез и чуть не столкнулся в кромешной тьме с мужиком.
— Ну… Вот он… я-а-а! — запаленно и вызывающе заверещал мужик.
Игнат молча с разбегу ударил его давно стиснутым и занемевшим от налитой свинцовой ярости кулаком в голову. Мужик ойкнул, и Игнат, не давая ему опомниться, торопливо навалился на него, как на недорезанного барана. Чувствуя под собой хлипкое тело, не способное всерьез сопротивляться, он стал поспешно ловить его руки, захватывая вместе с руками траву, сгоряча выдирая ее с корнем. Мужик, придавленный к земле, колотил ногами. Игнат сел ему на ноги, сдернул с живота ремень, обхватил мужика, как вязанку хвороста, ремнем, туго застегнул, заломив ему за спину руки.
— Бо-ольна-а! — заскулил мужик, уткнувшись лицом в траву.
— А-а, п-пара-зит,— злорадно прохрипел Игнат, еще не отдышавшийся от бега.— Знал, куда шел, а? Знал, что делал? У, ворюга! Да я из тебя душонку вытряхну!— Игнат сгреб в кулак пиджачишко на груди мужика и остервенело потряс.
Голова мужика безвольно заболталась, ударяясь об Игнатово плечо.
— Все равно ведь прахом,— заскулил из темноты мужик.— Через месяц дожди… Снега покроют… Ежели б я в мае…
— Не твое — не тронь! — отрезал Игнат.
— Не тронь?! — вдруг взвизгнул мужик.— А где мне косить? Где? Луга позапахали, в колхозе без сенов бедуют. Пасти негде, косить нечего… А у меня их пятеро, окромя самого да бабы… Я и так по болоту по горло с косой… Осоку да хмызу… Оттого и ревматизма… А ты на ноги сел… Да еще кулаком…
Игнату почудилось, будто где-то он уже слышал этот голос, хотя не мог припомнить, где и когда… В деревне он давно уже не бывал и даже с прежними своими дружками не водился. Разве что иногда встретясь у канавы, перебросится парой слов.
Мужик замолчал.
По степи внезапно пронесся горячий, перемешанный с брызгами близкого дождя ветер. В черной утробе тучи, уже заслонившей полнеба, вдруг сверкнула слепяще-белая молния, распустилась огромным сучковатым, корявым деревом и на миг задержалась, четко проступив на черном небе каждой веткой. Сухо, оглушительно треснуло, будто дерево это, надломившись, полетело из поднебесья вниз маковкой и тяжело, обламывая сучья, грохнулось о землю где-то совсем поблизости. В темноте испуганно заржал Игнатов жеребец, и от дороги донесся торопливый топот. Игнат догадался: жеребец вырвал куст и поскакал ко двору.
Степь глухо, прибойно зашумела растревоженными травами. В мертвенном свете новой вспышки всколыхнулись, заметались вокруг Игната ромашки. Игнат взглянул на мужика и увидел его скорченного, судорожно вздрагивающего в беззвучном плаче.
— А ну ты! Пошли, хватит!— прикрикнул Игнат.— Меня слезами не возьмешь. Знаем мы…
Мужик не отозвался, и тогда Игнат, матерясь, схватил его за ремень, рывком оторвал от земли и, как сноп, поставил на ноги.
— Думал: гроза, нету Игната? — злорадствовал Игнат.— Что — выкусил? Вот закатаю, паразита, под статью…
— На, веди, веди! — бабьим голоском, визгливо вскрикнул мужик и дернул связанными руками.— Веди! Я и сам пойду. Пойду и скажу… На суде скажу! Перед всем людом… Сам ты паразит, Игнатка!
— Давай-давай, топай! Огрызайся мне.— Игнат подтолкнул мужика в лопатки.
Тот пробежал несколько шагов, остановился и вдруг пошел на Игната.
— Я не бег… Не бег…— кричал он, подступая к самому лицу Игната.— Я с колхозом жил. Хорошо ли, плохо, а жил… Помогал… Все делал… Моего поту там полито…
— И там воровал.
— Нет, брешешь… Былки не тронул… А ты…
— Что — я? — усмехнулся Игнат.
— А ты — убег… Укрылся… В овраг спрятался… А только от людей не спрячешься. Люди видят твою жизню… Наблюдают, какой ты есть…
— Что люди видят? — заорал Игнат. И, зверея, ткнул мужика в грудь.— Что твои люди видят? Говори, гад, что за мною видно? Ворую? Чужое хапаю?
— Сам ты гад! — отчаянно выкрикнул мужик, и опять в его голосе Игнату послышалось что-то знакомое.— Мне теперя все равно. Бей! А только гад ты и есть. Канаву перебег и спрятался… Как серая козюля, под закон…
Пальцы Игната сами собой стиснулись в кулаки.
— А теперича мы тебе не товарищи! — кричал мужик.— Разве ты степь стерегешь? Ты себя стерегешь… Свое житье… Власти над собой не знаешь… Сам на других покрикиваешь…. Кому дозволить, кому не дозволить. Ружьем на своих грозисси… Логово свое в овраге ружьем оберегаешь…
Жарким толчком кровь ударила в виски Игната. «Ведь ушибу, враз ушибу… как клопа…» — поостерег себя Игнат, белея от выкриков мужика.
— Волк ты овражный, вот ты к…
Не помня себя, сам не ожидая того, только безнадежно, с сиплым придыхом вскрикнув: «А-эх!», Игнат из-под низу сунул кулаком в темноту. Под кулаком хлопнуло, мужик, захлебнувшись какими-то словами, опрокинулся и исчез под ногами в шумящей траве.
— Я вам догляжу!..— дрожа плечами, ярился Игнат.
Лил крупный, косой, шквалистый дождь. Игнат и не заметил, как он налетел. Тяжелые, будто свинцовая дробь, капли стегали его по голому вспотевшему темени.
— За мной нечего доглядать… Судья нашелся. Поискав оброненную в схватке фуражку, Игнат напялил ее и, успокаиваясь, обтер лицо ладонью. Мужик больше не кричал. Он словно растворился в хлюпающей темноте. Вытянув ногу, Игнат пошарил ею перед собой, нащупал лежащее тело, пнул сапогом.
— Ну ты…— окликнул он.
Мужик не отозвался.
Игнат подумал, что следовало бы составить акт о потраве… Но как его составлять, когда льет и темень…
Придется тащить потравщика на главную усадьбу и запереть до свету… И опять же, как его тащить такого? А ежели сильно харю расквасил или какие метины? Кричать станет: ударил, мол… И пускать жалко…
Дождь шквалисто шумел, стегал траву, полыхало и грохотало небо, Игнатова гимнастерка промокла, текло по расстегнутой груди. Он еще раз нетерпеливо пнул мужика сапогом:
— Ну, поднимайся. Хватит дурака ломать. Попался. Мужик не колыхнулся.
Игнат присел перед ним на корточки, скользнул рукой по намокшему пиджаку. Под пальцы попалось теплое мокрое горло. Игнат почувствовал, как судорожно вздрагивал костистый кадык. Брезгливо отдернув руку, Игнат отстегнул и вытащил из-под мужика свой ремень.
— Притворяйся мне…— прикрикнул Игнат.— Не будешь зря гавкать…
Мужик не отвечал.
Досадуя, Игнат, сумрачно, нетерпеливо глянул в темноту — вправо, влево, в ревущую стену дождя, потом достал коробок, согнувшись, запалил спичку в неприятно дрожащих после удара ладонях, поднес к мужику. Спутанные мокрые космы закрывали его лицо до самых ноздрей. Из разбитого, изуродованного рта пузырилась кровавая пена. Дождь тут же размывал кровь, и она мутной жижей стекала по морщинистой щеке.
— Сам на рожон попер,— пробормотал Игнат.
Он запалил новую спичку, пальцем сковырнул со лба мужика налипшие волосы, посветил в самые глаза. В сморщенном, безусом, недвижно запрокинувшем свою маленькую усохшую голову мужике Игнат, невольно вздрогнув, признал сапрыковского дурачка Яшку.
Отдернув спичку, он гадливо отстранился.
«Ужли ушиб? — мелькнул вдруг брезгливый испуг. Но тут же успокоил себя: — Да не… не должно… Кадык-то телепается…»
Застегнув на животе ремень, Игнат осторожно отошел от дурачка. И, еще раз оглянувшись, крадучись, будто его могли увидеть в этом ночном ливне, пошел прочь…
— С дураком свяжешься — сам дурак будешь,— бормотал Игнат, испытывая гадливое чувство, будто нечаянно раздавил клопа и теперь все время чуял его ядовитую вонь. Он шел по колено в тяжелой от дождя траве, и в его ушах неотвязно стоял Яшкин крик. Припоминая все, что кричал ему Яшка, думал, что для Яшки слова эти были не так уж полоумны: связно кричал…
— Моду взяли во степу косить,— успокаивал себя Игнат.— Дурак-дурак, а воровать соображает… Да еще орет… Огрызается… Мне слова никто по службе не сказал… А они — доглядать за мною…
Дождь шумел, подталкивал Игната в спину, гимнастерка студено обхватывала тело, в сапогах чавкала вода, сбегавшая со штанов в голяшки. Косые зигзаги молний то здесь, то там втыкались в равнину, и на мгновение становились видны стремительные нити дождя, густо обступившие Игната, будто кто-то невидимый поспешно вколачивал на его пути прямые стальные прутья.
«Отойдет… дождем отмочит»,— опять подумал Игнат о Яшке, тревожно прислушиваясь к степи после каждого раската грома: не бежит ли Яшка, поняв, что его отпустили…
«Ждет небось, пока отойду подальше…»
Он шел, машинально убыстряя шаги, в ту сторону, где, как ему казалось, должна была быть дорога, и все прислушивался, спиною чувствуя позади молчаливое Яшкино присутствие. Неприятное ощущение от оставленного в степи дурачка толкало его прочь, подальше от того места.
— А что, если пришиб? — вдруг первый раз не на шутку испугался Игнат. Перед ним предстало в мокрых ковылях под ногами сморщенное, безусое, безобразно окровавленное Яшкино лицо с налипшими на глаза волосами, и он, сам того не замечая, вдруг побежал.
«На суде скажу… Перед всем народом…» — вспомнил Игнат Яшкины слова.— Накаркал, дурак… Вот тебе и суд теперь…»
Он бежал, пробиваясь к дороге, но ее все не было, и, поняв, что сбился, он стал забирать правее. Но трава показалась ему выше, чем была, ноги, ощущая внезапную пустоту, сами побежали в какую-то низину, травы спутанными петлями охватывали ноги, и он, тяжело ломясь сквозь заросли, продирал их коленками. Ага-га-га-га-а-а! — злорадно и торжествующе прогрохотал над Игнатом гром. Выскочив из ложбины, он забрел по шею в жилистые, холодно брызжущие пригоршнями воды и липкими семенами бурьяны яростно разгребая их, будто тонул в топком болоте пробрался на открытое место и стал забирать левее надеясь пересечь дорогу или какую-нибудь тропку. Но под ногами все путалась трава, и он, много раз уже поворачивавший то вправо, то влево, совсем перестал понимать, в какой стороне должен быть его лог. Тяжело дыша, отирая ладонью лицо, Игнат остановился. Кровь гулко отдавала в висках, туманила глаза. Первый раз за все пятнадцать лет объездов Игнат не узнавал места, не знал, куда ему идти. И, не решаясь больше шагнуть дальше, боясь, что в любое мгновение может наступить на лежащего в траве дурачка, загнанно, по-волчьи ощерясь, он повел по сторонам втянутой шеей.
— Если что — ничего не знаю… А то — конец… Отказаковался.— И он вдруг явственно осознал, что все эти годы ждал каких-то неприятностей от Сапрыковки.— Вот оно…
Небо грохотало над Игнатом тяжкими обвалами, полыхала и шумела седая, вспененная степь, и казалось Игнату, что нет ей конца и краю, нет за ней ни дорог, ни деревень, ни людей…
* Первоначальное авторское название широко известного рассказа Евгения Носова “Объездчик”.
Объездчик (1983)
По мотивам одноименного рассказа Евгения Носова.
В родную деревню после войны возвращается солдат-победитель. Также победно Игнат завоевывает лучшую деревенскую невесту, получает лучшую “непыльную” работу объездчика заповедной степи. Все вроде бы хорошо. Растут дети. Только жесткая от войны душа нет-нет, да проявит себя…
Режиссёр: Александр Бибарцев
В ролях: Александр Карин, Ольга Пономарева, Алексей Зайцев, Тамара Фурсова, Сергей Винокуров, А. Андреев, С. Крутов, Регина Лялейките, Владимир Калинин
Год выпуска: 1983.