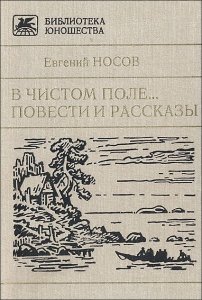
Так получилось, что в позднее осеннее ненастье, взъерошенное лохмами туч — мимолетных, набрякших моросью, волочащих свое мокрое отрепье по стылой распаханной земле, сиротской озими, задевающих и застящих мглой редкие перелески и одинокие, сгорбленные скирды соломы,— в это глухое клятое время пробирался я нашими курскими взгорьями, именуемыми на школьных картах Средно-Русской возвышенностью.
Шел я к человеку, пока еще не известному мне, некоему Павлу Кондратьевичу Мохову, написавшему мне недели две назад, что он хотел бы показать кое-какие свои фронтовые записи, которые вел по молодости, будучи офицером связи при штабе Западного фронта, несмотря на строгие запреты, и что он хотел бы привезти эти записи сам, но расхворался, и кажется надолго, за что просит извинить его.
Что-то подсказало мне больше не тянуть, не медлить с поездкой в Подсвирково, и я отправился, не глядя на ненастье. И вот, сойдя с электрички, уже часа полтора брел я, вернее сказать, не брел, а переставлял резиновые бродни, силком выдергивая их из благословенного чернозема, превратившегося в черный распущенный бетон, и погружая их иногда по самые отвороты во все ту же цепкую, намертво хватающую, неизбывную до тоски кромешную хлябь.
Наконец впереди, на самом взлобке, призрачно замаячил серый на сером же небе неприкаянно-одинокий обелиск, под которым покоились (покоились ли?) наспех свезенные с окрестных полей и просто стащенные за ноги, хорошо если переложенные плащ-палатками или хотя бы соломой, тысячи полторы (впрочем, кто их точно считал?) безымянных солдат. Когда-то и эти высоты утробно, до самой преисподней содрогались от гула и остервенелой ярости многомиллионной битвы, от края и до края подернувшейся пеленой, в которой смешались и хвостатые дымы рухнувших самолетов, и мазутно-удушливая гарь подожженных танков, и кислый дым занявшихся соломенных деревень, и мешавшие дышать и видеть черные хлопья жарко пылавших июльских вызревших хлебов.
Этот обелиск, один из многих венчавших здешние холмы на так называемом северном фасе гигантского побоища, был моим заведомым ориентиром: я уже знал, что, как только миную его, начнется долгий спуск в долину, а пройдя насыпную гать через неказистый ручей, запутавшийся в череде и хмызе, стану снова подниматься на очередной узволок…
Однако же глазу близко, а битым ногам далеко. Да еще по такой распутице.
Какой-то двухскатный, хорошо обутый грузовик, видать, не из робких, не из слабаков — за рулем жох парень,— проследовавший ранее меня, судя по вензелям и вдавленным в грязь беремкам соломы, ох и повыл тут волком на предельных оборотах, ох и пострелял забитой грязью выхлопной трубой, набуксовался до резиновой гари, пошвырял выше телеграфных столбов черных ошметков, ну и, конечно, в чистом поле, никого не таясь, ох поперебирал-перечислил гласно, повязал в пучки всех местных районных, областных и небесных богов, подбожков и боженят, а когда и это не помогло, плюнул и чесанул прямо по зеленям, по хлебным малолеткам, оставив после себя разверстые канавы, уже успевшие кое-где налиться водой.
Потом нагнал меня тракторишко на больших лопоухих задних колесах, шаткий, валкий, весь в ржавых ссадинах и ушибах на голубой идиллической покраске, предполагавшей радовать глаз на райских колхозных просторах. Тракторок тускло мерцал единственной заляпанной фарой и с хрипом и храпом татахкал прогорелым задышливым мотором. На подозрительных местах он умерял бег, вычехивал из трубы несколько едких колец и с досадной скороговоркой, а может быть, и с матерком на тракторном эсперанто преодолевал черносметанные разливы, под которыми невесть какой глубины скрывались ямины и провалы. При этом скрипел, скрежетал и скоргыкал всеми своими застарело-ревматическими суставами и сочленениями, не знавшими смазки поди что еще от самого заводского двора и теперь уже не познающими ее до скорой его кончины. Голубая кабина опасно переваливалась с боку на бок, моталась из стороны в сторону, мотая внутри себя двух седоков, однако невозмутимо переносящих дорожные неудобства и как бы ничего не берущих в голову. Один из них, тот, что не крутил руля, что-то живо рассказывал приятелю, мелькая крупными сахарными зубами на раздольном расплывчатом лице с гуцульскими вислыми усами, то и дело поправлял и машинально пересовывал на кудлатой голове вязаный никчемный петушок.
Зажженные фары должны были означать, что трактор не один и что он влачит за собой нечто еще… И действительно, на крюке этого бедолаги болтался еще и двухосный прицеп, заваленный мокрой, чумазой бурачной ботвой, поверх которой задом наперед, застясь от ветров и выбросов грязи, сидело несколько баб. Они были плотно, матрешно одеты в расхожую одежку, сообщавшую им равнодушную недвижность и какое-то безразличие и к тряске, и к непогоде, и ко всему замутившемуся свету. Низко насунутые платки и полушалки треугольно обрамляли багровые, нахлестанные дождем и ветром недвижно-суровые лица.
«Вот он поехал, курский сахар,— подумал я о женщинах.— Каждый шестой кусок в общероссийской пачке!»
Приятно, конечно, на свежей скатерти в тонком стакане чайной ложкой болтать белый кубик. Но у нас эти облепленные грязью бураки, из которых потом выжимают сладость, и вообще всю эту кромешную, неразгибную до самых морозов, а то и не глядя на морозные колчи, мороку, на которую гонят и старого, и малого — от школьников до профессоров,— называют сладкой каторгой. Пойди так вот, как они, поворочай, почертоломь и тогда узнаешь, почем фунт пиленого…
— На Подсвирково правильно иду? — крикнул я прицепу.
— Правильно…— вяло отозвались бабы, нимало не пошевелясь, не поворотив в мою сторону толсто обмотанных голов.
— Далеко еще?
По-собачьи бездомно, заискивающе я посмотрел вслед тракторной колымажке. Хотелось, чтобы бабы посочувствовали сирому путнику, подобрали бы к себе в кузов, где хотя тоже муторно и неприютно, зато можно передохнуть и скоротать часть пути. Но, истраченные бурачной работой, прижатые друг к дружке усталостью и непогодой, утонувшие в своих думах, они не посочувствовали, не позвали к себе: был я им вовсе безразличен, как, впрочем, наверно, и все остальное вокруг.
Уступая дорогу трактору, я заранее свернул на обочину, и вскоре обнаружилось, что идти по дурно-травью легче, способней, если подминать подошвами жесткие стебли и нащупывать плотные, упористые корневые узлы.
Обелиск, высшая точка холма, серый четырехгранник, похожий на незабитую строительную сваю, оказался несколько в стороне от дороги, среди черной глыбистой пахоты без каких-либо человеческих следов к нему. Вымахавший чернобыл, не задетый плугом, буреломно скрывал подножие, надмогильную плиту. По простоте нравов крестьяне сюда не ходили, а городские казенные экскурсии едва ли соблазнялись столь отдаленным и малопримечательным мемориалом.
От этого места исподволь потянуло под уклон, и впереди за серым месивом туч, скорее интуитивно, нежели зримо, предугадывалась долина, обжитое междухолмье, где обычно в затишке и у близкой воды жались друг к другу курские селения. Будь бы тихая погода, уже отсюда, с верхов, слышались бы раздольные крики петухов, протяжный поскрип колодцев, доносило бы вкрадчивый запах печных дымов, манящих уютом натопленного крестьянского дома. Но нынче, в обломившееся ненастье, только и слышно, как подвывал сиверко за вздернутым капюшоном да время от времени принималась барабанить по спине въедливая морось.
Десятка два ворон шумно, заполошно вдруг поднялось впереди меня из придорожных зарослей и, натужно махая на ветру, кособоко перелетело на придорожный скирд. И тут только за бурьянами на извиве дороги углядел я малоприметную темную спину какого-то животного. Оказалось, это был понуро и недвижно стоявший жеребенок.
Я прибавил ходу, еще не осознав, не найдя объяснения, откуда и почему он тут, один в безлюдном поле на хлестком ветру — эта сеголетняя кроха, неуклюже большеногий, еще весь по-первородному плосконький, шаткий и неуверенный в себе, с жалконьким окомелком кучерявого хвоста, плотно притиснутого меж мокро блестевших ягодичек. Жеребенок никак не откликнулся, не пошевелился, даже не покосился на хрусткий шум моих сапог, торопливо давивших жесткое, окостенелое чернотравье. Голова его так и осталась низко опущенной, маленькие, трогательно-детские ушки отрешенно прижаты, а глаза сокрыты опущенными веками в долгих ресницах.
— Кось! Кось! Кось! — еще за несколько шагов протянул я руку и негромко, вкрадчиво позвал совершенно забытым словом, не слышанным со времен моего детства и так внезапно, самопроизвольно и легко всплывшим вдруг из завалов памяти: — Кось! Кося! Косечка!
Но тут же запнулся и умолк, увидев на открывшейся дороге у ног жеребенка громоздкое и безвольное тело взрослой лошади.
Она лежала, запрокинув на травяную обочину тяжелую костистую голову с огромными островыпиравшими салазками и ощеренными желтыми, скошенными вперед резцами, из-за которых вывалился долгий посиневший, искусанный язык. В натужно выпученном окровенелом зраке еще что-то мерцало, взмелькивало зеркальным бликом, должно быть, отраженные мятущиеся небеса. Само же тело почти наполовину засосало жидкой дорожной хлябью, а то, что возышалось над лужей — большой бурый ребрастый короб и иссохший костлявый крестец,— было густо заляпано земляными лепехами. Видно, перед тем, как испустить дух, коняга еще пыталась встать, отчаянно вскидываясь, била и скребла широкими разношенными копытами, разбрасывая вокруг себя и на себя грязные ошметки. А может, и машины захлестали.
— Как же так? Как же это? — убито, потерянно недоумевал я, озираясь и невольно ища окрест какую-нибудь человеческую душу. — Ах, несчастье-то какое!
В смятении не сразу я заметил, что на лошади осталась замызганная ременная узда с забытыми во рту железными удилами. А еще на ней оставалась упряжная изветшалая седелка с нерасстегнутой на животе брезентовой подпругой, следовательно, были при ней и хомут, а стало быть, и телега тоже… Но хомут как очевидную ценность успели-таки сдернуть и увезти вместе с телегой, следы от которой я вскоре обнаружил в траве.
— Не бойся, не бойся, маленький,— я притронулся к жеребенку и осторожно провел ладонью по его мокрой и стылой спине. Он содрогнулся, и волна ознобной дрожи пробежала под моими пальцами.— Ну, не надо, не надо бояться. Вон как тебя затрясло. Где же твой хозяин? Как это он оставил тебя, такого кроху, одного?
Я несколько раз еще провел рукой по хребтинке, потрепал по мордашке, и жеребенок вроде бы перестал робеть, успокоился, и только волны дрожи прокатывались по всему тельцу.
— Небось сам виноват. Вон ты какой натурный. Поди, собирались и тебя забрать заодно вместе с телегой, а ты, браток, не послушался, не захотел от мамки уходить да и дернул небось от хозяина. Ну, а он ждал-ждал тебя да и уехал. Не станет же он за тобой по чернопаху гоняться. Вот он отвезет телегу, соберет подмогу и явится за тобой. Одному с тобой не совладать. Ты ведь вон какой упорный, неуступчивый… А то знаешь, что? Давай, браток, со мной. Давай вместе пойдем… Тут совсем недалеко. Под горочку, под горочку — вот тебе и пришли, а?
Я обхватил жеребенка за шею и легонько, но настойчиво колыхнул его, с усилием потянул на себя. Но тот вдруг весь напрягся, упористо воспротивился.
— Ну вот видишь, ты какой… Чего же ты не идешь, глупый? Чего ждешь? Вон как промок, нахолодал. И не ел, не пил невесть сколько. Пойдем, а? Не поднимется она теперь, твоя мамка, понимаешь? Не накормит теплым сладким молочком. Если не догадаются люди оттащить от дороги и закопать, изорвут ее лисы и бродячие собаки, исклюет воронье. А остатние кости ночные «камазы» да трактора затопчут в грязь. Пойдем отсюда, голубчик. А то и ты тут окоченеешь. И тебя зверье разнесет… Вон, видишь, вороны уже сидят, дожидаются…
Опять я попробовал подвинуть жеребенка, заставить его уступить мне хотя бы один шажок в надежде вывести его из этого скорбного оцепенения. И снова, как и тогда, он напрягся всем тельцем, не поддаваясь моим намерениям. И когда я еще решительнее притянул его к себе, он вдруг вскинулся, издал какой-то слабый, тут же иссякший голосовой звук, неудержимо забился в моих объятиях и, опрокинув меня, отбежал прочь.
— Ну ладно, ладно, успокойся! — бормотал я, обтирая вывоженные в грязи ладони пучком травы.— Успокойся, не буду больше…
По глубоко разверстому следу, крутым обводом обогнувшему лежащую лошадь, нетрудно было понять, что тут только что прошел тот самый голубой трактор с прицепом. Стало быть, тракторист и сидевший рядом с ним парень в чепчике видели одинокого жеребенка. А еще лучше, если бы его увидели прицепные бабы.
— Бабы — те не промолчат,— говорил я жеребенку.— У них больше сердца. Непременно отыщут твоего хозяина. Будь уверен! Накинутся на него: ты что же, скажут, такой-сякой, сидишь в теплой хате, щи хлебаешь! Забыл, что ли, что жеребенок твой один в поле под дождем стоит? Скоро ночь нагрянет, а ты тут штаны просиживаешь… А то и до самого председателя доберутся: мол, как же так… На вашей же земле конь пал, надо что-то с этим делать. Хорошо бы, председатель, народ кликнуть. Несчастье-то какое… Жеребеночек-сиротинушка середь поля от невзгоды гинет. Так и скажут по-бабьи: сиротинушка…
Стало вкрадчиво, исподволь вечереть. На востоке, куда весь день устремлялись тучи, скопилась плотная аспидная затемь, на западе же, у самого горизонта, вдруг прорезалось узкое и багровое лезвие зари. Уж не на мороз ли? Мне надо было уходить, пока вовсе не стемнело и еще можно было различать дорогу, и я, смиряясь с этой необходимостью, ради своего оправдания отправился к скирде и, распугивая ворон, швыряя в них комья вспаханной земли: «Кыш, кыш, стервятницы, настырное племя, ружья на вас нету!» — принес большой беремок соломы и расстелил его рядом с жеребенком.
— Вот, полежи, пока сухая. Сколько можно так вот стоять? Ложись, не упрямься. На соломе оно теплее. Да и ночь, вот она скоро. А мне, извини, идти бы надо…
Однако, небрегая моей заботой, жеребенок неприязненно отодвинулся от разостланного ворошка.
— Зря ты так… Напрасно… Ну, я тогда пойду, а? — Моя просьба прозвучала приниженно, виновато.— Ничего не поделаешь. Будь умницей, а я пойду и скажу там кому надо… Все будет хорошо, малыш! Все будет хорошо… Ну, пока! Пошел я…
Вынув из кармана яблоко, я положил его на солому — приметно бордовое на золотистой желтизне,— и, сделав над собой усилие, чтобы совершить эти первые шаги прочь, я потом с излишним усердием зашагал обочиной под уклон.
Заплескивая на придорожные бурьяны грязь, переваливаясь и заносясь замызганным задом в какой-то лихаческой спешке, вскоре меня нагнал брезентовый «газик». Я поднял было руку, но шофер, молодой парень в хорошей меховой шапке, мимолетно и равнодушно взглянув в мою сторону, снова озаботился дорогой. Но как сказано — бог шельму метит — спустя не так уж много времени я догнал заносчивый «газон», круто завалившийся на левый бок, так что распахнутая дверца нижним углом уперлась в глыбистую колдобину. Раздетый, в одном только пестро раскрашенном свитере, шофер брезгливо ковырялся лопатой под передним бампером.
— Помочь, что ли?
— А-а!— досадливо буркнул парень, не разгибаясь.— Чем ты мне поможешь?
— Ну как… Голова — хорошо, а две лучше…
— Тут не головой… Тут… поршнями надо… если не подгорели… Ты вот че, ты давай подопри сзади, а я попробую вырулить…
Не с первой и не со второй попытки, но мы все-таки вытолкали «газик» из бездонной колеи, и парень, приоткрыв дверцу, сам предложил повеселевшим голосом:
— Давай садись, что ли?
Подобрав полы плаща, я забрался в «газик» и сел рядом. Кроме шофера, в машине больше никого не было. На заднем сиденье небрежно валялась кожаная куртка, густо разившая одеколоном.
— Тебе куда? — все с той же бодрецой спросил шофер.— Не в Подсвирково ли?
— Ага…— кивнул я.
— Ну тогда в самый раз. Я тоже туда.
Он включил фары, но от низкого неверного света расквашенная дорога стала казаться еще неприглядней и непроходимей.
— Во развезло! — прокричал парень, напряженно вглядываясь в ветровое стекло, по которому со скрипом ходил туда-сюда «дворник», соскребая мутные набрызги.— Со станции часа три пилю. Посуху минут двадцать ходу, а я в обед выехал, а доси еще не дома… Сколько счас? — Он взглянул на ручные часы.— Ну, все правильно: начало пятого… Сегодня, говорят, по телеку кинцо клёвое… Не лопухнуться бы ещё… Уже раз пять залетал, лопатой ковырялся.
— Тебя как зовут-то? — поинтересовался я.
— Толик, а что?
— Да хотел спросить: ты вот ехал мимо — жеребенок стоит?
— Какой жеребенок? — не сразу врубился Толик.— А-а! Который возле дохлой кобылы? Да я как-то не глянул. Дорога — сам видишь: некогда зевать по сторонам. А когда утром ехал — видел: стоит. Да он и вчера стоял. Я нашего бухгалтера с рапортичками возил, дак смотрю — стоит. Во чудак! Мимо машины идут, а он ноль внимания.
— Но и люди на него тоже ноль внимания. Есть у него какой-нибудь хозяин?
— А-а! Хозяин! — дернул плечом Толик.— Есть тут у нас один… Степка Пупок. Правда, живет он не у нас, в Подсвиркове, а за горой, в Козодоях. Он и подобрал эту кобылу летом в посадках. Уже с жеребенком. Ничейная она была.
— Как это ничейная?
— Ну как… Нигде на балансе не состояла,— засмеялся Толик.— Вроде как без прописки… Шаталась по полям, по ракитникам. Вся в репьях… Жеребенка где-то себе нагуляла. Все ее Катей блудной называли. Была у нас одна такая, Катька блудная, дома не жила… Ну вот… Пупок возьми и обратай эту Катю. Привел к себе во двор. Баба его в рев: мол, самим есть нечего, а ты еще нахлебницу приволок да с дитём-коседенком… А он знай свое: где-то на хоздворе высмотрел телегу, вытащил из-под стародавних лопухов. Должно, валялась еще с хрущевских времен, когда всех лошадей порешили, а телеги позабросили. Ну и стал Пупок подрабатывать себе на бутылку. Кому картошку подпахать, кому глины подвезти на обмазку… Вернее, денег не брал, а чтобы сразу натурой. От этой натуры он почти не просыхал… Ну, а когда жахнет, любил лихо прокатиться. Упрется стоймя на телеге, разгонит Катю лобазиной и орет: «Эх, с налета, с поворота, по цепи врага густой!..» Это его любимая была. Один раз вот так орал на плотине да из телеги прямо в пруд загремел…
Под фарами зловеще заблестел еще один грязевой разлив, и Толик, замолчав, сосредоточенно минул подозрительное место.
— А гляди, лужи-то затягивает! — оживился он.— Вишь, воду стеклом кроет. Это хорошо. Хоть грязь подберет! Да… А на той неделе, значит, к Пупку какой-то друг залетел. Из Сибири, что ли… Откуда-то из тех далеких мест. Я его однажды возле нашего сельпо видел: в большой собачьей шапке, мешки под глазами, а сам худой, дерганый… И пошел у них дым винтом! Сколько-то дней гудели. Пупкова баба жаловалась: всех кур на закуску порешили… Одной курице, говорит, Пупок топором по шее не попал, промахнулся да пополам и перерубил. Прямо в перьях!.. Тут утром хватился друг, оказывается, билет у него на обратный самолет. И садиться на самолет надо в Москве. А время — в обрез. Ну, Пупок в момент заложил Катю в оглобли, усадил друга в телегу и погнал «с налета, с поворота по цепи врага густой». А оно вон как развезло, ног не вытянешь. Чернозем! А ехать-то в гору! Тягун — километра на три! Уже на самом верху Катя и сунулась мордой в грязь. Что-то в ней лопнуло. Сердце, что ли, не выдержало. У них тоже небось инфаркты бывают.— Толик кинул на меня усомнившийся взгляд.— А мы про это ничего не знаем. Лошадь да и лошадь, а чего у нее там… Это ж тебе не машина: отвинтил, продул, смазал и опять поставил. Да и отвыкли мы теперь от лошадей. Сознаться, я ни разу не запрягал и не знаю, как это делается. Верхом, правда, один раз под этим делом пробовал. Больше закаялся: как на заборе посидел. Прошло это все — хомуты, телеги. И нечего теперь к ним возвращаться, я так понимаю. Во, под капотом сразу шестьдесят серо-бурых скачет, стучит копытами в четыре такта. Верно я говорю? — убежденно переспросил Толик.
— Как сказать… Не все живое заменишь машиной. Особенно живую душу… Ну и что Пупок?
— А Пупок с другом то ли изловили попутку, а может, и пешки утрехали до станции. Ну, и с концами. Жена говорит, Пупка доси нет дома. Должно, в штопор вошёл, в загул ударился.
— А кто у вас председателем колхоза? Может, он как-то распорядится? Нехорошо: лошадь пала на дороге…
— Не-е!— мотнул ондатровой шапкой Толик.— Его это уже не касается. Это ж я его сегодня отвез на станцию. Вот еду обратно. А он теперь уже далеко. Поехал в Гагру отдыхать. Он от всех нас,— засмеялся Толик.— А мы от него… Нет, я ничего такого… Вообще-то он мужик сходный. Со мной по-хорошему: «Толик, Толик». А все равно друг другу поднадоели. Я тоже с завтрашнего дня в отпуске. Дудки: до пятнадцатого октября никого и ничего не знаю.
— Ну, а председатель сельсовета? — попытался я удержать разговор, от которого непринужденно уходил Толик.
— Яков Андреич? Он сейчас не выходит, дома сидит.
— Что значит — не выходит? А как же сельсовет?
— А так: ногу подвернул. Сидит, йодом намазанный.
— Ну, если йодом намазанный… Понимаешь, Толик, какая штука. Я так думаю: если лошадь убрать с дороги и закопать, то жеребенок, наверно, сам побежит… Его ведь мать держит… А то давай с тобой… У тебя как раз машина. Ну, еще кого-нибудь прихватили бы из твоих дружков да пару лопат. Отступя, выроем яму, лошадь подцепим тросом… На полчаса дела.
— Че ты все ко мне? — вдруг осерчал Толик.— Я уже во как наковырялся лопатой! С шести утра как сел, так и теперь баранку накручиваю. Если на то пошло, то кобыла эта не из нашей даже деревни. Из Козодоев она, сказано. Так что мы тут ни при чем. Пусть у Пупка голова болит. А то как на кобыле гонять, так он чапаевец, а как закапывать — почему-то я. Вот с него пусть и спрашивают. И вообще я с завтрашнего дня в законном отпуске. Пошли вы все…
Толик нагнулся к приборной панели, чем-то решительно щелкнул, будто обрубил разговор, и «газик» враз осыпало изнутри громкими, колючими, всепроникающими звуками рока.
Высадил он меня на каком-то подсвирковском выгоне, сказав, что бензин у него на пределе и дальше он никуда не поедет.
В сумерках я пересек затравенелое, подмороженно хрустевшее пространство, в конце которого прямо на уличную хлябь роняли теплый ледовый свет большие окна деревенской школы. Занятия, видно, только что закончились, и школьная дверь то и дело пушечно ахала, выпуская шустрых ребятишек, которые, скатываясь с освещенного крыльца, черными жуками ныряли в уличную темноту и, гомоня и горланя, разбегались во все стороны.
От этих мальчишек я и узнал, что человек, к которому я ехал, тот самый Мохов Павел Кондратьевич, на прошлой неделе скончался. Выходило, что весь мой поход в Подсвирково совершен напрасно. Бессмысленно стало теперь тащиться по темным непролазным улицам села, искать дом Мохова, что-то объяснять незнакомым людям, тем более выспрашивать у них какие-то бумаги, о которых они, скорее всего, не имели ни малейшего понятия. Все эти мои размышления в конце концов привели меня в школу, чтобы попроситься переночевать.
В передней меня встретила школьная нянька, изготовившаяся мыть полы,— угрюмая тощая старуха, вся в сером, в глубоких галошах-бахилах на босу ногу. Она недружелюбно осмотрела мою замызганную, неавторитетную фигуру—плащ, сапоги, дерматиновую сумку с кое-какой едой — и на вопрос: есть ли кто еще в школе, не сразу и нехотя, будто сквозь зубную боль, пробубнила, что директор пока не уходил, но что он занят — у него комиссия из района.
— А нельзя ли его позвать на минутку? — спросил я, сняв кепку и проводя растопыренной пятерней по бурелому волос.
— А тебе на шо?
— Надо.
— Мало шо надо,— строго осекла меня старуха.
— Из области я.
Нянька еще раз пристально, по-таможенному оглядела меня:
— Тожа комиссия?
— Ага… Вроде…— соврал я, чтобы упростить, ускорить переговоры.
Старуха молча поставила к стене швабру и, шаркая бахилами, ломко, ходульно, переваливаясь из стороны в сторону, приволакивая одну ногу, пошлепала в глубь коридора.
Вскоре, обгоняя старуху торопливыми шажками, объявился директор — маленький, округлый, весь взопревший, с расслабленным на груди галстуком, словно бы выскочивший из парилки, где его только что отхлестали березовым веником. Он был влажно причесан на низкий пробор, позволявший часть волос из-за левого уха перебросить на просторную распаренную лысину.
Подходя, директор еще издали уставился на меня тревожно округленными серенькими дошкольно-детскими глазками, изготовясь к любым неприятностям.
— Директор подсвирковской средней школы,— настороженно произнес он,— заслуженный учитель.
Узнав, однако, что я никакая не комиссия, как донесла ему нянька, не ревизор, не еще одна крючконосая птица на его голову, а что, напротив, надобности мои самые простые и безобидные, директор оживился и протянул мне короткую, полную, похожую на икряного подлещика ладошку, которая оказалась влажной и горячей от какого-то внутреннего напряжения, исходившего от всей его рыхлой фигуры.
— Посошков! — прибавил он почти дружески и обернулся к старухе: — Пегаша! Пелагея Петровна! Проводи вот человека в учительскую. Постели на диване. Чтоб все было хорошо. А я, извините, побегу. У меня там комиссия — бумаги, бумаги… Куда только уходит человеческая энергия!.. Ну, располагайтесь… А может, чаю? Пегаша, сделай, пожалуйста…
Мне постелили на просторном клеенчатом диване с высокой спинкой, снабженной полочками и потайными ларцами. Я уж и забыл, что подобные мебельные мастодонты существуют. Они были в ходу еще в сталинские времена, всей своей неуклюжей помпезностью как бы долженствовавшие олицетворять уют и благоденствие тогдашнего бытия. С полочек свисали какие-то долгие растения, похожие на поникшую картофельную ботву.
Умывшись и попив чаю с чабрецовой заваркой, я уже начал было приноравливаться к лязгающему пружинами дивану, когда в дверь учительской вкрадчиво постучали. Я откликнулся, и в комнату, неся себя на носках, вошел директор.
— Ну, как вы тут? — спросил он, смирив голос до заговорщицкого шепота.— Все в порядке? Мы наконец тоже пошабашили. Вернее сказать, отложили до завтра. Проверяющие только-только ушли. В правлении есть комнатка для приезжих… Такая вот канитель.
— И что они проверяют? — поинтересовался я. Что-нибудь серьезное?
— Обычное дело: заявления, доносы… С утра ничего не ел. И не хочется. Вот иссосал полпатрона валидола…
Посошков присел на краешек дивана, у моих ног, но и оттуда чувствовалось, как он разгорячен и как все его округлое тело пышкало реакторным жаром, еще не погасшим после ревизоров.
— И все такая чепуха! Такая злобная неправда! — библейски вскидывал он обе ладони сразу.— Вот, например, пишут, что я незаконно пользуюсь школьным садом. Слова «как своим собственным» дважды подчеркнуты. И будто бы видели, как мой тесть продавал яблоки на станции… Какие яблоки? Какой тесть? Тесть мой едва переступает на костылях, и то только до нужного места… Это какая-то повальная болезнь — писать друг на друга: сосед на соседа, родитель на учителя, учитель на директора… Наверно, ни в одной стране не пишут столько доносов!
Посошков поднял с пола уже остывший чайник, жадно отпил из носика.
— Я вот все думаю: откуда это? Почему человек так озлобился? Отчего старается сжить со света ближнего своего? Ей-богу, все это — от утраты верного дела, от поголовного холопства, сплошного иждивенчества, выглядывания и ожидания какой-либо подачки. Все ревниво следят друг за другом, чтобы кому-то не перепало больше — без очереди или не по чину… Вот, пожалуйста, завтра снова соберутся и станут распинать меня за то, что кому-то померещилось, будто в моей миске оказалось лишку. А, да ладно! Что я вас окунаю в эту грязь? Кстати, как вы к нам добирались? Вон как развезло!
— Грязи вам не занимать,— согласился я.— Добирался по-всякому: где пешком, где с оказией. На машине ничуть не быстрее. Особенно в гору.
— Да, у нас тут холмы, холмы, холмы… Гималаи! Местная Азия! А еще досаждают трактора, грузовые машины: безжалостно превращают дороги в сплошное месиво. Получается заколдованный круг: ехать надо, но нельзя, а ехать все-таки надо… Калечится техника, на дым и ветер расходуется горючее при общем голодном пайке на него… Не дороги, а сплошное беспутство! Нельзя, но надо — так не только ездим, но так вообще живем…
— Между прочим,— сказал я, стараясь заглянуть директору в глаза,— там, наверху, как раз недалеко от обелиска, пала лошадь. Прямо в непролазную топь. И возле нее совсем крошечный жеребенок. Вот закрою глаза и вижу, как он понуро стоит над материнским трупом. Мимо проезжают машины, люди — и никакого внимания.
Посошков, выслушав меня, все ниже нагибал голову, и, когда я тоже замолчал, он еще долго сидел склонегшо и обездвиженно.
— Да, это у нас бывает,— проронил он куда-то в отвороты пиджака и, приподняв голову, бросил на меня скорбный, виноватый взгляд, будто ожидал пощечины.
— Но как же так?
Директор не стал отвечать. Он сидел совершенно недвижно, отрешенно, наглухо уйдя в себя. Потом тяжело, затрудненно поднял свое как-то вдруг обмякшее тело:
— Извините… Что-то барахлит сердце. Весь сегодняшний день. Вот иногда тоже: жить нечем, а надо, жить надо, а вот как сейчас — нечем…
И трудно пошел, пришаркивая подошвами.
У двери, однако, обернулся:
— Вы правы: безобразный случай. В прежние времена ни один земледелец не позволил бы себе такой безнравственный поступок. Ужасающее пустодушие. Но мы что-нибудь придумаем… Надо что-то придумать… Впрочем, завтра ведь воскресенье. Никого не найдешь. А у меня опять комиссия… Ну да ладно, отдыхайте. Можете рано не вставать: завтра занятий не будет… Так что спокойной вам ночи.
Я долго не мог заснуть, как всегда на новом месте. Где-то за полночь в окно вызрелась луна — обмытая, сиятельно начищенная тучевой ветошью. Вокруг нее угодливо обозначился легкий прозрачный нимб.
Набросив одеяло, я подошел к окну.
Мир холодно сиял в морозном оцепенении. Стеклянно отсвечивали лужи на пустыре, мерцали обмерзшие столбы и деревья, плоскости крыш, папахи сенных копнушек на задворках.
Подсвирково оледенело забылось до утренней суеты.
А за селом, за плоским его разбродом по обе стороны ручьевой долины, неожиданно развернулись окрестные взгорья, которые, пока я шел, не были видны за ненастной мглой, а только чувствовались по сбитому дыханию. Сейчас они походили на чьи-то седые, заиндевелые исполинские спины. Ночной мороз выбелил на них старое жнивье, забурьяненные межи лоскуты озими, выжал влагу и обсахарил вывороченные глыоы вспаханной земли, и все это слилось в мерзлую всклокоченную шерсть, покрывавшую земные горбы стыло мерцавшие стадным скопищем в разливах лунного света. Холмы, холмы…
Где ты там, невскормленное дитя, Кося-коседенок один-одинешенек в ночи, среди этих безлюдных холмов иззябший, покрывшийся морозной солью, мужественно и безропотно принимающий свою судьбу?..