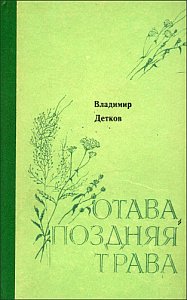
Повесть посвящена нелегкой судьбе колхозницы Полины Осокиной — матери шестерых ребят. Трудна ее жизнь, ее любовь, но не ожесточилось ее сердце от тягот и обид, Полина живет интересами и заботами родного села, гордится его победами.
Полина Осокина лежала в темноте с открытыми глазами на широкой кровати-двуспалке. Она только-только очнулась от жуткого удушливого сна — что-то огромное, безликое накатывалось, наплывало на нее… Хочет руки поднять, оборониться — и не может, не слушаются руки. Хочет криком крикнуть, на помощь позвать — не идет из нее голос… И уже сознает, что не спит: сон отступил в темноту, но тело также неподвижно и беспомощно, словно чужое. И она с затаенным испугом не решается пошевелить ни рукой, ни ногой: а вдруг не послушаются.
Откинула с себя стеганое одеяло — задышалось вольней, и сердце с галопа сошло. Одни руки не стихли, не унялись. Погудывают, мозжат, словно из них жилочки потягивают, выкручивают. И не больно вроде, а маетно, хоть плачь.
«Ага, почуяли непогоду», — мысленно окликнула руки свои, различив за окном ровный шум дождя.
Хоть и подменной дояркой третий год ходит, все же полегче, и механическую дойку наладили, а поди ж ты — не отпускают «коровьи боли». Лиза, фельдшерица, мазь специальную выписала, массаж велела проводить. Да как его проводить — сама толком не знает. Сегодня с утра до вечера бураков покидала, вот и весь массаж. Домой пришла — добавила…
С поля возвращалась ближе к сумеркам. Недоеная корова поревывала на дворе. Овцы жались к забору, выщипывая остатки зелени, проглядывающей с огорода. Из закута подсвинок голос подавал.
Значит, и Оксана еще не пришла, коль скотина беспризорная. Хоть и знала, что дочь задержится, а все ж рассерчала. И на усталость свою, и на домашнюю неуправу.
Школьники до обеда тоже в поле были. Комбайн сломался, пустили подъемник, а он только подпахивает рядки свеклы. Вот ребята и дергали ее и в кучки-фонари складывали. Потом школьников прямо в поле покормили молоком с хлебом. Младшие по домам разошлись, а восьмой класс — на занятия. Новый директор не хотел, чтоб выпускники отставали в учебе.
— Дак и все одно пора, чего они там, поди, голодные, — уже так, отводя раздражение от сердца, сказала она корове, пропуская ее в хлев. Красавка осуждающе мыкнула, влажно и тепло дохнув на хозяйку. — Ну-ну, ты-то хоть не серчай, — похлопала корову по шее, по крупу, как повинилась.
Ласковость голосу придала, и в душе отозвалось, отлегло. Привычно заметалась по двору. Овец в хлев загнала, сена охапку раструсила им в кормушку — набросились, будто и не паслись целый день. Подгоняемая поросячьим повизгиванием, в хате плитку растопила, запарку поставила. Этот привереда в холодном чавкать не станет. Побежала к колонке за водой. Воды принесла, ведро Красавке выставила. Запарка подоспела, натолкла вареной картошки да бураков с половой — поросенка угомонила. Проверила кур — все белые с петухом на насесте, только черной нет.
— Неужто опять за свое?! — вслух изумилась Полина и поспешила за сарай. Так и есть, сидит.
В укроме промеж стенкой сарая и сенным стожком, в метре от земли Грачиха устроила себе потаенное гнездо-норку и шмыгала туда всякий раз, как только обстоятельства понуждали к тому. А обстоятельства явно не благоволили к ней. Была она самой настоящей отщепенкой, своего рода черной куреной в белопером стаде. Всяк ее клевал и гонял, кому не лень. Похоже, остальные куры считали своим долгом пугнуть ее от кормушки или просто с глаз долой, посмей объявиться поблизости. Да еще клювом достать норовили. Только это им редко удавалось. Грачиху выручали ноги — зауморышная и щуплая, она всегда была настороже. К месту кормежки подкрадывалась либо последняя, когда там никого уже не было, либо, клюнув два-три раза, тут же пускалась наутек. Убегала молча, как будто знала, что на ее крик о помощи никто не откликнется, не защитит. Даже петух, природой назначенный оделять всех однодворок должным вниманием, сторонился Грачихи. Вернее, куры ревниво не подпускали их друг к другу.
В отличие от других кур, которых никак не звали, у черной было с полдюжины кличек — и Чернуха, и Цыганка, и Шмыга, и Проныра, и даже «Гадкий куренок» по аналогии с известным сказочным утенком, о котором читали в свое время все пять дочек Полины, а она слушала и всякий раз переживала заново судьбу никогда не виданной птицы. И на душе делалось неспокойно, и слезы подступали сначала от жалости к маленькому горемыке, а потом и от радости за чудесный исход сказки.
Но с Грачихой за два лета никаких чудес не произошло. Даже цыплята к осени обгоняли ее в росте и по примеру старших задирали Грачиху. И она принимала это как должное, уступая им во всем, словно чуя за собой главную провинность — несла она мелкие смуглые яйца, чуть больше грачиных. По здравому деревенскому разумению, которое не позволяет хозяину разводить всякую декоративную живность потехи ради, такую несушку давно бы следовало пустить под топор, да рука у Полины не поднималась: дети — и Оксана, и меньшой Павлушка — привязались к Чернушке. Подкармливали ее отдельно. Она у них и с рук брала и чувствовала себя возле них под защитой: никто не смел на нее напасть в эти минуты. К тому же ребята в один голос заявили, что яйца Грачихи самые вкусные. Была ли то неосознанная детская хитрость или впрямь яйца были особые, Полина, пожалуй, не смогла бы ответить, но к ребячьей привязанности относилась с пониманием: слабого, убогого защищают.
Однако нынче утром, завидев Грачиху на яйцах, Полина всплеснула руками: этого еще не хватало. Перед тем Грачиха дня два ходила по двору как безумная, квохча и ерошась, и не обращала никакого внимания на своих гонителей. Да и те не приставали к ней, видно, по-своему понимая ее состояние.
— Все-то у тебя не как у нормальных, — высказала Грачихе, — кто ж на зиму глядя цыплят высиживает? На погибель только… Э-эх, неразума…
Сняла квочку с гнезда, окунула пару раз в ведро с водой и перебросила через плетень в огород: «Поди проветрись…»
И вот на тебе, она снова за свое. В сердцах выхватила Полина квохтунью из гнезда, покупала ее в воду, а потом сунула под опрокинутую старую кошулю, пнем торчавшую посреди двора.
— Вон дождь заходит, он тебе за ночь дури поубавит, — бросила сердито и пошла корову доить. Под мерное чвирканье молочных струй раздражение поулеглось и дочку встретила без упреков, потому как сама чувствовала себя неловко за крутое обхождение с Грачихой. Да и какие могут быть упреки, если дочка прямо на шею бросилась:
— Мамуля, меня в комсомол приняли!
— Тихо ты, тихо, комсомолка… Молоко разольешь,— ласково окорачивала Полина дочь, а сама, нежнея сердцем, подумала: «Вот ведь юность-молодость, — усталая, голодная, а как радуется, через край плещет». — Выросла, выросла, невестушка, — приголубила дочку.— Поди-ка сцеди вот…
Передавая подойник с молоком дочке, с опаской покосилась на плетушку, где томилась ее любимица. Только б голос не подала, глумная. Не хотелось Полине дочку огорчать. Она тут же вызволила бы Грачиху да еще мать пожурила б за насилие над природой… Подозревала Полина, что дочь в сговоре с Грачихой. «Небось подкладывала яйца в гнездо, там и два крупных лежат, – припомнила. – В таком разе и прибрать их не, след, заметит — обидится…»
«Вот и Оксанушка до комсомола доросла, — ухватилась Полина за радостную новость отошедшего дня.— Выходит, шестой комсомол переживаю вместе с дочками. Свой-то совсем короткий был…»
Замужней стала шестнадцати лет от роду. Сане в армию уходить на три года, вот и сыграли свадьбу. А там месяц медовый — и «застучали по рельсам колеса», как в песне поется. Только Саня на грузовике от райвоенкомата отъезжал. В остальном же по песне — «помнить буду, не забуду…» Для Полины тогда это было смыслом жизни: помнить и ждать. В порыве верности безоглядной ей, глупой девчонке, даже в месяц медовый иногда хотелось, чтобы Саня скорее уехал, и тогда все узнают, как любит она его крепко и как умеет ждать. Еще не ведая номера полевой почты, Полина каждый день писала Сане по письму и складывала треугольнички под подушку, а потом разом пустила к милому целую стайку голубков, как сны и желания свои. Сколько радости было ему, когда они вдруг залетели, в казарму солдатскую… «Прочитал твои письма и будто из дому не уезжал», — написал ей Саня в ответ и много ласковых слов прибавил к тому.
Пожалуй, за семь школьных лет Полина не исписала столько тетрадей, сколько пошло их на треугольнички армейские. Писала даже на обложках. Свекровь ревниво дивилась: «И о чем можно писать каждый день?» Но видно было, что ей по душе такая привязанность невестки к сыну. И с улыбкой отпускала ее на почту отправить очередную весточку в далекую Сибирь, где служил Саня. Но если Полине случалось при этом где задержаться — в клубе ли, в библиотеке, свекровь подозрительно оглядывала ее с ног до головы. А после первого же комсомольского собрания и репетиции в клубной самодеятельности она так прямо и заявила: «Негоже мужней жене по сходкам и гулюшкам точно девке бегать. Оно и письма можно с почтаркой отправлять. Ей все одно на почту вертаться».
«Хорошо, мама», — смиренно ответила тогда Полина, сдержав обиду.
На том и кончился ее комсомол. Позже свекор, прознав об этом, стал выговаривать жене и отправлял Полину на собрание, да она уже и сама не пошла: подходило время первую дочку рожать. К тому же свекровь слаба здоровьем была, часто прихварывала, и все домашнее ладилось руками невестки. Полина и не роптала. Ей в радость было хлопотать с животными на ферме и дома, копаться в огороде, тетешкать дочку, полноправно хозяйствовать у печи. Даже гордилась, что ни в чем ей попреку нет. Приедет Саня — полюбуется на нее, какая она работница и верная жена, и еще крепче полюбит.
Тогда казалось, и сносу ей не будет: нигде не кололо, не ломило, а теперь вот и руки запели. И спина уж-не та — везти еще везет, да поскрипывает. Так ведь и пора — пятый десяток разменяла, шестерых родила…
Приехал Саня через два года на побывку. Но для Полины это был такой праздник, что второго такого и не припомнит. Дни и ночи сладким сном промелькнули. Ни наговориться, ни наглядеться, ни намиловаться не поспели. Вот уж когда ей не хотелось ни минуты уступать ни службе ни дружбе — старалась рядом с Саней быть, и он, видно ж было, радовался, и каждому взгляду ее, и голосу, и прикосновению.
С теми деньками и медовый месяц не сравнится. Светло Светланка зарождалась. Проводила Полина мужа, и не было никаких сомнений, одно только желание билось в ней: поскорее прожить этот год разлучный.
Прожили. Из армии Саня к двум дочкам вернулся. Отдохнул с недельку, поплотничал с отцом в бригаде. А что плотничать, если в колхозе ни бревна ни доски? Снаряжали как раз бригаду на лесозаготовки в Кировскую область, уехал и Саня.
Тут уж лишилась Полина покоя: столько ждать — снова разлука. Хоть она теперь не годами измерялась, а месяцами, душа противилась, не могла принять и смириться. Свекор чуял ее молчаливый протест и успокаивал: «Потерпи, Полюшка, очень надо для общего дела…» Свекровь, хотя и сама не больно радовалась отъезду сына, почему-то считала необходимым острожить: «Ничего, еще намилуетесь. Двоих вон намиловали, даст бог, и еще поспеете. А у мужика на шее нечего виснуть, не мешай мужские дела справлять…»
Знать бы свекрови, как всю жизнь потом будут стоять меж ними эти слова. Нет, Полина простит ей, и не только это, да сама она себе не сможет простить…
Неспроста душа Полины маялась, неспроста. Вскоре и вести недобрые пришли с Урала: Саня крепко повздорил с бригадиром и ушел из колхозной бригады на вольные хлеба, в другую артель, которая трудилась не ради леса насущного, а деньгу заколачивала. В письме Саня во всем обвинял Михея, так по-уличному звали бригадира Семена Михеева, мол, раскомандовался он тут, а командовать мы и сами умеем. Свекор мрачнел, читая письмо.
— Михей, конечно, мужик властный, любит, чтоб ему кланялись и не перечили. К такому за добром не ходи с ведром, от него и в горсти нечего нести. Но и Санька, видно, гусь хороший, — сказал тогда свекор и с неодобрением повторил фразу из письма, как передразнил, — командовать мы и сами умеем. Тоже нашелся командир лычковый (из армии Саня вернулся сержантом, командиром отделения был). Покричал солдатам «направо» да «налево», понравилось, что слушаются, ну и пошел гоголем…
Полина хорошо помнила рассказы мужа о том, как любили и уважали его солдаты, какие благодарности от своего начальства он получал за отличную службу, гордилась им и не очень-то поняла недовольство свекра. В душе она целиком приняла сторону свекрови, которая следом за сыном обвиняла во всем «бирюка Михея».
Но тревога не проходила. Развеял ее на время Саня, заявившись по весне домой круглым победителем,— при деньгах, в новой шапке меховой, в новом пальто, в хромовых сапогах с галошами да еще и с чемоданом подарков всяких. Подкатил ко двору в кабине полуторки: специально для своей персоны нанял в райцентре «левака». Полина со свекровью сияли, а свекор хмурился, глядя на весь этот парад. Но общий праздник не стал портить крутыми разговорами (крепко он переживал самовольный уход сына из бригады колхозной), а только спросил подозрительно: с какого такого райского куста рубли рвались? Саня, не вдаваясь в подробности, ответил с похвальбой и самоуверенностью, чего раньше за ним не водилось: «Умные люди, отец, дерево рубят, а щепки да хворост дуракам достаются…»
На что старший Осокин размышлял миролюбиво, но предостерегающе: «Ты вот, сын, с деревом дело имеешь, а умом его, видать, не постиг. Руби дерево по себе — не зря сказано. По своим силам, значит, и по своей пользе. Трухляк на дом не станешь рубить — какой с него прок. А человек, потерявший стыд и совесть, это и есть дерево трухлявое — сердцевина сопрела, осыпалась, и пуст он внутри, дупляк одним словом, в таком любая худая тварь себе гнездо свить может: и хищник летучий и гад ползучий… А уж шашель точит его на все зубы, да еще на здоровое перебраться норовит. Из дупляков дом не построишь, а с худыми дружками, выходит, жизни…»
Не раз, не два вспомнит Саня эти отцовы слова и пожалеет, что задним умом их постиг…
Посиял Саня с полмесяца в лучах промысловой удачи, помог огород засадить, а потом заявил, что отпуск у него кончился и ему надо ехать дело завершать. Сказал так уверенно и значительно, что никто не посмел отговаривать его от поездки. К тому же трудодень колхозный рядом с Саниным длинным рублем выглядел бледновато, а хозяйство требовало материальной подмоги.
К зиме вернулся уже без особого парада. На попутной машине приехал, но с деньгами и довольно легко согласился устраиваться на работу в колхозе. Да не судьба, видать. Председателем правления к тому времени стал Семен Михеев. Саня на порог конторы, а тот ему: «А-а, длиннорублевый пожаловал. Милости просим, коровник по тебе давно слезы льет!» И предложил скотником поработать. Ты, говорит, шустрый больно, около коров на подхвате в самый раз твое место… У них хвосты тоже длинные…
Куражился Михей, в председательском кресле сидючи. Тогда еще могли позволить себе такое некоторые самодурчики, народу в селе хватало. А то не подумал, что всю семью Осокиных тем оскорбляет, в поруху вводит. Не тем, конечно, что в скотники идти предложил. Что в том зазорного для сельского человека, если действительно надо. Но как все это преподнес: с мстительным желанием уязвить, принизить, отыграться за былое непослушание. Саня не сдержался, ответил ему в том же духе, «дураком с печатью» назвал. Михей за телуфон хватался, чтобы в милицию звонить, как же — окорбление при исполнении… Саня в тот же день ушел из села налегке. Собирался в райцентре подходящей работы поискать, да через несколько дней получили от него письмо, отправленное с дороги к лесным краям…
Всякий раз, думая о Сане, Полина обращается к этому роковому дню с одним и тем же безответным вопросом: могло ли быть все по-другому, если бы Саня еще тогда остался работать в колхозе? Михей—Михеем, век бы таких людей на своем пути не встречать, но и в самом Сане после его победного возвращения с лихим заработком поселилась какая-то душевная суетливость; словно легкие деньги худым ветром просквозили его и выдули все, что с детства закладывалось осмысленным трудом, родительским наставом, первым опытом сердечным.
Осознание этой неизлечимой Саниной болезни придет к ней значительно позже, через долгие годы бесплодных надежд и гореваний. А в ту пору у Полины под сердцем вместе с будущей Валей-Валюшей угнездилась неотвязная, покалывающая предчувствием неясной беды тревога за мужа, которая довольно скоро стала оправдываться. Вдруг перестали ходить письма. Телеграмма, посланная по адресу его последней весточки, осталась без ответа. Печальную ясность внесло письмо от старшего брата.
Анатолий сообщал, что Саня попал в нехорошую историю. Взялся сопровождать вагоны с лесом, которые шли незаконным путем. Вручили ему сопроводительные бумаги, маршрут следования и пачку денег для быстрейшего проталкивания груза на станциях переформировки составов. Сказали, к кому и как обращаться на конечном пункте… Впрочем, для Сани, как выяснилось потом, это был не первый рейс. Удачные поездки щедро оплачивались. Неудачная — привела на скамью подсудимых, причем только Саню. На одной из промежуточных станций милиция поинтересовалась щедрым на «подмазку» сопровождающим и подсадила ему в попутчики своего сотрудника. Почуяв неладное, адресат от груза отказался. Когда же потребовали объяснений у отправителя, там предъявили совсем иные копии накладных на груз, с иным адресатом и собственноручной подписью сопровождающего. Бумаги, что были у Сани, к тому же заполненные им самим, признали поддельными, а Саню — единственным похитителем пяти вагонов леса… Строго предупрежденный сообщниками, что за один «случайный» рейс ему дадут меньший срок, нежели за участие в организованном групповом хищении (ну и, само собой, за молчание — отблагодарят, а за провал — не простят), Саня все взял на себя и получил пять лет тюремного заключения.
«Умники дураком сосну рубили, и тому одни шишки достались», — мрачно и запоздало ответил свекор на давнишнее сыново высказывание.
Материнское же сердце принимало лишь беду и не могло рассуждать, а тем более в чем-то обвинять сына. Винила она худых дружков, сбивших Саню с пути истинного, да Михея-гонителя. В отчаянье попрекнула и Полину, что не смогла мужа удержать подле себя ни любовью, ни ласками… А Полине каково — и без того горько, да еще попреки в ее-то положении, на шестом месяце беременности. Боялась дитя своим горем уморить, крепилась — столько слез тайком сглотнула, столько криков сдержала в себе, что казалось, не ребенок вовсе в ней растет, а горе-страдание копится, переполняет ее, чтоб удушить однажды… И ведь не прошло даром. Немые стоны ее, слезы невыплаканные отозвались в дочке лет через двадцать, словно еще в утробе матери впитала тревогу ее и страх за судьбу полувдовью…
Вышла Валентина замуж за комбайнера Никиту Зарубина, армию отслужившего. Спокойный работящий парень, не пьющий лишнего, к жене с уважением и с людьми приветлив. В то лето в Березовке со своим урожаем быстро управились: хлеб скудноват был, засуха прихватила. Направляли комбайнеров на подмогу в целинные совхозы, и Никита собрался. Чего ж не поехать, дело почетное и заработное. Однако с большим трудом добился от жены на то согласия. Но в самый момент прощания Валентина вцепилась в мужа и завопила в беспамятстве: «Не пущу-у!.. Не хочу, как маманя, вдовой вековать…» Вырвался Никита и вскочил в кузов машины, а она под колеса бросилась и билась о землю с воплем истерическим. Пришлось остаться. Жену успокоил, а сам вечером напился с досады и позору. Отведала Валентина и кулаков мужниных. Но все у них обошлось полюбовно. Синяк под глазом Валентина носила гордо, не припудривая, не скрывая платком. Не было в лице ее ни печалинки, ни приниженности бабьей — радостью светилось.
Глядя на нее, с грустью думала Полина: «Может, вот так надо было когда-то лечь поперек Саниной дороги отходной?» Не было у нее на такое решимости. Не пришлось. Она все миром-ладом старалась порешить, без обид и капризов. Доверяла Сане во всем, как сердцу своему. Ведь было меж ними такое, что, казалось, жизнью не разделишь… Разве что смертью.
Третьего дня Полина помогала скотникам свозить к ферме солому. С последним рейсом тракторного обоза на ферму не вернулась, чтобы не делать крюк, а пошла домой от скирдов через поле. Просторное открытое поле верстовым прогалом залегло меж двух родных сел Полины. В Успенке, что справа, сама родилась, выросла. В Березовке — шестерым жизнь дала. Так что мудренее, чем в сказке: направо пойдешь, налево пойдешь — все равно домой попадешь. В свой ли, в родительский ли. Ну а прямо — дорога в большой мир и в никуда.
Поле неприметно сходило под уклон к луговине с ручьем, за которым земля вдруг дыбилась крутым увалом. В Березовке про него издавна присказка живет: гора — два вора, один солнце крадет, другой души берет. Солнце садилось за увал и тем самым для березовцев, живущих в низине, как бы окорачивало свой дневной путь, пропадало до заката. Люди же на увале заканчивали свой путь жизненный: там, чуть левее дороги, ширилась кладбищенская роща. Старики, сетуя на людской отток из села, говорили, что домовин на бугре стало куда больше, нежели домов на селе… Тут уж и дорогу можно было окрестить вором, заживо крадущим. На войну по ней уходили, да многие не вернулись. Свекровь сказывала, как шептали бабы, словно заклинание, глядя в летнюю полночь на темное лежбище, увала: «Вор-воротила, вороти мила, целого, здорового, сердцем не займенного…» После войны в города люди подались. Кто наезжает время от времени, а кто и со всем корнем убрался, поминай как звали…
Конечно, не дорога тому виной, что на нее грешить понапрасну. Сколько новостей-радостей приносит она, со всем белым светом соединяет. Но так уж сложилось у Полины за годы березовские, что для нее дорога и вправду самый коварный и безжалостный вор: то оберет с головы до ног, то надежду, как милостыню, из-за горы явит, чтобы потом снова отобрать…
Где бы Полина ни была, чем бы ни занималась, нет-нет, а бросит взгляд в сторону дороги — с любого края села видна она. С поля дорога казалась безобидно узенькой, так что человеческой фигуры не рассмотреть. И Полина не думала о дороге и о том, что с ней связано, а просто держалась ее, чтоб не сбиться с прямого ко двору пути. Душа, успокоенная усталостью, не помышляла об ином, как поскорее одолеть оставшуюся до дому версту. Спина привычно поламывала, отходя от напряжения работы, руки безучастно обвисли, радуясь выпавшему на их долю отдыху, и бились о бедра, как бы сдерживая их, чтоб не спешили к новой работе. И только ноги как заведенные выводили по лущеной стерне свое размеренное убаюкивающее «шур-шур», надоевшее ушам, как и эта однообразная серо-зеленая рябь поля надоела взору. И Полина несколько раз прикрывала глаза, давая им передохнуть. Звуки шагов сразу становились громче, но потом, словно отставая, притихали и пропадали совсем, и тогда все тело обмякало и ноги подкашивались. Полина вздрагивала, испуганно открывая глаза, и дивилась сама себе, что засыпает на ходу средь бела дня. Но через минуту-другую дрема вновь настигала ее, пока вдруг перед глазами не всплыло плачущее Павлушкино лицо и не послышалось протяжное «ма-а…».
Полина невольно остановилась, обернувшись в сторону Успенки, будто сыновий голос и вправду мог дотянуться до ее слуха за добрую версту.
«Что же это я, совсем от дитя родного отбилась. Второй день мимо бегаю», — попрекнула себя Полина и, не раздумывая, подалась туда, где за оголенной тополевой лесопосадкой виднелось несколько шиферных крыш, одна из которых и была ее домом. Пошла сразу ходко, руками задвигала в такт шагу, точно и не они плетьми висели минуту назад. И уже сама перед собой как бы оправдывалась: «Управлюсь засветло, только на сынульку гляну. Вон солнце еще до погоста не докатилось. Ничего с ними не сделается (это о домашней живности), поревут себе да свое получат, а я Павлушку с собой прихвачу. Хоть до утра. Да и Оксана не маленькая, сама с ними сладит…»
Так материнское чувство, очнувшись на зов сыновий, уговаривало, пересиливало, оттесняло в сторону заботу хозяйскую. И сколько было в том нежности к сыну и нетерпения поскорее схватить на руки его легкое, хрупкое тельце, прижать к себе и забыться от всего и вся и только слушать его беспечный радостный лепет и самой говорить его языком-лепетом самые простые и ласковые слова, которые без такого вот всплеска нежности и не живут вовсе.
Казалось, ничто уже неспособно остановить ее в этом неудержимом стремлении к сыну. И дрема отступила, и шорох шагов, изменив интонацию, скорее подгонял, нежели убаюкивал, и само поле, пегое и рябое, как бы ожило, задвигалось, заколебалось в такт ее шагам, ее волнению.
Но вдруг из серого однообразия поля всплыла и плавучим островком закачалась перед глазами ярко-зеленая травяная латка. И Полина уже не могла обойти стороной, отделаться от смутной догадки — откуда и почему горит здесь по осени этот зеленый костер. Ноги сами привели ее к нему и, ступив на упружистое ложе, подломились, подкосились, и Полина со вздохом, похожим на стон, осела на землю. Полина немо сидела на поджатых ногах и обеими руками гладила траву, как шелковистые волосы, пропуская меж пальцев ее податливую тягучую листву. Сквозь набежавшую на глаза влагу все вокруг казалось расплывчато-зеленым, как в стоялой июльской воде.
Признала местечко, признала…
Давным-давно это было. Сама Полина видеть не видела, но помнится ей до сих пор тот жуткий, ни с чем не сравнимый вздрог земли…
Немцев к тому времени полгода как прогнали, только фронт далеко не ушел, погромыхивал отдаленными громами без туч и дождей. А к середине жаркого лета невиданной грозой средь ясного неба разразился. День и ночь откуда-то из-за увала накатывал грохот незримой канонады. Однажды над лесом неподалеку от их сел завязался воздушный бой. Мать и поглядеть как следует не дала, в погреб их с братишкой упрятала. Сидят они в темноте, прижавшись к матери, и вслушиваются в приглушенный отдаленный гул моторов, стрельбу и взрывы, страшась больше погребной темноты, нежели того забавного стрекота и аханья меж облаков. И вдруг их тряхнуло да так сильно, словно они сидели не в погребе, а в телеге, наскочившей на ухаб… На волосы, за шиворот, на лицо осыпалась земля. Взрывов они, пожалуй, не расслышали, настолько ошеломляющим было это внезапное содрогание земли, за которым сразу же наступила тишина. И Полине показалось, что и уши ее, как и рот, заполнены скрипучей землей и она оглохла.
Но вот с улицы донеслись голоса, да и Петрушка, оправившись от испуга, стал подхныкивать. Выбрались они на свет, отряхиваясь и отплевываясь от земли. Солнце подкровавленным колобком скатывалось за увал, а мимо их хаты бежали в поле люди, больше ребята. Их с Петрушкой мать тогда не отпустила от себя. Ей вдруг сделалось худо, и она едва сумела переступить порог. До постели не дошла — посреди горницы повалилась на пол. Они ей только и смогли, что подушку под голову подложить да укрыть одеялом. И сами, перепуганные насмерть, рядом пристроились.
Через месяц узнали от рыдающей матери, что едва ли не в тот самый день в какой-то сотне километров от дома, под Белгородом, отца их убило…
Много раз потом мать родным и знакомым пересказывала, что, сидючи в погребе, думала и молила о Василии. А тут как ухнет та вражья бомба. У нее руки-ноги и отнялись. Насилу из погреба вобралась да в хату вползла.
А тогда рано утром их разбудил дребезжащий звук оконного стекла. Хромой бригадир звал мать на работу, и она, пошатываясь, пошла со двора, наделив их по ломтю черного хлеба да по нескольку заклеклых вареных картошек. Но они и тому были рады. Мамка снова была на ногах и, значит, ничего страшного с ними произойти не могло.
К тому же в поле за околицей их ожидала такая невероятная история, которая тут же затмила все их страхи и беды.
Для сел, стоявших в стороне от больших дорог и не видавших боев, падение самолета и огромная воронка от бомбы — события из ряда вон выходящие. Самые отчаянные головы пробрались к месту падения вражеского бомбардировщика, но ничем поживиться не смогли: он буквально сквозь землю провалился. А много позже, когда ручей обмелел, а болота вокруг повысохли, никто не мог уже с определенностью указать точное место его падения. И легенда о самолете осталась красивой и жутковатой, но не овеществленной.
Зато воронка всегда была на виду и вызывала острое соперничество ребячьих ватаг. Находилась она всего метрах в двухстах от крайней успенской хаты, но на. поле, принадлежавшем березовскому колхозу. Обычно промышляли возле нее успенские. Но и березовцы наведывались солидными компаниями, чтобы, если потребуется, силой отстоять свои права на бомбовину и найденные окрест нее осколки, которые тут же изымались у противной стороны. Случались и стычки-кулачки, после которых скоротечно кровянили разбитые ребячьи носы и долго отцветали синяки под глазами. Но обычно успенские, завидев приближение более многочисленного войска, успевали отступить под защиту дворов.
В первую же весну воронка заполнилась до краев водой и со временем стала походить на старую торфяную копанку. Ее опахивали, обсевали вокруг то хлебом, то бураком, то клевером, но тропинка от луга почти всегда сохранялась, как бы ее ни ворочали плугом. По ней, как оказалось, не только люди ходили. Однажды Полине довелось увидеть, вернее испытать на себе, самый настоящий лягушачий ход. Она свернула на тропу и не сразу поняла, что за брызги веером разлетаются в стороны от ее босых ног. А когда глянула перед собой, то обмерла от изумления и жути — тропа как холстина на ветру: шевелится, ходуном ходит. Сроду лягушек не боялась, в руки брала и головастиков ловила не задумываясь, но перед такой кишащей массой оторопела. Лягушата на ноги наскакивают, тычутся в кожу холодными липкими тельцами. Обезумев, точно животина, загнанная оводами, что бежит куда глаза глядят, Полина с визгом понеслась прямо по лягушачьей тропе, по-цаплиному высоко поддергивая под себя ноги, сразу не догадавшись ни повернуть назад, ни сделать хотя бы шаг в сторону на клевер. Но и свернув с тропы, она еще долго бежала с ознобным прискоком, принимая прохладное щекочущее прикосновение травы за лягушат.
С той поры десятой дорогой обходила Полина воронку и, случалось, во сне испуганно дергала ногами, стряхивая причудившихся лягушат…
Хотя к подобному лягушачьему переселению Полина была подготовлена. Как-то, глядя на головастиков, кишащих в воронке, Петрушка резонно спросил: «А куды они деваюцца?» И никто иной, а Саня ответил ему с полным знанием дела:
— В лягух обращаются и на луг ускакивают.
То была знаменательная встреча у бомбовины. Полина играла там с успенскими малышами. Ей и самой лет десять-одиннадцать было. Остальным же в компании и того меньше. Не заметили они, как березовские обошли их логом и высыпали на поле оравой, отрезав все пути к отступлению. Малыши сразу притихли и сбились вокруг нее, как цыплята подле квочки, в ожидании своей незавидной участи. Но в рядах грозного противника произошло замешательство. Окружив пленников, березовские как бы раздумывали: стоит ли колошматить такую безоружную мелюзгу? Сами-то они были при дубинках, рогатках и плетках. На большое дело готовились. У верховоды за поясом торчал даже самодельный пугач. (Из него он потом по жабам раза два ахнул, к восторгу своего войска и для устрашения противного). Но руки, конечно, чесались: силу проявить. Грозу отвел ненароком мальчишка в заношенной солдатской пилотке и подпоясанный широким брезентовым ремнем. Стоя у края воронки, он крикнул своим:
— Давай сюда, ребя! Тут головастиков больше, на всех хватит!
И вроде не заступился, обидное даже сказал, а все же разрядил обстановку. И воинственный пыл гоготом вышел. «Верно, Санек», — поддержал верховода и повел своих в наступление на безвинных головастиков. Тут уж орава отвела душу, пустив в ход все виды оружия. А братишку Саня будто приворожил: ни на шаг не отходил от него Петрушка, каждое его слово ловил, восхищенные глазенята тараща, и все норовил чем-то уважить. Комья земли во время обстрела головастиков ему подносил и громче всех радовался каждому меткому броску. Но больше всего удивилась Полина, когда Петрушка протянул ему осколок, найденный накануне и предусмотрительно схороненный в землю, как только объявились березовские. Осколки от бомбы были в цене. А этот, остроконечный, с Петрушкину ладонь, был по-своему красив и грозен, и отдать его за просто так, да еще березовскому, было выше даже ее девчоночьего понимания.
Впрочем, братишка очень скоро доказал, что привязанность его не случайная, не с перепугу, как ей тогда показалось. Саня частенько наведывался в Успенку к своему родному дядьке по материнской линии. Завидев его Петрушка выбегал навстречу и провожал до дядькиного двора либо до конца деревни, если Саня возвращался домой. Несмотря на пятилетнюю разницу в возрасте, которая в отрочестве особо разительная, Саня по-доброму относится к малому. В долгу не остался — настоящий рыболовный крючок подарил (в то время — это целое состояние для пацана!) и на рыбалку с собою брал. В семье Саня был младшим. Старшие братья разъехались по городам. И ему по душе была Петрушкина привязанность, она взрослила его в собственных глазах.
Вначале Полина посмеивалась над их дружбой. Не без ревнивого чувства и насмешки в голосе окликала брата, завидев на улице Саню:
— Петя-Петушок, лети скорей, вон твой дружок березовый топает.
Брат бежал со всех ног. А она демонстративно отворачивалась и бралась за первое попавшееся дело по двору. Возвращался Петрушка и выкладывал новости, которые были нанизаны на единую нескончаемую нить: «Саня сказал..- Саня сделал. Саня думает..: Сане нравится…»
Не заметила Полина, как со временем и сама стала глядеть на Саню Осокина глазами брата. И пришел день весенний, когда на одной из вечерок, какие частенько в то время бывали с гармошкой, с песнями, с ухажерством, Саня как бы невзначай прислонился плечом к ее плечу. Все в ней сжалось от тревожного и сладостного предчувствия…
К тому времени Полина семилетку окончила и первое лето полноправной пайщицей в материнском свекловичном звене состояла. В свои шестнадцать выглядела заправской невестой: хоть завтра сватов засылай. И парни заглядывались и виды имели. Да только вот один Саня к душе прислонился. Но оба они были до того застенчивы и несмелы в своем чувстве, что за все лето лишь несколько раз сумели побыть наедине.
Дело осложнялось тем, что на Полину «глаз положил» Иван Рылкин, успенский гармонист. Гармонь молчала, пока в кругу не появлялась Полина. Было Ивану за двадцать, но в армию его не брали из-за какой-то болезни. Работал он пожарником. Запоем читал книжки и был большой мастак по любовной части. Вдовы, что помоложе да посговорчивей, были ему временным пристанищем. Приголубливал он девчат необгулянных. Каждой обещал, как водится, горы златые, да ни одна соблазненная не получила ничего, кроме песен и прибауток, за доверчивость свою безоглядную. Слезы и угрозы на него впечатления не производили. Наиболее строптивых он осаживал своим трагически оскорбленным видом и возвышенной риторикой: «Мы с тобой еще под венцом не стояли, а ты такое вытворяешь?! Представляю, какой зверюгой обернешься на правах законных! О, какой ты, Ваня, молодец, шо не поддался сердечному порыву».
Обманутую скандалистку обычно девчата общими усилиями выпроваживали с посиделок, потому как в ее присутствии гармонь тоже молчала.
Ломали ребята бока Ивану за девчонок своих, да с него как с гуся вода. Полежит денек и снова на пенек — играет себе, балагурит, с девчатами заигрывает, намеки подает, с ребятами задирается… В открытую, чтоб слово за слово, с ним никто не решался: изъязвит, ославит, на смех поднимет. Да с гармошкой он, на миру тем более, лицо неприкосновенное. Оскорбленные мстители выбирали места побезлюдней. Подкараулят двое-трое, пиджак на голову — и по бокам… Ивана отдубасят, а гармошку ни-ни, пальцем не тронут. Иван лежит побитый охает, а гармошка рядом целехонькая стоит. А то и вовсе к дому ее отнесут, на лавочку положат, чтоб он, чего доброго, сам сгоряча не попортил бесценный инструмент. Одна ведь гармошка на селе была, понимали.
Полину Рылкин явно стерег для себя. Никто из ребят не рисковал танцевать с ней два танца подряд. Стоило только ей отлучиться куда, гармонь замолкала, и все бросались искать Полину. И провожали ее до двора под гармошку всей компанией.
Пожалуй, только Петрушка и был посвящен в сердечную тайну сестры, став незаменимым посредником. Теперь уж Полина нетерпеливо и неутолимо вытягивала из него ту единую желанную ниточку: «А что Саня? О чем говорил… как смотрел… что думает… что делал… куда пошел… кому улыбался? Новая рубашка? Двухпудовку одной рукой? Девять раз?! Что обо мне спрашивал? Что просил передать?!»
Приближался срок идти в армию, но в открытую заявить о своем чувстве ни Полина, ни Саня не решались. Да и не уверены были еще друг в друге. Слова потаенного не сказали. А только подступали к нему.
И все же Саня, улучив момент, шепнул ей, что в огороде ждать будет. В тот вечер Полина в сенцах переждала, пока Иван со всем хороводом не удалится от двора. Боже, как вся колотилась — от испуга ли, от волнения. Пробиралась в огород — дохнуть боялась. До крайней изгороди дошла — никого. Стояла, стояла — ни шороха, ни звука. Кашлянула, позвала шепотом. Казалось, громко так — все село слышит. А Саня-то огороды спутал. И тоже, говорит, звал. Потом засвистел соловьем. А какие ж соловьи в конце июля? Она и пошла на свист. Если б не слышала удаляющейся гармошки, пожалуй, побоялась бы подойти.
Сама себе удивилась Полина, что все хорошо помнит. Как Саня пиджак свой на плечи ей набросил. Как приобнял. И пошли они в противоположную сторону от звучащей в отдалении гармошки, за крайние хаты, меж полем и лугом, по дороге в Санину деревню. И Полине, быть может, впервые с замиранием сердца подумалось о желанно-несбыточном, как о возможном: вот Саня и ведет ее в свой дом. А луна, светящая в полный накал, медленно и величаво сопровождает их, скользя тусклым отсветом по притихшему ржаному полю, и кажется больше солнца, добрее и участливее к их судьбе.
Потом вдруг стало тревожно и неуютно. Это ощущение ей передалось от Сани. Они внезапно остановились. Рука, лежавшая на ее плечах, напряженно отяжелела. А сам он опасливо прислушивался. Но было непривычно тихо, и она уже хотела успокоить его, шепнув, что ничего не слышно, но в тот же миг постигла смысл тревоги: не звучала больше гармошка… Полина в испуге прижалась к Сане всем телом, как бы ища защиты, и он принял это движение — рука его ободряюще ожила, крепче обняла ее плечи, а сам он распрямился с облегченным вздохом, как бы решаясь на все неотступно. Пожалуй, в ту самую минуту тишины она и доверилась ему, слилась с ним волей своей.
Сколько они так стояли, парализованные тишиной, и кто первый услышал шаги и побежал, Полина не смогла бы ответить и тогда. Опрометью метнулись они в рожь и понеслись что есть духу по лунной дорожке, а вернее, не разбирая дороги, путаясь в метроворослых стеблях, и бажали до тех пор, пока рожь не расступилась вдруг и они, лишенные ее сопротивления, не рухнули наземь именно здесь, на месте бывшей воронки.
К тому времени воронка полностью заилилась, превратясь в западинку, и вода уже не выстаивала до конца лета. Лишь чахлые стебли камыша в центре низинки да жестковатая луговая травка по краю напоминали о том, что здесь когда-то круглый год бочажилась вода.
«Бомбовина», — первое, что сказал Саня, справившись с дыханием. Полина кивнула. «Слышишь, бежит?»— снова выдохнул он шепотом прямо в щеку. Полина, притаив, насколько это было возможно, дыхание, прислушалась. Но ничего, кроме ухающего шума в ушах, не услышала. Никто к ним не бежал, никто за ними не гнался, только сердца их продолжали бежать, настигая друг друга, и были уже как никогда близко-близко. Они лежали голова к голове. Саня как взял ее руку в свою там на дороге, так и не выпустил.
«Ти-ихо», — прошептала она в ответ, и это было последнее ее слово, которое она сказала осознанно, чувствуя под собой жестковатую твердь земли и пыльный травянистый запах ее. В следующую минуту, когда на шее своей она ощутила дыхание и шепот, с ней начало твориться что-то непонятное, неведомое, необычное, точно помимо воли своей она впадала в полусон или же, напротив, не могла полностью отделаться ото сна и просыпалась только частью сознания, чтобы слышать и видеть, что с ней происходит, но ни единым движением, ни единым словом не в силах тому ни воспротивиться, ни приостановить происходящее и ни ускорить его.
Даже с высоты прожитых лет Полина вряд ли могла восстановить дословно шепот Сани. Слова выдыхались как во хмелю, как в бреду, почти неосознанно и бесконтрольно, но столь же естественно, как само дыхание. Столь же реально, как обнимающие руки, щекочущие волосы… то шепчущие, то целующие губы… И если это была песня, которую пела в нем сама природа, то припев пел он сам… «Полюшка-зорюшка.. Полюшка-голу-бушка… Полюшка-травушка.» — шептал он исступлено в ту первую лунную ночь. И шепот этот обволакивал ее обессиливающей истомой.
Знала она и верила, что это единственное, суженое ей судьбой, иначе бы не было так пронзительно хорошо, так доверчиво-покойно. Отступили, отлетели ярочь все недавние страхи, испуги, сомнения… Счастливая, прикрыв глаза, внимала лишь голосу, который говорил яснее-понятнее слов, и прежде всего о том, что она Полина, краше всего прекрасного на свете, желаннее всего желанного. И она могла бы сказать то же самое в ответ этому голосу, этим рукам, одолевшим робость и неловкость свою.
А когда шепот стих, отошел, говорить она уже не могла… Лишь слушала протяжную тишину и с изумлением отмечала, как тело ее постепенно возвращается в свои границы, отделяясь от земли и трав, легкой болью в затылке и онемелым ноем спины. Глаза открыла. Черные, словно обугленные, колосья ржи, низко склонившиеся над ней, мерно покачивались на фоне луны, отчего виделось Полине, будто луна кивает ей согласно, ободряюще.
Рядом неровно и притаенно дышал Саня. «Мой Саня», — неотделимо подумала о нем, и душа нежностью зашлась, не подпуская к себе ни стыда, ни смущения даже. Но первой подавать голос Полина не отважилась. И Саня, как бы подслушав мысли ее, привстал и посмотрел на нее как-то отстраненно, точно не верил во все происшедшее. Лицо было бледным, растерянным, виноватым.
— Ты теперь моя, Полюшка, моя, — скорее спросил, нежели утвердил Саня, робко трогая ее за плечо, словно и не было его безраздельной власти.
Полина вскинулась к нему. «Твоя, Санюшка, твоя»,— растроганно прошептала, прижав голову к его груди.
Долго сидели они, прислонившись друг к другу, как два снопа полноколосных на подоспевшем к жатве поле…
Провожал Саня ее домой с первой зорькой. Шли, взявшись за руки, огородами, молчал, и, только прощаясь, Саня повторил те же слова: «Ты моя теперь, Полюшка…» В нем уже не было той лунной растерянности, но сказанное вновь прозвучало полувопросом.
Мать встретила встревоженно:
— Никак зоревала нынче, девка? Уж не Ванька до тебя добрался?
— Не Ванька, мама, не Ванька, — ответила Полина спокойно и сама подивилась тому спокойствию.
— Ну и то хорошо, — сразу успокоилась и мать.
На том разговор и окончился, хотя Полина-то както раз была готова броситься к матери в объятья и выговорить все, чем была переполнена. Но удержалась. Хотелось побыть наедине со своею невероятной тайной, и она спряталась с головою под одеяло. И как бы догнала ночь свою летучую, мысленно перенеслась в поле. И только сейчас с легким ужасом подумала о том, что была с Саней в лягушачьем царстве, и ни разу не вспомнила о своем испуге. Знать, и вправду была по ту сторону всех страхов и сомнений. И она счастливо рассмеялась, всем существом чуя, как догнал ее Санин шепот, и она вновь ощутила то необычное состояние, когда тело теряет свои границы и плывет полусном-полушепотом…
День за этим сном был странно-радостный. Все вокруг казались добрыми и родными, и всем ей хотелось сделать что-нибудь хорошее, чем-то приветить, порадовать. Все: и солнце высокое, и небо голубое, и зеленый размах лета, и поспевающие хлеба, и разговоры о предстоящей уборке, и простр бабьи пересуды — все умиляло ее и радовало, все было окрашено ожиданием вечера. И она с нетерпением торопила его приход…
Только вечер как раз и принес нежданные тревоги. Первыми их вестниками стали звуки Ивановой гармошки. Представив, что ей снова придется выполнять молчаливую роль невесты Ивана Рылкина, Полина ужаснулась: «И это на глазах у Сани?! Нет-нет…» Она затаилась в хате, не зная, что делать, прекрасно понимая, что в покое ее не оставят. Так и есть — гармошка вскоре примолкла и заявились на порог девчата с недовольными лицами — что ж ты, мол, кочевряжишься, прынцесса лапотная. Не привыкшая хитрить Полина, молящим голосом обратилась к послам:
— Худо мне, девчата, не серчайте…- Не могу я там нынче быть. Худо мне… В постель ложусь…
Должно быть, вид ее был не из лучших и голос искренне молил, девчата недолго уговаривали и ушли.
А Полине и не надо было притворяться: бил ее нервный озноб. Легла она в постель, одеялом стеганым укрылась — не проходит трясучка. Будто на столе голая сидит.
А тут еще гармошка под самым окном запела.
Прибежавший с улицы братишка громким шепотом рассказал Полине, что, выслушав послов, Иван вздохнул глубоко (Петруха показал как) и сказал: «Раз Поле неможется к нам выйти, тоды мы к ней заявимся всем миром» И повел хоровод к их двору.
В тот вечер деревня не слышала задорных девичьих перепевок, не кружились пары в кругу. Пел один гармонист. Иван был человеком настроения, даже капризным порой. То играет без устали, веселит народ частушками, прибаутками, а то и вовсе мехов не растянет, сколько ни проси. Или же закатит такую похабщину, что уши вянут, и девчата, конечно, разбегаются в разные стороны.
В тот вечер под окнами Полины Иван пел страдания… И не как обычно, в ряде веселых шуточных песен, когда страдал только голос, театрально обозначая трагедию ли от внезапной смерти любимой, печаль от разлуки влюбленных, неистовство души от коварной измены.
Необъяснимая тягучая грусть, доходящая порой до острой болевой тоски, сквозила в каждом звуке, исторгаемом гармошкой.
Неотделим от нее был и голос Ивана, низкий, хрипловатый, западающий на высоких нотах. Но эти запады голоса, как прерывистое дыхание, совсем не портили песни, как бы накладывали на нее ритм прихваченного болью сердца…
Было ли это очередное настроение капризного привереды-гармониста, случайно совпавшее с тайным событием минувшей ночи, или же почуяла обнаженная Иванова душа истинную причину хвори своей избранницы, но печалилась она неподдельно, широко. Даже самые охочие порезвиться, покуражиться, поплясать, кому жалостные мелодии — что оскомина на зубах, не посмели помешать ему. И кто знает, сколько девичьих сердец зашлось ревнивой завистью к Полине, в каких пересудах полоскалось имя ее. Да напрасно, скорее в сочувствии и защите нуждалась она в тот мучительно долгий песенный вечер…
Мать ходила по избе, поглядывала на безмолвно лежащую дочь и вздыхала. Петрушка сновал из хаты на улицу и обратно, принося одну и ту же безрадостную весть: «Сани нет».
Приниженная и обезволенная призраком вины своей, Полина словно покаянная грешница безропотно принимала на себя все роковые сюжеты песен с их недвусмысленно суровыми приговорами, которые в устах самолюбивого и гордого Ивана скорее звучали как предостережение и адресовались только ей. Полине тогда и в голову не могла прийти простая как вдох истина: по какому праву беспутный Иван взял над ней такую безоговорочную власть? Спросил ли он ее желание? Дала ли она ему хоть малейший повод? Нет, она казнилась и чувствовала себя одинокой, всеми осуждаемой и покинутой. Вот и Саня — единая надежда и опора, ее Саня — не пришел… И даже луна глядит беспристрастно и отчужденно в окошко, будто и не кивала ей согласливо в прошлую ночь, не охраняла их с милым до самого рассвета…
А голос Ивана продолжал терзать душу. Да так, что и песня про коробушку, которую он обычно пел с ухажерским подмигиванием, весело и разухабисто, вдруг прозвучала трагическим разоблачением. После слов ее ясновидящих «Знает только ночь глубокая, как поладили они…» Полина в испуге запахнулась с головой в одеяло, сжалась в комок, сдавила ладонями уши, не в силах больше слышать Иванов голос и гармошку, как молитву повторяя: «Саня, Санечка, где ты, милый мой, где…»
Но казнящие Ивановы песни не заглушались. Они звучали в ней самой еще долго, настигая во сне…
Утром, измученная и обессиленная, Полина отправила брата в Березовку за Саней с отчаянным напутствием: «Скажи — помру, если не придет».
Но вместо Сани пришли его родители. Они поговорили с матерью, а потом и ее позвали. Уколовшись о пристальный взгляд будущей свекрови, Полина нашла успокоительное расположение в добром прищуре глаз отца Сани и ему ответила свое тихое: «Да».
Со свадьбой решили поторопиться, чтобы молодые хоть немного пожили семьей, прежде чем Саня уйдет служить в армию.
«Отпел Иван свою касатку», — скажут потом на селе…
Свадьбу играли у Осокиных. Накрыли столы посреди двора, распахнули ворота — заходите, дорогие гости званые и случайные. Среди незваных в самый разгар свадьбы заявился Иван Рылкин с неизменной гармошкой. И без того бледны и молчаливы были жених с невестой, а с появлением Ивана и вовсе омертвели. Но Иван вел себя внешне спокойно, честь по чести принял подношение, выпил за здоровье молодых, сел в стороне от стола на колоде и широко растянул мехи, огласив округу лихими переборами. Григорий, средний из братьев Осокиных, игравший до этого на привезенном по случаю свадьбы трофейном аккордеоне, восхищенно улыбнулся Ивану и отставил свой инструмент в сторону. Мол, дух в ней не тот, да и руки не те…
А Иван играл ярко и без устали. Ему подносили стопку, он пил и снова играл, как на самой веселой вечерке. Только голоса не подавал и мрачнел все больше. Полина с тревогой поглядывала в его сторону и мысленно повторяла одно: «Что же будет? Что же будет?» Не верилось ей, что Рылкин так вот просто смирится. И все же она проглядела…
Устали гости плясать и потянулись снова к столам, смолкла гармошка. На минуту, не больше, выпал Иван из поля зрения. И что-то заставило ее оглянуться. А когда оглянулась, то и обмерла: Иван шел от сарая, держа в руках топор… Непроизвольный крик вырвался у Полины из груди, и все оглянулись и застыли на месте. Лишь Дмитрий Акимович Дранкин сделал два тяжелых шага навстречу Ивану, заслоняя собой молодых…
— Не балуй, Ваня… Не дури, — сказал он.
Но Иван, казалось, не видел никого перед собой. Не доходя нескольких шагов до стола, он занес над головой топор и со всего маху секанул им по гармошке, стоявшей на колоде. Коротко ойкнула на высокой ноте гармошка и разлетелась на несколько частей. Бросил Иван топор. С безумным взглядом (о, как хорошо помнит Полина этот взгляд!) и дрожащими руками к столу подошел.
— Это не я ее… Поля… — сказал, указывая рукой в сторону гармошки. — Это ты душу мою…
Взял со стола чей-то стакан с недопитой водкой, «за здоровье молодых» — зловеще крикнул и хотел выпить одним глотком, но поперхнулся, закашлялся. И сквозь кашель выкрикивал истерично: «Будет вам здоровье… будет… Только счастья не ждите!» Ухватился за край стола, собираясь опрокинуть его, да тут Ивана самом подхватили дюжие руки и понесли со двора. А он впал в истерику, успенские ребята погрузили его на телегу и отвезли домой.
Полине тогда казалось, что все пропало и такого позора ей вовек не пережить. Она сидела ни жива ни мертва, не поднимая глаз, уверенная, что все с презрительным осуждением смотрят на нее и вот-вот раздадутся голоса, изгоняющие ее в тар-тарары. И голос раздался. Первой нашлась Дуняша Дранкина. Она справедливо чувствовала себя здесь несторонней, опираясь спиной на родной плетень. Попросила чарки наполнить и слово держала:
— Свадьба — та же ярмарка, да один-разъединственный товар на ней, за который хоть и не сполна, но вперед уплачено. Бесценный товар — краса-невеста, а и плата высокая — любовь жениха, ясна-сокола, безоглядная. Нашелся еще один Иван-купец, свою цену выказал. Все мы видели, что любовь с человеком делает. Крепко взяла, ничего не скажешь. Однако, хоть красна цена, да не она… Нам глядеть — мука, а жениху наука: люби сильней и верней до последних дверей… С тем и горько!
Увидела Полина склоненное к ней лицо Сани и подумала: слышал ли он, понял ли все, о чем говорила Дуняша, спасая их главный праздник от позора?
А потом Дуняша запела. Многие подхватили. Но Полина видела и слышала только Дуняшу. Эх, как она пела, как цвела душа ее! А вместе с ней и Полина словно вызволялась, восходила душой из темного колодца, куда столкнул ее необузданный Иван. И когда молодые прощались с гостями, Полина не удержалась, бросилась на шею Дуняше да и разрыдалась благодарно и с облегчением.
С тех пор Дранкины им вроде за крестных стали.
«Не сошлось по-Дуняшиному, не сошлось… — думала Полина, покидая уже в сумерках отавное местечко, так всколыхнувшее душу ее. — Выходит, пересилило Иваново заклятье — «здоровы будете, да счастья не ждите…» А то спросить его, кто дал ему право швырять такие лютые слова людям в день их заглавный? Не было права такого. Не любовь в нем кричала тогда, обида гордецкая. Как же, не по его вышло. Вот и взвился. А хоть бы спытал когда — люб ли сам? Да и любил ли? «Нечего сказать, хороша любовь — спроважил домой — «спи спокойно, моя ягодка», а сам с очередной зазнобой шел миловаться…» — серчала Полина на Ивана задним числом и судила вовсе не за свадебное буйство которое еще можно было понять — мол, с обиды, с отчаянья и спьяну, наконец. Она тогда даже жалела его. И долго в виноватых ходила: ведь так вышло, что из-за нее осталось село без гармошки и гармониста. Подался Иван в город.
Горше оказалась встреча через годы. Объявился Иван однажды у двора Осокиных. Сразу и не признала — совсем старичком показался: небритый, крепко выпивший, стоит-покачивается и глазками сверкает. Полина Оксанку уже ждала и остальные четверо, словно их кто звал напоказ, высыпали по обе руки. Иван, видно, собирался что-то приветливое сказать, но, осмыслив увиденное, вдруг посуровел, набычился.
— У-у, осоково племя, поразрослось, не пройти не проехать… — Сам, видно, не ожидал от себя того, что вырвалось, аж головой замотал, как бы силясь стряхнуть с себя злость. Натуру не стряхнешь, что яблоко червивое. — А твой-то тихоня где? Небось к другой лапти загнул? — добавил с нескрываемым злорадством.
— Иди, Иван, с богом, не злобствуй, — только и сказала Полина, уводя детей в дом.
Не боялась она его больше и виноватой себя давно не чувствовала. Разве что жалость не знала покоя: так безруко и безголово распорядился своей судьбой человек… Худо ей было после той встречи, но озлобиться в ответ не смогла… Что с пьяного возьмешь, что ему втолкуешь?
«Никого ты не любил, Иван, кроме себя, никого… Душа шире гармошки так и не раскрылась… Лишь свои обиды помнил да считал, а добру в ней и места не осталось. На детей зарычал, как пес бездомный…»
С того дня как отрезало в памяти: никак не могла представить себе Ивана молодого, чубатого, поющего на вечёрке. Все заслонял его этот жалкий и злобный пьянчужка. Одного себя любил да тем и сгубил. Таким себялюбам да завистникам счастья искать, что рыбу в море голыми руками ловить. Они и встретят его, да не признают.
Может, и Саня не распознал в свое время?
От Павлушки шла уже не торопясь. И луна катилась низко над пустынным осенним полем, такая же круглолицая и молодая, времени земному не подвластная…
Поняв, что теперь ей скоро не уснуть, Полина встала с постели, прошла к окну. Долго вглядывалась в шумливо поплескивающую тьму и вдруг представила себя лежащей там, в травяной чаше, всей кожей ощутив знобкую морось дождя. Рука невольно потянулась за платком, висевшим на катушечной вешалке. В дрожь бросило. Прокручиваясь на гвозде, катушка недовольно уркнула, и Полина с улыбкой вспомнила, как Светланка однажды тайком намотала на нее ниток, а перед сном, в темноте, пугала своих младших сестер рассказами о домовом, который по стенкам и по потолку ходит. И при этом тянула за нитку. Катушка урчала, и создавалось впечатление, что и впрямь кто-то крадется по стене… Девчушки с визгом прятались под одеялами, а довольная Светланка весело хохотала и тут же разоблачила себя…
Платок был тот самый, оренбургский, щедрый Санин подарок в первый приезд с лесозаготовок. Бывало, и в мороз в нем ладно и жарко. За два десятка лет пооблез, поистерся он изрядно, пообносился, где издырявился и подштопан, где свалялся и, накинутый на плечи, тепла мало прибавил, словно грел издалека, одними лишь воспоминаниями. Полина натянула его потуже — и будто приобнял кто за плечи. И так понемногу выгревала из себя дрожь — сверху платком-слабогреем, изнутри — припоминанием о Светланкиных проказах.
«Холодно ей нынче под дождем-то… Не впрок стылые ласки его, не впрок…» И снова мысль о траве не соединялась с заботой о корове и сене. Пришла она иной, человеческой стороной и этой же стороной перекинулась к Грачихе…
«Довольно, пожалуй, небось очухалась. А нет, так и пусть выводит. Ксанке да Павлушке на радость. В бане могут первое время перебыть. У самой-то все вон осенние. Разве что Зинка майская. Не зря с ней и душа мается…» Размышляла Полина, направляясь к выходу, чтобы вызволить наконец непутевую квочку из-под холодного душа. И уже ногами в сапоги угодила, за фуфайкой потянулась… Но представила Грачихин выводок в бане и задержалась у самого порога. «Они там по-натворят духу, что потом никаким паром не выпаришь. Не-е, неслед, неслед баню в курятник обращать. Да и к чему воронье племя плодить забавы ради? Не игрушки это. Ксанка тоже понимать должна».
Полина выпростала ноги из сапог и постояла в раздумье, куда остаток ночи склонить: к заботам ли хозяйским — плиту топить да всякое варево-парево затевать, либо за сном еще погоняться… Хлопотать, пожалуй, рано. Петуха и того не слыхать.
Вернулась к постели. Не снимая с плеч платка, забралась под одеяло.
Баня Осокиных вошла в жизнь Полины сразу как святилище и чистилище. Наутро после брачной ночи, не дав молодым опомниться, под шутки и прибаутки Санины родители и братья спровадили их в баню, которую с рассвета держали под паром. Дверь снаружи подперли колом и сказали, чтоб раньше чем через час не стучались…
И остались они, обескураженные и немые, одни в предбаннике, украшенном, как павильон сельскохозяйственной выставки, плодами земли и труда. Со стен и даже с потолка свисали снопики ржи, пшеницы и ячменя, метелки проса, корзинки подсолнухов, связки стеблей гречихи, укропа и конопли, яблоки и груши, свекла, морковка и грибы… На лавках, застеленных вышитыми рушниками, высились две аккуратные стопки чистого-белья. Тихо шуршал под ногами, похрустывал развернутый веером ржаной обмолоченный сноп… Полина не утерпела и, присев, погладила упругие стебли дорогого обоим злака. Но Саня то ли не понял ее чувств, то ли, смутившись их откровения, сказал:
— Пошли мыться, а то до вечера не выпустят, — и отвернулся в угол, быстро разделся и первым скрылся в парилке.
Оставшись в ночной рубашке, Полина робко переступила банный порог. Легкий жар, пропитанный с детства знакомыми запахами, разом окутал, объял ее. От неожиданности даже голова пошла кругом. Присела на свежевыскобленный полок и огляделась. Все здесь ей было в диковинку: и печь с котлами, и дышащая жаром груда камней, и полки, широкие как нары, и веники березовые, и пучки трав на прикопченных бревенчатых стенах. Полынок, чабер, мята, душица, зверобой… Высушенные, они словно очнулись на пару и теперь возвращали запахи солнечного лета. И чем больше воды плескал Саня на груду камней, тем слышней отзывались травы.
После каждого ковша каменка шкварно шипела и ухала паром. Сначала в Саню — отчего тот охал, замирая всем телом, и, перетерпев жар, выдыхал, по-детски всхлипывая и по-стариковски покряхтывая от удовольствия. В этот миг летучий жар доходил и до нее, обжигая оголенную шею, руки, ноги. И она вздрагивала, как от озноба, не понимая Саниного удовольствия и сторожась его самого, худющего и незнакомого в черных доколенных трусах. Пристыженная светом дня и этим неузнаванием, она не знала, как себя вести, что говорить, что делать, к ужасу своему замечая, как тонкая рубашка ее влажнеет, прилипает к телу, становится прозрачной… И это заметил Саня и уже не черпает воду из бадьи, не плещет ее на каменку, не кряхтит и не охает, а неотрывно смотрит на ее обнаженность незнакомым пристальным взглядом… И делает шаг к ней…
В необъяснимом испуге Полина запахнулась руками и зажмурила глаза, но все равно продолжает видеть, как он подходит совсем близко и склоняется к ней. Гремит оброненный на пол ковш, и она чувствует на лице дыхание, от которого вздрагивает почему-то сильнее, чем от пара… Но руки Сани и шепот его призывный ей хорошо и желанно знакомы, и она успокоенно расслабляется всем телом…
Банный час у них нежданно затянулся. Одолев неловкость и стыдливость первых минут, они счастливо утратили ощущение времени. Шалея от сознания, что теперь всецело и безвозвратно принадлежат друг другу и ни от кого им не надо прятаться и никого не надо бояться, они вскоре расшалились как дети. Плескались водой, хлестались вениками, поддавали пару, и гасили нутряной жар и жажду погребным квасом, и снова давали волю своему безудержному ликованию.
Со знанием дела и крестьянской обстоятельностью Саня посвятил ее в банные премудрости, почерпнутые от деда. И про то, что баня все грехи смоет, а душу откроет сказал. И что тем, кто любит веник да парок, тому и хворь невдомек. И про банных домовых, что пару да жару боятся, с улыбкой поведал. И про веник, который в бане над всеми начальник. И под дедов приговор: «Хлещи хлещи, сымай прыщи, выгоняй хвори за наше подворье… За леса, за моря, где не всходит заря…» — докрасна исхлестал себя веником.
С особым значением, глядя прямо в глаза, сказал, как тайну доверил: «Побанься сто минут — и крылья отрастут… В одной баньке помыться — душой породниться…»
И Полина безоглядно верила во все чудеса бани, потому как тут же на себе испытывала их проявление.
Обновленные и породненные вышли они из бани с крылатой легкостью в душе и теле. Полина сама себе удивлялась, что уже не опускала в стыдливом смущении глаза, в ответ на свадебные шуточки, а лишь улыбалась доверчиво и счастливо.
Из заключения Саня вернулся, казалось, ученый уже. Полтора года отбыл. За прилежное поведение и ударную работу на тех же лесозаготовках срок сократили и под амнистию попал. Ни у кого из домашних и в мыслях не было, что он куда-то еще поедет. К тому времени и Михея переизбрали. Никаких вроде помех для работы в колхозе не осталось. Хоть сейчас иди плотником или по наряду. Не хочешь — учись на шофера, на тракториста. И встретили его с радостью открытой, без попреков и осуждения. Женщины плакали отрадными слезами, а старший Осокин хмурился больше для того, пожалуй, чтоб слезу усторожить. Никто словом не обмолвился о его прегрешениях, чтоб не поранить душу ненароком, про здоровье да про дорогу, как ехалось, расспрашивали.
Встреча с домом родным у побывавшего в заключении как второй суд — разве что приговор узнаешь в самом его начале: в первом взгляде прочтешь, в первом слове услышишь. Для Сани он был очевидным — если не само оправдание, то уж полное помилование наверняка, да еще с сочувствием и состраданием неподдельными. А вернее сказать так — с любовью истомившейся и нежностью сердечной.
С таким приговором и перед людьми, не робея, стоять можно. И Саня довольно скоро обвыкся со своим новым званием «отсидевший», «судимый». К тому же он считал себя больше обманутым, нежели обманщиком. И по его рассказам выходила так, что согрешил он на копейку, а отвечать пришлось на рубль.
Знал, конечно, что дело нечисто, так ведь начальству видней. И не один был такой, да один попался. Директор вышел сухим из воды. На суде он свидетелем (чуть ли не пострадавшим!) проходил и каялся, что не наладил должный учет и контроль на производстве.
— Слушаю и ушам своим не верю, — горячась, рассказывал Саня. — Солидный человек, при галстуке, при должности, а брешет, как за ухом чешет. Артист, каких поискать. Кается, а от главного отводит… Не то чтобы на меня валит… Нет, все по уму… На сердце руку кладет и сокрушается, что «молодой человек» (это он меня так величал) поддался влиянию преступного элемента.
В показаниях Саня ссылался на приезжего заготовителя, который якобы вручил ему «проездные-пробивные» деньги и должен был встретить на конечной станции.
Похоже было, что отмучили Саню угрызения совести, отпугали зарешеточные страхи. Рассказывал он о суде и заключении, как о чем-то обыденном, нимало не конфузясь оттого, что все это происходило именно с ним. И заметно доволен был стойкостью своей — «не раскололся» на суде, дружков не выдал… И они не забыли: хорошие посылки слали и обещали сполна отплатить ему «командировочку в края далекие…»
Свекровь мало что понимала в тонкостях судебного дела, но, услышав о посылках, ласково глядя на сына, спросила:
— Наше-то сальце получил ли?
— Да получил, мать, получил. Только оно мне килограмма два колбасы перепортило, — с непонятной досадой ответил Саня.
— Как так?! — искренне удивилась свекровь.
— Дак ваша ж посылка ихнюю опередила, а две подряд не положено получать. Вот колбаса и протухла, на складе дожидаючись… — Но потом, спохватившись, добавил благодушно: — Да что ее жалеть… Главное ж, не забыли дружки. И все по-ихнему вышло: освободили досрочно. Там, конечно, не мед, но жить можно…
На что свекор все же не стерпел, одернул сына:
— Чему радуешься, чем похваляешься, голова садовая? Ворам ты дружок, а государству вредитель, за то и сидел, да, видать, мало что понял…
— Понял, батя, понял, — миролюбиво ответил Саня, — ученый теперь…
А наедине сознался Полине, что вначале, когда угодил под следствие, была мысль себя порешить от стыда и позора. Да в «предвариловке» мужички тертые сидели — скоро мрачные думы развеяли, совесть в трын-траву упрятали, растолковали что к чему. Они же и убедили брать все на себя: мол, один черт, посадят, а так вроде бы с наваром: выйдешь на волю — и живьем со своих корешей, за кого сидел, не слазь, пусть раскошеливаются.
Помнится, все ночи у них тогда были разговорные. И стоило ей подумать об этом, тотчас почудился Санин прерывистый полушепот, каким он выплескивал из себя все, что скопилось за дни разлучные.
Когда он замолкал на минуту-другую, в тишине уснувшего дома, казалось, и время приостанавливалось.. Но не зависало недвижимой пустотой одинокости, а лишь замирало на миг — ходики сразу же подталкивали его радостно и торопливо… «Куда?!» — Полина незадавалась вопросом. В голосе часов слышалось главное — тут-тут! тут-тут! — о чем подтверждало и плечо ее, принимавшее Санину теплоту…
Вопрос этот безответный поднимется в ней неотвратимо в последнюю ночь перед его отъездом и обессилит предчувствием неоконченной беды…
Тюрьма есть тюрьма. Она печати не только в паспорт ставит. Много ее отметин с тревогой примечала и у мужа.
Говорят, что неволя сильных лечит, а слабых калечит. Ясное дело, за решеткой не ангелы прохлаждаются: у каждого в судьбе свой крутой поворот. У иного от этих самых поворотов вся жизнь в пружину закручена, что называется, «на полную катушку». Все-то он испытал, все знает-понимает, сам себе на уме и других под себя гнет. А Саня больно уж доверчив к чужим советам и мнениям. То и дело слышишь — «ребята подсказали», «умные люди посоветовали», «начальству видней»… Будто своего понятия ни о чем не имеет. Ведь слабым или нытиком его не назовешь. Вон ручищи какие, сколько работы переворочали. И духом не пал: хочет по-честному жизнь свою править. Не ворюга он, не злодей какой. Подманили рублем да разговорами доверительными о том, что предприятию, мол, позарез нужны наличные и безотчетные деньги для выколачивания дефицитных запчастей, машин и прочих товаров. Просили потрудиться на общее благо родного коллектива, так сказать. Слова ловкие говорить они умели. Трудиться Саня привык на совесть, а тут она вроде как не к месту. Потрудился все же. А когда пришло время ответ держать, радетели общего блага родному коллективу завопили: одному несудимому легче вынырнуть, а все вместе, мол, глубоко тонуть будем. Вот и выплыл Саня через полтора года, дважды послужив на «общее благо», которое на поверку сузилось до блага кучки рвачей.
Отговаривала, ох как отговаривала Полина Саню не связываться больше с людьми худыми. Не нужны те деньги грязные, добра от них не видать. Но Саня на своем стоял и осерчал даже:
— Я честно заработал их! Сидел тише мухи, а вкалывал, как слон. Глянь на руки мои…
Руки его сплошь в ссадинах и мозолях, даже после бани оставались грубы и неподатливы, что брезентовые рукавицы, просоленные потом изнутри, схваченные бетоном снаружи… Помнит Полина, как, всхлипывая, целовала их, окалываясь губами, ласкала, царапаясь мокрыми от слез щеками, но они ни разу не вздрогнули ответной нежностью. Ни ласками, ни слезами не могла пробиться сквозь их отчужденность. Как и ослабить, разжалобить Санину закоренелую решимость было ей не под силу. Видно, всю свою неполную тысячу дней и ночей тешил он себя одной вожделенной мечтой: как он, обретя волю, обретет и крылья для полета по жизни в виде обещанных за молчание и за страдание денег…
— Зачем же я тогда брал все на себя? Чтобы эти ворюги преспокойно жирели на свободе?! — почти кричал он, легко разрывая все нити уговоров и отговоров, которыми она робко опутывала его и пыталась убаюкать, отвлечь от мыслей недобрых.
Саня не слышал ее, не понимал, не соглашался, одержимый предстоящим расчетом. Он и домой-то заглянул потому, что главный «должник» его преспокойно грелся на солнышке у самого синего моря, курортничал, значит. Подходил срок возвращения директора Шторова из отпуска, и Саня все больше распалялся:
— Хочу его тепленьким взять, от солнышка южного не остывшего… Интересно знать, почем гражданин Шторов ценит фунт зарешеточного лиха. Сколько б ни выложил — свою цену назначу. Пусть посуетится, пусть чуток слиняет…
Нет, не покалечила Саню тюрьма, не сломила, только все-то в нем порядочно перепутала, если даже деньги, полученные за обман, считал он честно заработанными. И вообще понятия чести и совести, правды и справедливости, добра и зла как-то до неузнаваемости сузились, словно касались они не всех и каждого одинаково, а служили лишь компаниям «своих». Не обманул «своих», не предал — и ты герой, ты парень что надо…
Уехал Саня восстанавливать «справедливость», а попросту говоря — «свое» получить — и как в воду канул: месяца два никаких вестей.
С нарастающей тревогой тянулись те дни и ночи для Полины. Под сосущую боль своей вины непонятной… Под шумные вздохи и неумелые молитвы свекрови. Она приходила в горницу к образам, когда все уже спалив и не опускалась на колени, а останавливалась перед иконой, поправляла рушники, лампадку и между делом как бы спрашивала у божьей матери, будто у подруги: «Ну, что там сынок мой беспутный?… Далеко ли скитается, жив ли, здоров ли? Чую, сведет он меня до сроку в могилу… И девка вон без вины мается… Красивая, работящая, добрая. Чем нежена, не хозяйка? И отец, весь скрученный одной думой о нем, молчит себе. Да я-то знаю: переживает не меньше. Вон курить заново почал… Верни нам Саню поскорей, коли можешь…»
И пойдет себе прочь, на ходу окрестясь…
А Полина свою молитву тягучую заводит, не на бога, конечно, уповая — на людей. Добрых заклинает помочь Сане в его бездомном скитании, а злых — ступиться… Как выяснится потом, всего лишь наполовину «дошли» их молитвы. Хоть злые люди и не отступились от Сани, зато добрые помогли. Со временем сам он вернется в дом родной, да случится так, что утешно короткой будет эта радость долгожданная… Вернется Саня — и все тревоги и страхи Полины обретут свою плоть в его ночных рассказах исповедальных, полных раскаянья и жалости к себе. Хлынут они в ее распахнутую душу, затопят всю без остатка, станут неотторжимой частью ее существа. Не раз и не два, как вот сегодня, восходили они в ней то голосом Сани, то видением, сном наяву, будто все это и вправду произошло когда-то с ними вместе…
Как прибыл Саня в поселок леспромхоза, сразу Шторову позвонил. Тот от встречи уклонился, о возвращении в «родной коллектив» молодого человека Осокина тоже не заговаривал, лишь назвал адрес, по которому ему следовало объявиться. Вечером зашел по указанному адресу, встретили приветливо: за стол усадили, с возвращеньицем поздравили. Поинтересовались видами на будущее. Сказал: «И часа тут не пробуду…» Согласились. Худощавого, что вел беседу и за хозяина распоряжался, Саня знал хорошо по работе. Звали его Терентий Иванович, и в свое время он был у Сани за непосредственного начальника, поучал в делах и правых и «левых». Второго, громилу, Саня знал только по кличке Домкрат. Да тот больше помалкивал, подливал гостю и хозяину, выпивал вместе с ними и согласливо кивал головой, кто бы и что бы ни говорил. Был он вроде и за компанию, и за свидетеля, а то и за телохранителя, если потребуется. Саня это прекрасно понимал и старался вести себя дружелюбно, хоть и нелегко ему это давалось. Когда обо всем, что положено для должного приличия, было переговорено и выставленная бутылка допита, Терентий к главному перешел. Сказал, что Сане по всем статьям причитается за длительную командировочку. Говоря это, Терентий встал из-за стола и потянулся к портфелю, лежавшему поодаль на лавке. Встал и Саня, понимая важность момента. Терентий вынул из портфеля пачку денег и протянул Сане. Плотная, увесистая была пачка, давно таких денег не держал в руках. Только Саня на нее не глянул, а лишь легонько покачал на ладони, как бы взвешивая и оставаясь недовольным.
— Что, мало? — удивленно спросил Терентии. Как сигналу, поднялся с шумом из-за стола и Домкрат, Саню это только подзадорило. И он произнес заготовленную фразу:
— Для одной руки, может, и хватит, да только ведь обе трудились в командировочке — правая и левая…— На «левую» сделал ударение.
Терентий суетливо метнул взгляд с Сани на Домкрата и опять на Саню, и лицо его, как бы подмороженное изнутри от внезапной лютой мысли, тут же скомкалось недоброй, деланной улыбкой.
— Молоток, Санек, я знал, что ты парень не промах, себе цену знаешь. Бери и в левую, — сказал он явно не то, что думал, но вторую пачку выложил как миленький. И Саня не почувствовал торжества. Скорее ему стало не по себе: слишком быстро и покорно Терентий выложил вторую пачку.
Рассовав деньги по карманам, он вдруг сам засуетился, заторопился на поезд. Его не удерживали. Терентий лишь подсунул листок бумаги и ручку, чтобы Саня расписку написал: мол, в расчете, и роспись. А кому и за что — ни-ни… Да посоветовал, какой улицей к вокзалу идти: там, говорит, фонарей поболе, повидней будет. «Пошаливают у нас, Санек. А ты нынче — что купец с ярмарки пойдешь, при капитале. Не дай бог, перестренут». Недобро говорил. Попугивал да покаркивал. А скорее всего играл, как кот с мышкой. Хоть и облезлый, а все же кот. Об этом Саня уже потом думал-размышлял, когда место и время для того представились.
Тогда же, наскоро простившись, выскочил из гостей с единым подозрением: уж не фальшивок ли всучил ему Терентий с такой легкостью? У первого же фонаря выхватил из середины новую двадцатипятирублевку, похрустел ею, повертел, рассматривая. Вроде настоящая. Сунул в карман. Но спокойней не стало. Возбужден был и озадачен. Однако все прояснилось довольно скоро: за следующим фонарем его и встретили. Двое выросли как из-под земли. Хотел с ними заговорить, мол, свой я, корешки, только срок отмотал…
Да не поспел рта раскрыть — сзади мешок на голову набросили. И третий был. Он задохнулся и обвис в объятиях бандита, державшего мешок. Слышал, как похлопали по карманам и безошибочно извлекли из них денежные пачки, а самого, не дав отдышаться, бросили наземь, ногами стали пинать. Похоже, его не просто грабили, а карали…
Над болью и унижением нависал один лишь страх вернее ожидание самого, сильного и неотвратимого удара, после которого уже не будет ничего… И удар этот, как ему казалось, непременно должны были нанести в беззащитный затылок… Шапка осталась в мешке, а руками он закрывал лицо. И надо бы прикрыть затылок хотя бы руками, но их не хватало… Они одеревенели от сильных ударов, как и лицо, сразу отсыревшее кровью. Да и боязно было, словно в кипяток или огонь, сдвигать руки на затылок под последний удар…
Как бы подтверждая его обреченность, один из грабителей бросил фразу: «Кончай! Не доводи до мокрухи…» Смысл ее Саня воспринял по первому слову. И сжался весь. Но удары прекратились, и через долгую томительную паузу постиг истинный смысл сказанного: его пощадили. Но пощадили не потому, что пожалели, а чтобы не брать на себя лишнего «мокрого дела…».
Потом он куда-то полз, перекатывался с боку на бок, не в силах подняться на ноги. В себя пришел в больнице и первое, что увидел, — милицейскую форму под белым халатом. Молоденький милиционер нетерпеливо теребил полевую сумку, лежавшую у него на коленях, и, как только заметил, что Саня открыл глаза, сразу же стал задавать вопросы. Саня слышал голос его, то строгий и настойчивый, то доверительный и умоляющий, но совершенно не мог вникнуть в смысл того, о чем он говорил. Голова болезненно погудывала, а все тело сковывал страх движения: боязно было вздохнуть полной грудью, не то что рукой-ногой пошевелить. Казалось, даже стремление осмыслить, где он находится и что с ним произошло, вызывает гнетущую боль. И он не думал ни о чем. Лишь одна мысль-фраза билась в голове нудливо и неотвязно: «Жадность фр-р-р-райера сгубила… жадность фр-р-р-райера сгубила…» То ли он сам себе вынес такой приговор жаргонной фразой, то ли это было последнее, что он услышал от грабителей, втоптавших его в грязь посреди ночной улицы.
В тот день следователь так ничего и не добился от Сани. Врач выпроводил его из палаты, как ни пытался доказать важность и неотложность своего дела. С уходом следователя Саня вновь погрузился в забытье. Окончательно пришел в себя он среди ночи и, должно быть, впервые за прошедшие двое суток осознан что жизнь висела на волоске и что не известно еще, чем все это теперь кончится: поднимется ли он вообще на свои ноги и куда приведет его завтрашний день.
Права, Полюшка, права… нет честных денег за обман, нет в них радости душевной… Это он почувствовал еще тогда, когда рассовал пачки по карманам, да и самих денег теперь нет. Так и надо тебе, так и надо, фрайер хитромудрый.
Наутро следователь объявился, но беседа их снова шла как бы на разных языках, только уже не по вине Саниного состояния. Следователь кружил вокруг ограбления магазина, неподалеку от которого и подобрали избитого Саню. Саня клялся-божился, что не имеет никакого понятия об этой краже, следователь как будто верил ему, кивал головой, поддакивал, но тут же задавал вопросы, которые опрокидывали напрочь все Санины заявления: «В чем Косой был одет? Кто сторожу мешок на голову накинул? За что избили?»
На вопрос, за что его избили, Саня мог ответить лишь одно — ограбили. На это следователь выложил перед ним его бумажник с деньгами, с которыми он приехал из дому, справку об освобождении с места заключения и двадцатипятирублевку, вынутую им из пачки.
— Ваши? — спросил следователь.
— У кого нашли?—вырвалось у Сани вместо ответа.
— В ваших карманах… Что-то не похоже на ограбление…
О похищенных пачках Саня, естественно, промолчал, хотя в тот момент вдруг ясно вспомнил, как безошибочно грабители извлекали их из его карманов. В другие карманы даже не заглянули… Домкрат! Кто же еще мог знать? Вон почему Терентий, козел плешивый, так легко вручил вторую пачку. Уверен был, что беспроигрышно!
Новая догадка пронизала его уже не страхом, а негодованием. Забывшись, он резко подался вперед, словно хотел бежать и крушить своих обидчиков, но лишь застонал от боли и, обессиленный, откинулся на подушку, закрыл глаза.
Поняв, что большего от него не добиться, следователь ушел.
Жажда отмщения клокотала в Сане. Однако по мере своего выздоровления Саня все больше отходил от кровожадных, насильственных вариантов мести, понимая, что никогда не поднимет ни свою, ни чужую руку для расправы, для самосуда даже над самым заклятым врагом. Вдруг вспомнил о следователе и стал с нетерпением ждать его прихода. Но тот не объявлялся. Выписавшись из больницы, Саня сам отправился к прокурору.
Он шел с надеждой распутать или разорвать наконец липкую паутину несправедливости, которая окутала-опутала и жизнь его и совесть. Саня понимал, что он не просто жертва, но и прямой соучастник своей вины-беды. Но в том-то и заключалась злая воля пауков, заманивших его в коварные сети, и она должна быть наказана. Ярь слепой мести и жажда личной расплаты поутихли, разум и совесть брали свое; и он шел не столько оговаривать кого-то, сколько покаяться, снять с души непосильный груз своей и чужой вины, пока в горячке не натворил других бед.
Хоть и говорят, что у нечистой совести за душой три повести, но Полина верила каждому Саниному слову, сказанному о том злополучном дне. После края того, где он, неразумный, побывал, сапогами лиходеев забитый, нет уже резона выгораживать себя да прихорашивать.
Шел, говорит, выложить все как на духу, а там будь что будет. Осточертело в обманщиках ходить да еще со всех сторон за это ж и получать «горячими»… К одному берегу прибиваться надо, где по совести: согрешил — покайся, отстрадай по заслугам и живи, как люди добрые живут. А то он, Саня, выходит, отстрадать отстрадал за согрешенное, да не покаялся и снова в грязь по уши вляпался… За что и получил довесок без суда и следствия. Нет уж, хватит. Порог прокуратуры переступил и даже сам себе порадовался. Назад, мол, дороги нет.
В приемной у прокурора никого не было. Чернокожая дверь кабинета приоткрыта, а за ней через тамбурок — еще одна. Сразу войти не решился — голос там
слышался, знать, говорит с кем. Сел на стул, стал ждать, когда выйдут. Потом прислушался — все один говорит. Скажет что-либо и помолчит. То вдруг засмеется. Весело так, по-приятельски. Догадался, что прокурор по телефону с кем-то разговаривает. Голос его, с легкой картавинкой, узнал. На суде-то сурово звучал, a тут добродушный такой, приветливый. Такому и сознаться во всем не грех, поймет, поможет. Совсем на душе спокойно стало. Сам себя подбодрил даже, мол, не все потеряно, Санек.
Только рассупонился, душой обмяк, вдруг слышит… Ясно так, каждое слово. Будто нарочно для него: «Хорошо, Виктор Андреевич, завтра, как договорились. Непременно буду. Ружьишко новое хочется опробовать поскорей». Весело так сказано. А Саню жутью обдало — ведь это он, наверное, со Шторовым! Завтра выходной, и они, друзья-приятели, на охоту собрались… А он заслушался. Да тут ему еще одни лапти сплетут, подлиннее прежних. Слышит, в кабинете шаги приближаются. Подхватился со стула и прочь на улицу. Похоже, сам на себя страху нагнал, не надо было сбегать. Да не зря говорят, что у страха глаза велики, а ноги быстры.
Меньше чем через год, находясь вдали от леспромхоза, Саня случайно узнает, что Шторов и его подручные угодили-таки под суд и получили по заслугам. К тому времени Сане суждено будет пройти через неверие и отчаяние, и душа его, отходя от хворей суровых, надолго замрет где-то посредине между Саней, полным жизненных сил, гордым и уверенным в себе, и тем надломленным и затравленным, отчаявшимся на крайности… И потому запоздалое торжество справедливости не возрадует его в полную меру, а лишь вырвет из глубины души как облегчающий вздох святое проклятье, злодеям: «Так и надо им, душегубам. Давно пора!» Свою душевную рану он справедливо относил на их счет, как и опоздание справедливости приписывал своему малодушию.
Но в тот черный день с легкостью ветра вынесли ноги его из прокуратуры и понесли по поселку куда глаза глядят. Гнал Саню животный страх, охвативший его у двойной двери прокурорского кабинета. И жалом это го страха была застывшая в сознании паническая мысль — «Они тут все заодно!». И все вокруг разом сделалось для него подозрительным, таящим опасность. Заоглядывался, засуетился.
Мысленно перебрал всех былых дружков и не смог выбрать ни одного мало-мальски надежного. Поселок для него враз очужел, стал казаться скопищем смертельных врагов, о которых до сего дня он даже не подозревал.
Саня кружил по поселку, пока и вправду не заметил, что увивается за ним какой-то хлипкий тип. Завел его на пустынную улицу, прихватил с земли булыжину по-увесистее и развернулся навстречу. Преследователь вначале опешил, затоптался на месте, озираясь, а потом откровенно драпанул прочь и тем утвердил его в мысли, что следят… Гнался за ним Саня полквартала, зверея душой, да силы не те, быстро выдохся, сломанные ребра заныли, голова закружилась. Запустил со зла камень вдогонку, а сам, опомнившись, в ближайшую подворотню свернул и через дворы и огороды ушел в сторону. Порадовался, что снег еще не выпал, а подмерзшая земля следов не держит. Тайком забрался в чью-то баньку, стоявшую на отшибе, двери изнутри лавкой подпер, на засов не надеясь, и, обессиленный, рухнул на широкий полок.
«Все, дупляки стоклятые, теперь вы меня живьем не возьмете… — зло бросил он, как пригрозил всем своим неведомым врагам. — Лучше здесь вот на ремне порешить себя, чем снова корчиться под сапогами, чтоб всякие зверодеи над тобой измывались… Все равно теперь уж не упустят, доконают…» — с отчаянной решимостью подумал, глядя на стяжную скобу над дверью.
Голова шла кругами, а тело отзывалось тупой болью, воскрешая те злодейские удары, будто его все же догнали и вновь пинали ногами…
И вдруг приступ острой тоски стиснул, смял ему грудь, перехватил спазмом горло — другую, родимую баню вспомнил он. И Полину. Никого больше, только ее. Как встречала совсем недавно — будто и не было за ним ни вины, ни позора…
Только все это сном несбыточным опрокинулось в безвозвратное прошлое…
«Ох, Полюшка, Полюшка, и зачем ты меня отпустила сюда», — вырвалось у Сани, и ему нестерпимо жалко стало себя, обманувшего и обманутого, покинувшего и покинутого, битого, больного, загнанного в тупик. И рыдания, словно кровь горлом, хлынули из него неудержимо, обвально. И он заплакал навзрыд, как не плакал, быть может, с самого детства, от обиды и отчаяния, от холода и голода, от одиночества и бессилия что-либо поправить.
Никогда не забыть Сане этих опустошающих слез, этого пронзительного, безысходного одиночества…
И то, что здесь в бане вспомнилось как далекий несбыточный сон, жизнь еще не раз вернет Сане в яви, а эта стылая баня, его жизненный тупик, покажется ему скоро кошмарной небывальщиной, чужой историей, которая приклеилась, приросла к нему лишь потому, что он часто рассказывал ее знакомым и новознакомым людям, при всяком удобном случае поговорить «за жизнь». И когда придет пора рассказывать обо всем Полине, чувства его вновь обретут былую силу, только их болевое острие уже будет направлено в Полину… У него отболело, а в ее открытое сердце перельются его вчерашние боли. И чем беспристрастнее будет он говорить, тем острее воспримет душа ее, изнывающая виной своей и сочувствием. Саня не повинится, не покается, а просто расскажет обо всем, как заученный урок, как чужую историю болезни, и тем объяснит все…
«Помер во мне кто-то в бане той, Полюшка, помер навсегда… Старый я стал и не то чтоб злой, а какой-то безрадостный, виной и бедой перекошенный. Сейчас я понимаю, что сам, дурак, нагнал на себя страху и лютости, но тогда небо и впрямь с овчинку казалось. Отрыдался-отплакался, как себя схоронил. Глянул в окошко — снег идет. Крупный такой, тихий, пушистый. Благодать, да и только, а во мне ни единая жилка радостью не отозвалась. Лежу — колода колодой. Смотрю на снег, а он на глазах синеет от сумерек. Потом и вовсе пропадает за темнотой. Неужто, думаю, конец всему?! Должно, эта мысль и подтолкнула. Поднялся с полка. От холодного пару душа следенела. Решил идти, будь что будет. Железную кочерыжку в рукав спрятал, какое-никакое, а оружие. И пошел себе…»
… Посадка в вечерний поезд заканчивалась, и на перроне средь редкой публики Саня сразу же заметил маячившего Домкрата и милиционера, что приходил в больницу… Кого они высматривают-поджидают, сомнений у него не было. Под прикрытием товарняка, стоявшего на соседних путях, пробрался к поезду с другой стороны. Стал дергать двери вагонов — ни одна не поддалась, закрыты. «Вот и все», — безысходно и равнодушно подвел Саня итог своим тщетным попыткам. Еще минута-другая, состав тронется и откроет его перед всеми врагами, и не будет спасения. Бежать куда-то еще, прятаться, забиваться в нору, вроде той бани, он уже не мог — не было ни сил, ни желания. Вдруг легко и просто подумал о смерти: лечь на рельс под колесо, поезд дернется… раз-два-три — и пропади все пропадом! Разом кончится все худое и будет вечное хорошо… И не только подумал, на снег опустился и сполз под вагон, лег на спину и глаза закрыл. Ни страха, ни жалости к себе, даже покойно стало. Душа и тело как бы обрадовались передышке…
Оглушительно громко лязгнули буфера вагонов. Ни о чем не успел подумать — лишь саданулся обо что-то головой: неведомая сила одним махом вынесла его из-под вагона, так и оставшегося неподвижным. По соседнему пути двинулся товарняк.
Стоя на четвереньках, как завороженный, следил Саня за тяжелым движением вагонов. Тронулся и пассажирский, прокатываясь жерновами колес по тому месту, где только что лежал он, Саня… В просвете вагонов мелькнула грузная фигура Домкрата. Саня подхватился с земли и побежал за медленно движущимся вагоном, барабаня кулаками в дверь. Дверь неожиданно распахнулась. Саня схватился за поручни и прыгнул на ступеньку, но оскользнулся, едва снова не угодив на рельсы. Мужчина, открывший дверь, подхватил его и помог вскарабкаться в тамбур.
— Что, земеля, платформы перепутал? — весело спросил он у Сани, прикрывая дверь.
От этого вопроса, вернее от обращения «земеля», Саню передернуло. Он отшатнулся от своего спасителя, с ужасом вглядываясь в его лицо… Вдруг тошнота подкатила к горлу, и Саня ухватился за ручку двери, пытаясь ее открыть. Мужчина не понял, в чем дело, стал его удерживать: «Куда ты, дружище, что с тобой?!» А когда понял, сам распахнул дверь, но Саню из рук не выпускал, пока тот силился освободиться от тяготы. Желудок с утра был пуст, и тошнота лишь выворачивала его наизнанку.
Проходившая мимо проводница с готовностью возмутилась:
— У-у, меры не знают, нальются по самые уши…
Но мужчина разрядил ее негодование, бросив:
— Спокойно, сестричка, тут, похоже, другое… Принесла бы воды или чаю покрепче…
И она послушно принесла чайной заварки, от которой Сане и вправду стало полегче, как и от встречи с этими людьми, за один вечер ставшими совсем не случайными для него.
Иной сон начинался у Сани. Сон обыкновенной человеческой доброты и участия, чем нередко одаривают друг друга люди, не связанные прошлым, невольно и с радостью оборачиваясь друг к другу светлыми сторонами.
В тесноватом служебном полукупе Вера и Толя, так звали проводницу и мужчину, впустившего Саню в вагон, отхаживали его чаем со скудной дорожной снедью и слушали сбивчивый исповедальный рассказ. Он еще в тамбуре начал его, заявив вдруг: «А я под вашим вагоном лежал… Хотел того… на тот свет без билета укатить».
Главное было сказано, остальное как нитка за иголкой потянулось… Под стук колес и сочувственные вздохи. От сытости, тепла и внимания Саня без вина захмелел, и ему легко было говорить даже о том, в чем он и сам себе еще не успел признаться. Говорил, что думал и чувствовал, доверчиво и открыто, как обласканный ребенок. И было видно, что ему верят и свое болевое доверяют, тем самым как бы приглушая, отвлекая его от беды, все затмившей. Да он и сам, выговорившись, почувствовал облегчение.
Вера уложила его спать в служебном отсеке. Несмотря на предельную усталость от пережитого за день, сон не уводил сознание на покой. Перевозбужденный Саня и с закрытыми глазами, казалось, видел все, что происходит в отходящем ко сну вагоне, обостренно ловя все звуки, «проникающие в купе. Но из всех человеческих лиц перед глазами различимо стояли только два — Толи и Веры. Понимающие, сочувствующие, открытые любому движению души…
Саня как бы заново обретал людей, и самыми первыми, самыми близкими были они. Вскоре лицо Толи отступило. Должно быть, потому, что он лег спать и Саня не слышал его голоса, тогда как полуночный голос Веры, приглушенный и спокойный, то и дело раздавался за перегородкой. К ней обращались с разными вопросами и просьбами пассажиры, и она находила для каждого нужные слова, исполняла просьбы, провожала прибывших на очередную станцию, встречала и размещала новых. И Сане было приятно и необходимо слышать ее голос и угадывать, видеть выражение ее лица, помеченного первыми морщинами, которые, как ему казалось, вовсе не старили Веру, а лишь прописывали на лице лучшие черты ее души приветливой…
Наконец людские голоса, шаги, шорохи утонули в грохоте поезда, летящего сквозь завьюженную ночь. Вагон спал. Не стало слышно и голоса Веры. Саня напрягся, пытаясь различить хоть малейший шорох или стук, свидетельствующий о ее присутствии за перегородкой, но несколько минут ничего не мог расслышать. «Неужто в другой вагон ушла?» — подумал досадливо и вздрогнул от шума открывшейся двери.
— Почему не спишь? — спросила Вера шепотом, входя в купе и закрывая за собой дверь.
— Не спится что-то, — так же шепотом ответил Саня и, не давая себе отчета, поймал в темноте ее руку и прижался к ладони лицом.
Со вздохом присела Вера на полку и, как маленького, стала гладить Саню по голове, приговаривая: «Спи, страдалец бедованный. Спи, ласковый. Укатят, унесут колеса тебя от всех напастей, и следы метелица заметет. Не сыщут тебя враги-недруги… Спи, хороший мой…»
А Саня, опьяненный доверчивой близостью Веры, тянул ее к себе, шептал слова нежные, Полюшкой называл…
Не поправила, не отстранилась душа милосердная…
Грохотал вагон, бесновалась вьюга за окном, выстукивали колеса свое убежденное «туда-туда», и Сане и вправду легко и безмятежно верилось, что унесут, укатят они его от всех напастей и бед, надежно укроют от недругов в неоглядных завьюженных просторах…
Сутки погостили Саня и Толя дома у Веры. Она с матерью и пятилетней дочкой жила. Потом разъехались в разные стороны: Вера — в обратный рейс, а Саня с Толей дальше на восток.
Саню и уговаривать не пришлось. Истосковался он бесхитростным приятельским отношениям, без оглядки и осторожки, таким, когда душа нараспашку, а карман — навыворот. Толя отвечал этому на все сто. Неопределенно средних лет, но явно постарше Саниных двадцати восьми, он, казалось, ни в чем не стремился подавить Санину волю и желания, но так красочно умел преподнести свою очередную идею — что делать и куда податься, что Саня с безоговорочной готовностью следовал за ним.
Места, где они бывали, Толя объезжал уже во второй или третий раз. И всюду его встречали приветливо, как старого доброго знакомого. Даже женщины, которых он когда-то оставил, не простившись. Весь секрет его обаяния заключался, пожалуй, в том, что он был естественно справедлив и по-своему благороден. Никого не обманывал, никому не обещал невыполнимого, не подличал. Умел работать всласть даже по необходимости. В самую невзрачную, казалось бы, и утомительную работу — будь то разгрузка-загрузка вагонов или копка ям и траншей, привносил веселую живинку и чуть побольше смысла, чем требовал того маячивший рубль впереди. После удачного заработка непременно хоть десятку посылал матери. И Саню к тому приучил — помнить о доме. А в остальном заработок шел на «поддержание плавучего состояния». Его выражение. Когда-то в молодости он целую навигацию проплавал по Волге матросом баржи. А потом его «шхуну под парусами, но без якорей, понесло и по суше». Легко понесло.
Около года прокатал Саня следом за своим вольным и беззаботным приятелем, потом подался к дому. Миром и прощением приняла в себя Полина все его объяснения и признания. И прощения не просил, а простила. Должно быть, материнское в ней тогда пересилило, если в сердце место нашлось для благодарности той, что в черную Санину минуту рядом была и к жизни вернула… Вместе пролили облегчающие слезы над бедами минувшими. Да по-разному, видать.
Вскоре Саня, проведуя дружков-приятелей, вернулся домой за полночь. Тяжелый от выпитого пришел. Да не только от выпитого. Как обвинение бросил Полине: «Ты вся хорошая, добрая… О тебе даже Шептуниха дурного слова не сказала… А я весь в репьях. Не отмыться мне здесь и в бане…»
Тягучий и непонятный разговор был в ту ночь между ними. Саня нервничал, звал ее ехать неведомо куда, а она не могла ничего сказать ему убедительного в отговор, как-то успокоить.
— Эх, бабы, бабы, все б вам на одном месте сидеть да высиживать… — с необъяснимым отчаянием заключил он тогда.
Несколько дней протосковал и собрался в дорогу, нетвердо пообещав найти подходящее место и забрать Полину со всем выводком. Толя, мол, поможет. Он все знает-умеет.
Как потом выяснилось, Толю Саня больше не встретил. Сам попробовал поскитаться, да не так легко и весело у него получалось…
Дождь за окном прибавил голосу, в новую силу вошел. Теперь развезет — и с утра в поле нечего делать, так что хошь не хошь, а из воскресенья выходной получится, думалось Полине. Да и кстати: надо с утра за Павлушкой сбегать, а то уж неделю дома не был. Третьего дня видела его мимоходом, да больше расстроилась. Легко отпустил, без слез, только ручкой помахал. Приручила бабушка внука, приручила. Чего доброго, ее мамкой кликать начнет. Самое бы время одним домом жить, да мать с корня съезжать не хочет: «Отец твой хату рубил, в ней я и успокоюсь», — сказала раз и навсегда, как отрезала, и ни на какие уговоры не поддается. Напротив, Светланку с сыном к себе перетянула. Та, как из города прибыла с дитем на руках, сразу к бабушке перебралась, а матери наказала: «Объявится мой «ласковый», следов наших не показывай… Хватит, натерпелась…»
Светлана работала в Курске на трикотажном комбинате мотальщицей, там и замуж вышла за наладчика. Год прожили тихо-мирно, а как Гришатка появился, с наладчиком разлад пошел. «Мотальщиком он оказался»,— довольно весело заявила Светлана. Муж попивать, погуливать стал, а Светлана ему выговаривать. Может, когда и лишнее сказала, слов-то у нее всегда было много, не переговоришь… А у муженька, видно, слов не хватало, стал кулаками разговаривать. Да не на ту напал это тебе не Валюшка-тихоня, терпеть не будет. Сына в охапку — и поминай как звали. И все у нее легко просто. Виду не подает, что страдает или жалеет хотя бы. Устроилась в колхозе работать. А город, говорит, от меня не сбежит. Мне в армию не идти. Гришатка подрастет — и снова в мотальщицы умотаю. Свет клином не сошелся на моем пропойце.
Странно и непривычно было слышать Полине такие речи от дочери. Не верила в легкость и бесповоротность, с какой она открещивалась от отца своего ребенка. Понимала, что храбрится душа гордая, не желает казаться несчастной и беззащитной. Да и не в характере ее быть таковой. С детства любую боль перетерпит, но насилия над собой не позволит.
Зина, всего на два года старше ее, с мальства пыталась учить сестру уму-разуму. Как-то заставляла готовить уроки, а младшая не слушалась. Так она ее за ухо к столу тянула двумя руками. Ухо закровянило, припухло и долго горело маковым цветом. Но Светланка не сдалась: хватила ее зубами за руку, вырвалась и убежала со двора. И потом жаловалась не младшая со своим пылающим ухом, а укушенная и уязвленная учительница-мучительница.
Полина объяснила ей, как сумела, что младшую сестру надо жалеть и любить, а заставлять из-под палки заниматься вовсе негоже. Но, видно, мало чего втолковала. Как и Светланке, что старшую надо слушать.
Во всем была Зина аккуратистка и послушница, но когда касалось младшей сестры — тут она теряла себя. Руки, правда, в ход с тех пор не пускала, но языком изводила. О малейшей проказе Светланки доносила с какой-то нескрываемой радостью. Меньшая огрызаться огрызалась, но никогда не ябедничала в отместку, хотя хваленая Зина тоже была не без грешков: медом или вареньем могла полакомиться втихомолку, от домашней работы отлынивать, напраслину на кого из младших навести… Открытой вражды меж ними в общем-то не было, но память о красном ухе и укусе осталась.
Тот случай как бы развел их по своим углам. Столкнулись два характера и два возраста, когда претензии одного на старшинство и верховодство не обеспечивались должным душевным расположением и жизненным опытом. И страдала от этого больше Светлана. Дух противоречия старшей во многом определял ее детские привязанности и неприятия. Она игнорировала все, что обожала или чему учила сестра. Перво-наперво перестала донашивать ее одежку и обувку, не притрагивалась к ее игрушкам. Не любила вышивать и портняжничать скорее всего потому, что этим с увлечением занималась сестра и ее хвалили: и бабушка, и мать, и соседи.
Зину вообще много хвалили и в пример другим ставили. Училась она только на пятерки и, как трагедию, переживала, если случалось получить иную оценку. Ревностно следила за одеждой, за своим домашним уголком. Тут у нее был влиятельный наставник — Дуняша Дранкина, рукодельница и стряпуха. Зина частенько пропадала у нее — называла ее тетей Дуней, как мать, а не бабушкой, как сестры; и с большей охотой, чем дома, управлялась с живностью у соседки, особенно когда сам Дранкин дневал и ночевал на пасеке. Хотя в хлеву и на огороде Зина старалась бывать поменьше, по примеру той же Дранкиной. Зато Светланка отводила душу на грядках и возле домашней скотины. Этим, пожалуй, она только и выравнивала свои шансы в глазах свекрови, которая всегда благоволила к старшей.
И отношение к младшим сестрам, которые родились в год-два следом за Светланкой, у них заметно разнилось. Зина больше назидала и выговаривала им, держала в строгости, следила за делами школьными (здесь авторитет ее был непререкаем), а Светланка обхаживала сестренок по-домашнему, затевала игры, наряду с бабушкой (мать-то всегда на работе) приучала к животным и земле. Сестренки, не вовлеченные в их соперничество, в равной степени принимали внимание и заботы обеих. Правда, жизненные симпатии их позже все-таки разделились: Валя тяготела к Зине, а Олюшка с Оксаной и норовом и привязанностями больше походили на Светлану. Хотя они еще не встали на ноги, не оперились, и кто знает, как обернется к ним жизнь. Повторения неудавшегося замужества Светланы Полина, разумеется, им не желала. Но и расчетливое благополучие старшей дочери было ей в чем-то не по душе.
Черства Зина, грубовата стала. Одно ее отношение к детям не принимает сердце Полины. Шесть лет в замужестве не рожала, заявив, что она не кукушка, чтобы откладывать яйца в чужие гнезда. Мол, пока не будет своей квартиры, детей заводить не намерена. И подгадала забеременеть, когда их очередь на квартиру подошла, чтобы двухкомнатную получить. О втором ребенке речи не заводит. Надо, говорит, сначала машину приобрести. Зять попался хозяйственный, ей под стать. У них все к рукам прилипает, все в дом бежит. Машину приобрели, а второго ребенка заводить не спешат. Может, все это и разумно, когда по плану и настроению, да как-то не по себе Полине от этой разумности: сами на свет объявились, пользуются благами его направо и налево, а других (и кого — детей своих!) не пускают…
«И все продолжает осуждать и поучать других, даже мать», — с обидой подумала Полина о старшей.
Неприятно памятен их приезд в позапрошлое лето. Прикатили на подержанном «Запорожце», купленном по дешевке и то наполовину за ее картошку, а форсу у обоих на три «Волги». Оборотистый зять годом раньше гонял в Донбасс целый грузовик с картошкой. Хорошие деньги выручил. Да ей разве жалко? Не в этом дело. Дай бог, если на пользу. Обидно отношение.
Дочь как увидела ее в положении, так руками всплеснул а:
— Ну, мать; ты даешь! — И пошутила нелепо: — Родной мне будет или двоюродный?
Зять гнусно хмыкнул при этом.
Радость от встречи у Полины сразу же увяла, но виду она не подала:
— Родной, Зинушка, родной. Последний подарок папочки твоего. Это я за тебя стараюсь, вам же в городе все либо некогда, либо незачем, а то и вовсе не с руки…
Зато Оксана не сдержалась. Слышала Полина краем уха, как она сестре выговаривала:
— Ну и дура ты, Зинка! Что матери говоришь! Старше меня в два раза, городской себя считаешь, а дура дурой…
— А что я такого сказала? — искренне удивилась старшая как ни в чем не бывало. — Я ж пошутила…
Но, видно, что-то дошло, если она при расставании заискивала, давала матери советы, как вести себя перед родами, какую пищу принимать, чтобы витаминов было достаточно, от чего беречься… В городе у нее среди врачей свои нужные люди есть, так что она в курсе. И даже прослезилась, высказывая пожелание:
— Ты, мамуля, нам братика рожай. Мы его в город, устроим, в университете учиться будет…
И все ж последними словами ее было «Так мы договорились, мамуля?», отнюдь не относящееся к предстоящему рождению братика. Этот вопрос-напоминание как бы ставил точку в главной цели их приезда. Зять очень подробно обрисовал трудности, с какими сталкивается в городе любой желающий купить новую машину. Даже он — шофер при начальнике —н икак не может дотянуться до желанных «Жигулей». Продукт какой или одежку импортную — это запросто, а вот машину… В сельской же местности, особо тем, кто молоко-мясо сдает, могут выделить без всяких очередей. Были б мани мани… Это зять так деньги называет. А деньги у них найдутся.
И уговорили Полину подать заявку на машину. Полине чудно было представить себя в роли машиновладелицы, и она вначале посмеялась над этим, но дочь с зятем наседали. Она и не представляла, с каким лицом будет просить «себе» машину. Был бы хоть мужик в доме. Но разве откажешь. Так просили, будто кусок хлеба в голодуху…
Уехали, прихватив с собой (помимо всего огородного) живую овечку. Я, говорит зять, знаю хорошего резака в городе, шкуру не испортит. Да и мясо свежее будет.
Тоже ведь разумно все, а как-то не по душе. Не по душе эта безмерная страсть к деньгам, вещам, выгодам. Казалось бы, кому, как не ей, радоваться за старшую дочь, что так хорошо и ладно в жизни устроилась. Не бедствует, не сомневается. Со своим душа в душу живут. Только и слышишь «Зинуля» да «Витюля». Полное согласие и мир. А какой-то неуют от общения с ними.
Все-то они знают, всех-то они поучают. У Витюли, не гляди что шофер, свои понятия на все случаи жизни имеются. Балабонит по-ученому, точно лектор какой. Вы, говорит, мама, принцип социализма не до конца усвоили: от каждого по способности, каждому по его труду и уму. Все вы тут от зари до зари вкалываете, а потребовать и взять, где надо, свое законное — ума не хватает…
И стал перечислять всякие уловки да выгодки, как с умом воспользоваться сельским положением. Вы, говорит, на свой огород за копейками ходите, а там рубли да червонцы расти могут. Были б вы к Воронежу полближе, я б такие парники-оранжереи на ваших сотках отгрохал – хоть овощной магазин заваливай. Ранний овощ всегда в хорошей цене. Люди, которые с умом, большие деньги делают.
Ни разу Полина не слышала, чтобы Витюля грубое слово сказал или матом выругался сгоряча. Но, порой, он чуть ли не гордился тем, о чем бы ей, будь она на его месте, стыдно было самой вспомнить, не то что другим рассказывать.
Дедом своим восхищался. Мудер, говорит, мужик был, большую семейку поднял. Одной каши за присест целый тазик съедали. Разве ж на всех масла напасешься. Так дед масла кусок в центр миски бросит, а перед тем как мешать, к своему краю его ложкой сгребет, и кашей прикроет, а уж потом знай себе намешивает для всех постницу. И ничего, жевали молча. Только отец Витюлин, хоть и меньше всех был, да проворней: подкопом к масляному краю подбирался… Дед за это любил его крепко. «Ты, Трофимка, далеко пойдешь, — говорил. — Братья твои валухи, они в оглоблях под дугой так и загнутся, а ты верхом поскачешь…» И учиться в город его направил. Стал отец работать бухгалтером в колхозе, зажили припеваючи. Домище такой отгрохали, что деду и не снилось. Ну и, конечно, огород, скотина, «Москвич». Я, говорит, в десять лет машиной управлять мог. Казалось бы, чего еще надо. Корма задарма, мясо — пятак, а бензин и вовсе просто так. Свою скотину зарезал да на базар, а для дома в колхозе по себестоимости выписал овечью тушку. Мало ли таких ходов-выходов… Только им с председателем все мало казалось… Ну и отхватили кусище, а заглотнуть не поспели…
«И прав был дед, далеко-о батяня пошел, — почти весело сообщал Витюля. — Так далеко — отсюда не видать… На пять лет с конфискацией. Хорошо еще нас у матери только трое было, а не дедов кагал. Но и мы хлебнули постнятины за милую душу, век помнить буду. И урок батянин тоже. Я не такой дурак, чтоб на подсудное идти. В рамках закона, так сказать, по самому краешку, но не дальше…»
Послушаешь, все у него на словах вроде ладно выходит, не подкопаешься. На что брат ее Петруша, без малого полковник уже (проведать как раз приезжал), так и он переубедить, переспорить Витюлю с Зиной не мог. Только слушал да головой качал, приговаривая! «Кулачки вы, племяннички, кулачки…»
Нет, не по душе пришлись Полине эти разговор Рубль, конечно, дом держит, и никогда он лишним бывает, но нельзя ж его заместо иконы вывешивать. А Витюля молится на него без стыда и смущения. Мни говорит, батяня еще в детстве свою азбуку передал: «А-бы-вы-го-да…» Вроде в шутку говорил, а на деле так оно и выходит. И Зинка ему под стать, быстро той-то азбуке обучилась. И на людей-то оба смотрят, словно прицениваются, кто во что им обойдется и что с кого можно взять. Глаза бегают, во всем суета какая-то. Стараются угодить, умаслить, чтоб своего добиться. И благодарность не сердечная, а вещевая, откупочная. Подарочки-отдарочки: уважили нас — получите и вы в свою очередь. Словно и не родные.
Вот приехали и слова говорили добрые-ласковые, а внука с собой не привезли. Знать, заранее место для овечки готовили. Заодно лишний раз намекнули, как тесен «Запорожец» для их процветающей семьи. Мол, кумекай, теща…
Полина кумекала, конечно. Отказывать ни в чем не отказывала. Но большой радости от выполнения их желаний не испытывала.
Со Светланкой ей было куда проще и понятней. Душа у той нараспашку, без хитростей и недомолвок. Что ей надо — просто попросит. И свое последнее отдаст не в обмен, не в выгоду, не в благодарность даже, а по естественному движению души: порадовать близкого человека и себя согреть его радостью.
Пожалуй, здесь дух противоречия потрудился во благо. Мелочные, расчетливые ухватки сестры, которая сызмальства была себе на уме, да к тому же рано почувствовала себя старшей — первая просит и первая носит, — Светлана не только выдразнивала, но и оберегалась их. Своих, неприкосновенных для сестер, игрушек, своих книжек, карандашей, ручек она никогда пе имела. «На моей попиши, перо само катится», — предложит ручку младшенькой и довольна, если сестра порадуется. Лакомство какое, ягоды и фрукты, горох зеленый или щавель — сама не съест, пока младших не угостит. Тем же и они ей платили. Не было случая, чтобы сестры что-либо пожалели Светлане или затаили от нее.
Душа ее требовала встречной открытости и не понимала иного отношения. Пожалуй, на этом и не сошлась дочка со своим наладчиком.
Она и отца с детства не принимала всерьез. Ни кто иной, как девятилетняя Светланка, увидев однажды его, бежала в хату с криком: «Мамкин сибиряк приехал!»
А с матерью была нежна до влюбленности. С возрастом уже не позволяла себе говорить об отце неуважительно. То, что было дорого матери, она не подвергала сомнению. И все же перешла к бабушке жить. Чтоб не было двух бед под одной крышей. Правда, довольно скоро и другая немаловажная причина обозначилась. Стал к Светланке захаживать парень успенский…
Вроде бы по многим жизненным позициям старшая сестра обошла нынче Светланку. У той все как на витрине. Но Полина не взвешивала их на весах благополучия. Младшая была ближе сердцу. К тому же в ней, в ее судьбе, Полина смутно улавливала какой-то важный для себя ответ.
Баня была не только фамильной гордостью Осокиных. Была она и приметой села для большой округи. Всякий березовский, а то и успенский не упускал случая тде-либо на стороне прихвастнуть, как диковинкой, что у нас, мол, и баня есть. Пойди сыщи ее в каком другом селе района, а то и всей области. По крайней мере такой-то настоящей, русской, бревенчатой…
Весь деревенский люд испокон веку летом в прудах да ручьях моется, а по холоду — теснится в корытцах и тазиках, по кухням и закуткам, ни дать ни взять — дети малые. Так за всю жизнь из корытец и не вырастали, не знали не ведали банного пару, словно и не русские вовсе.
Свекор обычно исходил негодованием по этому поводу и, не стесняясь в выражениях, ленивыми кротами односельчан обзывал. Ему резонно возражали, что Курск не Томск и не Омск, где тайга в огороде пасется. Там, говорят, не только дома да бани из дерева, а и дороги с тротуарами… И ходят и ездят по дереву. А тут степь, все под хлебушко распахано, а лесу только для того и оставили, чтобы, значит, не забывали, какое оно с виду дерево и куда растет. Тут не то что бревна, иной раз и доски да щепки не сыщешь. Хату из глины лепи, а тебе баню еще подавай. Ну, построим все мы купальные хоромы — саманки или землянки — это уже другой раз, говор. А топить чем будешь? Печек в селе в два раза больше станет. На них ни торфу, ни хворосту, ни соломы не напасешься. Всю округу за одну зиму спалим и сами с дымом в трубы повылетаем… Да нам, кротам она и ни к чему, баня-светлица. Крот не бездельник, он потом умывается…
В спорах и доводах каждый, конечно, гнул в свою сторону и, случалось, перегибал, но Полина всецело стояла за свекра. Она уже не представляла себе житья-бытья без бани и поражалась одному: какие тут могут быть споры? Разве можно отказывать себе в таком празднике? Обновку пропусти, сладость не съешь, а душу и тело банькой уважь… Дак после нее сам себя новым по земле носишь, с какими сладостями то сравнишь. А иной домину отгрохает, скота полный дзор заведет, машину, телевизор и коров накупит, а себя в тазике на кухоньке полощет. Диво просто, как человек себя обделяет.
На веку Осокиных уже третья баня. И в трубу не летели. Правда, дед Матвей, отец свекра (Полина его почти и не помнила, в войну еще помер), за первую баню едва на Соловки не угодил, а за вторую к могиле его таки пододвинули.
Объявился он в селе еще задолго до первой империалистической войны. С артельщиками по плотницкому делу нанялся к березовскому помещику усадьбу отстраивать. Сам из владимирских погорельцев. Полгода они работали, обжились, огляделись. Дед Матвей себе невесту и выглядел из местных. Первая жена у него во время родов померла. Отвез отцу деньги на новую избу, а сам вернулся. Березовцы приняли его хорошо: добрый мастер — селу прибыль. Да и помещику он пригляделся, держал его при усадьбе, с лесом помог. В зятьях дед недолго пожил, свою пятистенку срубил всем на загляденье. Души и рук не пожалел. С замахом на большую семью и долгую жизнь ставил. Да еще и баню. Эка, хватил.
В селе его, в общем-то, уважали. Мастер отменный, цену себе знал, голову ни перед кем не гнул, да и сам лебезунов не терпел. Горд был, но характером покладист, кто бы ни обращался за подмогой, отказа не имел.
Но были конечно, и завистники его умению, удаче, характеру наконец. Не каждый тогда прямо стоял.
А один, Степка Жигарь, и вовсе врагом заделался. Был он парень, что называется, оторви да брось. Над малыми издевался, шкодил, воровал. И все исподтишка, тихим сапом. Один раз он коту на хвост намотал пакли и поджег. Обезумевший кот бросился в гуменник и подпалил необмолоченные снопы. Хорошо еще люди рядом были, успели погасить. Степку мужики изловили, хотели отдубасить как следует, а дед Осокин другую кару придумал: пусть, говорит, почувствует, каково коту было. Сломил махровую ветку крапивы и в штаны Степке всунул, да еще и прихлопнул по заднице с приговоркой: «А теперь бегай, Степа, пока горит попа…»
С тех пор Степку стали Жигарем звать и Осокиных он возненавидел тихо и люто. Пока малой был — мелко пакостил. Подрос — за большое взялся. В революцию, когда стали потрошить помещичью усадьбу, Жигарь хотел красного петуха пустить, а заодно и на подворье Осокиных подбивал: мол, громи барского прихвостня… Но его вовремя осадили. И усадьбу запалить не позволили, в ней скоро школу открыли. И Осокина в обиду не дали. Мужик, у которого Степка гумно когда-то поджег, первый его и одернул: «Должно, у тебя, малый, до сих пор в мотне крапива тлеить, шо ты на Осокина зубы востришь».
После гражданской вернулся Жигарь без документов. Сказал, что в поезде обокрали, когда домой из Крыма возвращался. Свое хозяйство вел кое-как, но зато активистом заделался рьяным: к сельсовету прилип, исполнял все поручения с завидным рвением, на собраниях и сходках старался слово свое сказать да погромче, в комитете бедноты чуть ли не заводилой считался. И вроде бы дождался часа своего. Когда стали кулаков по пальцам считать, он уполномоченному из уезда на Осокиных самый большой загнул. И про помещичьи бревна, из которых хоромы себе Осокин выстроил, рассказал. И про баню как пережиток буржуазного прошлого в нашей действительности вставил. А на подворье Осокиных показную истерику закатил: шинелишку распахнул, выказывая свою бедняцкую оголенность, и вопил: «Осокин, мироед, пей мою кровушку последнюю!» Даже уполномоченный, поверивший было в кулацкую суть Осокина, одозрительно на него покосился. Переиграл Жигарь. Нашлись неробкие люди, растолковали представите власти, что к чему.
Снова сорвалась Степкина мстительная затея.
И вскоре среди ночи занялась осокинская баня. Избу тронуть Жигарь не посмел, то ли собаки побоялся то ли вовремя скумекал, что дело подсудное. Выместил злобу на «пережитке буржуазного прошлого» и скрылся из Березовки.
Построили Осокины вторую баню. Да судьба, видно, на том веревку не докрутила. Зимой, в сорок третьем, когда немцы уже драпали, дед Осокин стоял возле хаты не тая радость, наблюдал, как буксовала в глубоко снегу хваленая фашистская техника. Один из танков сошел с дороги и прямиком к бане. А за ним по следу с гусениц потрусили фрицы и полицаи. Танк зацепил за угол баню и легко, словно поленницу дров, порушил ее. Дед Матвей стерпел, с места не сдвинулся. Бесстрастно смотрел, как солдаты разбирали ее по бревнышку и тянули их на дорогу. Но когда бронированный фашист стал подминать одну за другой березки — ровесницы его сыновей и внуков, посаженные в дни рождений, дед в беспамятстве бросился в огород, крича и размахивая руками. Тут его и саданули прикладом по спине. Нет, не насмерть. Дожил до осени, чтобы получить первую похоронку на младшего сына. Достал-таки его своим Кащеевым заклинанием проклятый Жигарь. Дед пал духом и вторая похоронка пришла уже без него… Больше их не было. Остальные пятеро вернулись домой израненые, но живые.
Третью баню ставил Павел Матвеевич Осокин со своими старшими сыновьями уже после войны. В первую мирную зиму сыновья отправились в Предуралье на лесозаготовки для колхоза и себе лесу заработали. А поначалу так просто отрыли в огороде землянку и банились в ней за милую душу. Охота, известное дело, пуще неволи.
Но была еще у свекра мечта заветная — артельную баню соорудить, с парной, по всем правилам. С этим условием он и сынов направил на лесозаготовки, чтоб для родного села дело доброе сделали, прежде чем свою большую судьбу на стороне ладить. Условие условием, а два вагона леса прибыли и они с председателем прикинули хозяйские прорехи, у Осокина самого (он бригадиром плотников был) не повернулся язык на бане настаивать. Одним вдовам-солдаткам дай по бревну на ремонт хат — и вагона как не бывало. А для колхоза после такой разрухи лесу вагон, что коробка спичек для курильщика: день-другой почиркал и уже по сторонам смотрит, у кого бы прикурить…
Через несколько лет и младшего сына отправил на лесозаготовки с тем же уговором — строить общественную баню. Да с ним известно что приключилось. Председатель не стал Осокина попрекать за Санино дезертирство, а вырученного леса снова хватило лишь на строительные заплатки. Свинарник надо ремонтировать: там крыша — сито, а стены — решето. У телят не лучше: зима на носу, а хвосты наружу.
Годы шли, председатели менялись, да заботы и отговорки у них оставались прежними. У председателя сельсовета ответ один: «Сметы нету. А еще на клуб выбивать деньги». У колхозного ответов побольше: «Погоди, коровник достроим, зерносклад совсем раскрыт, мастерские ладить надо… В райкоме за баню мне и слова не скажут, а за коровник недостроенный такую парилку закатят, что и баня твоя не потребуется…»
Свекор, конечно, сам не с луны свалился, понимал трудности. Но обида брала: с какой непререкаемой легкостью потребы «скота и живота» отодвигают в сторону многое из того, что как воздух нужно человеку, хотя бы уж для того, чтобы не переставать чувствовать себя таковым.
Те же председатели с превеликой охотой пользовались его банным гостеприимством, не скупились на хвалебные слова в адрес русской бани и русского духа, запивая их не только квасом, и, разомлев в благости, говорили о колхозной бане как о решенном. И, верно, каждый год на отчетном собрании непременно записывали пункт: построить баню. Но через год всякий раз под язвительные шуточки мужиков в адрес председателя да и самого банного радетеля Осокина, пункт этот переносился в новое решение…
– Решили решенное перерешить, — комментировал Угрюмо свекор это событие.
Дальше всех из председателей колхоза пошел оборотистый Захар Гвоздюков, особый любитель попариться. Он хоть и со стороны пришлый, но бурную строительную деятельность развернул. И в первый же год своего правления раздобыл где-то специальный паровой котел для бани. Сердце у Осокина радостно дрогнуло от этой новости, и он с большим радушием привечал своим паром Гвоздюкова и его многочисленных нужных делу людей… В осокинскую баню, как в музей со многими удовольствиями, зачастили «товарищи из района» всех рангов и назначений, проверяющие и помогающие, решающие и добывающие…
Один зимний гость Полине надолго запомнился. Уж больно Гвоздюков вокруг него хлопотал. Распорядился: подменить Полину с обеда на ферме. Со своим шофером на дом прислал пять поллитровок водки и коньяку, забитых цыплят, телятины, яиц, меду. Ну, пир горой. Полина аж разволновалась: и что за генерал такой, не дай бог не угодят чем. Они со свекровью в четыре руки полдня жарили, парили. Свекор в бане ворожил. Гвоздюков и насчет дров с понятием скумекал: велел конюху сухую грушу в саду свалить и к бане подвезти. Вместе со свекром они ее и разделали.
И что ж за птица такая залетела в Березовку, судачили меж собой Полина со свекровью, если столько людей, с ног сбившись, весь день хлопочут?
Через порог переступил и правда важной персоной — богатая каракулевая шапка и воротник под нее, серебром отливает. Разделся — попроще стал: лысенький, румяненький крепышок. Но все равно начальник: темно-синий китель на нем, галифе и белые фетровые сапоги, коричневой кожей подбитые, такие в деревне почему-то директорскими зовут. С хозяйками за ручку поздоровался, как величать спрашивал и оба раза себя по имен отчеству назвал. Улыбался — золотыми коронками поблескивал. В баню направляясь, новую фуфайку свекра надел и шапку свою. Чудно было глядеть: от начальника одна голова да ноги остались.
Часа полтора свекор с председателем обхаживал, гостя в бане то паром с веничком, то пивком домашним то квасом. После баньки сделался совсем добреньким. Семь потов, говорит, сошло. Ахал и охал восхищенно. Кителек расстегнул, как душу приоткрыл. За столом разговорился. Ел-пил охотно. Смачно хрумкая огурцом расхваливал хозяек за их стряпню, Осокина за баню. К только председателя пожуривал за колхозные беспоряки. А тот быстро соглашался со всем и плакался на нехватку техники разной. Плакался умело, ненадоедливо, по слезинке. Сначала о новом комбайне речь завел.. потом ненароком о запчастях каких-то вспомнил. Под следующий тост кормоизмельчитель назвал, как желаемое: «Эх, нам бы…» Гость не давал ему договорить и обрывал одной и той же решительной фразой:
Это не вопрос, — давая понять, что поможет. — Но и вы сумейте! — и строжал при этом голосом и взором.
Но тут же, промокая холщовым полотенцем лысину, которая то и дело росилась мелкими каплями пота, добрел и переводил взгляд на Полину. Взгляд его, точно неотвязная муха, все время кружил подле нее.
Полина старалась подольше задерживаться на кухне, но гость требовательно окликал ее, чтобы рассказать ей очередную забавную, как ему казалось, историю, усаживал рядом с собой, уговаривал выпить и в который раз расспрашивал о муже и сокрушался, как может он, сукин сын, от такой жены куда-то надолго уезжать. А сам при этом за локоток ее подхватывал или приобнимал за плечи в знак особого сочувствия. Свекор хмурился, но помалкивал. А Гвоздюков цвел, ободряюще подмигивал Полине, мол, все идет как надо и начальничек на мази. И знай подливает тому да тосты говорит во здравие гостя всемогущего…
Наелся-напился гость до ику. Маленький с виду, а в себя принял порядочно. Осоловел, отяжелел. Решено было тут же его и расквартировать. Перестелила Полина свою постель в комнатке, туда и гостя поместили. Он вскоре засопел сладенько. Прибрав со стола, сама на дочкиной в горнице легла. Дочки, три их уже было, на печи давно спали.
Ночью проснулась от шороха и сопения. Кто-то шарил по ее кровати. Чуть было не крикнула спросонья, Да вовремя вспомнила, что это же гость на двор, должно, хочет, да выхода не найдет. Немудрено в чужом-то доме да еще не помня себя, как и где ложился… Привстала, чтоб направить его в нужную ему сторону, а он за ока ее хвать и клюнул носом в грудь. «Одну минуточку, одну минуточку… Водички вам надовыпить», — сказала и прошла в прихожую. Потопал за ней как привязанный, и пока она черпала кружкой воду из ведра, лапал сзади за грудь. Тут уж она осерчала: ткнула локтем в живот, отпустил. И уже вгорячах плеснула всю кружку ему на голову.
«А-а-а-ы-ы…» — зашелся навсхлип и замер, растопырив неуклюжие руки.
Жаль, в потемках лица не видать. От начальского небось ничего не осталось… При кальсонах-то, — подумала сердито. Бросила ему на плечо полотенце и ушла в кухню. «Ой как же теперь?» — запоздало ужаснулась. «Ничего, лысина быстро просохнет», — успокоила сама себя и прыснула в ладони, представив, как он там промокается. «Потеха, да и только».
Утром, рассказывала потом свекровь, гость встал невеселый, обиженно чихал и, отказавшись от завтрака, пешком в контору подался…
А Гвоздюков при встрече, хитровато щурясь, поинтересовался:
— И какой такой сон нехороший видел наш товарищ из области на твоих подушках, Полина? Смурной в контору прискакал, чихает, будто табаку обнюхался. У вас за столом все гудел «не вопрос, не вопрос», — председатель передразнил, а когда заявку ему подсунул, так сразу стеклянные глаза выпучил… Подумаем, буркнул. Ни хрена он теперь не надумает, сыч дутый… Эх, досада.
Свекор же председателю свое выговорил:
— Все, Михалыч, не валяй ваньку, строй для всех баньку. А я тебе больше не топец… Как зачнешь строить, тогда приходи, попаримся. Хотя тебе что, сел в машину да в райцентр умотал к государственному пару… А колхознички нехай себе в тазиках, как дети малые, бултыхаются…
Но как ни хотел Гвоздюков попариться, стройку бани так и не зачал — урезали кирпич, стройматериалы да шифер. Рад бы в рай выскочить, да долги не пускали. А тут еще неурожайный год выпал. Махнул свекор на председателя рукой и решил методом народной стройки попытать счастья. Он уже тогда не бригадирил у плотников, а сторожем при конюшне состоял по возрасту и здоровью. Да и бригады плотницкой как таковой не существовало. На стройку Гвоздюков все больше со стороны подряжал, шабашников. Строили они, конечно, быстро, только в большую копеечку обходилась колхозу эта лихость. А свои будто и разучились топор в руках держать или кирпич укладывать.
Вот и решил свекор доказать, что не так это, как думает пришлый Гвоздюков. Выступил на комсомольском собрании, подзадорил молодежь на дело доброе. Только молодежь резонно заявила: сначала клуб построим. Смета на него давно была, а руки не находились. Клуб так клуб. «А может, заодно и баньку с другой стороны пристроим?!» — предложил свекор прорабу и начальству сельскому. «Некультурно… Негигиенично… Так не бывает, — ответили. — Да и кирпича не хватит, баню потом».
Клуб какой-никакой построили, а на баню ни кирпича у колхоза, ни духу у молодежи не хватило. Да к тому же паровой котел с молчаливого согласия Гвоздюкова механик на свиноферме под кормозапарник приспособил: Свиньи, конечно, повеселей стали хрюкать и килограммы набирать. Нужное это дело, кто ж спорит. А люди что, люди — они терпеливые, они еще подождут… Но Осокин не унимался.- С молодежью не догорело, задумал со стариками попробовать. Им-то парок да полок милее. Затопил баню пожарче и пригласил в нее пятерых сверстников, на агитсовещание, так сказать. Попарились они, посидели-потолковали за бутылочкой и сошлись на едином: строить стариковским миром без смет и лимитов.
Место выбрали на склоне бугра, поближе к ручью, чтоб воду не возить издалека. Сговорились с бульдозеристом-дорожником, он за магарыч такого наворочал, что хоть генеральский блиндаж оборудуй. У них и была мысль соорудить баню по-солдатски, как долговременную огневую точку из подручных средств, без чертежей и прорабов. Своим сынам, зятьям да внукам наказали присматривать, где что подходящее для стройки без дела лежит. Мало ли по селу и полям-логам камня да лому всякого поразбросано. И со двора кирпич-другой, доску-жердину взять можно. Вокруг же колхозных новостроек чего только не сыщется: щебенка, бой кирпичный, а иной раз балки да плиты бетонные травой зарастают… Стены земляные да потолок плетнями наметили обшить, лоза вольная. За котлы на первых порах сойдут и отслужившие свое бочки железные из-под солярки.
В общем, за месяц трудов неторопливых обозначилось артельное чистилище. Уж и верх прикрыли, и основу для печи выложили. Да не ко времени дожди заладили, и Осокин слег со своим ревматизмом. А тут, как на грех, завезли ядохимикаты с удобрениями. В дождь их под открытым небом не бросишь. Не спросясь, сгрузили их в баню. Сказали, временно.
— В колхозе временное только начальство да его благие намерения, — сказал в сердцах свекор, когда ем сообщили об этом. — Нашли топор под лавкой. И культурно теперь, и гигиенично!
Осерчал Осокин на Гвоздюкова окончательно и расхворался еще больше. А председатель не нашел ничего лучшего, как потом начислить вольным строителям зарплату за сооружение склада.
Оскорбленный Осокин деньги получать отказался, как и поддерживать с Гвоздюковым какие-либо отношения. Да того вскоре и переизбрали. Председателем стал молодой агроном, на, которого свекор особых банных надежд не возлагал: он ведь тоже имел к удобрениям отношение. А когда однажды Полина с больным зубом прождала битых два часа обещанную председателем машину для поездки в больницу, да так и не дождалась, свекор и вовсе махнул рукой:
— И этот такой же пентюхляй. Куда ему баню строить, если он с бурьяном сладить не может…
Сама Полина относилась к новому председателю несколько по-иному. Свое выступление на собрании животноводов, которое проводил председатель, вспомнила не без улыбки. Говорили, как обычно, о кормах, о надоях, о соревновании. Передовиков похваливали, призывали на них равняться. Отстающих журили. Полина была ближе к передовым, но ни в тот ни в другой списки не попала. Не то чтобы обидно, а непривычно как-то. Вроде и не работала вовсе. И, слушая рассказ передовой доярки о том, как надо ухаживать за животными, чтобы добиться высоких показателей, ревниво отмечала, что это и она делает не хуже. В прошлом году так же вот делилась опытом с подругами своими, и неловко ей было поучать их. Катерина Солодова тогда не сдержалась от вопроса:
— Какой же это передовой опыт? И я ж все так-то вот делаю, а молока меньше взяла.
Зоотехник, на свою голову, ответил ей за Полину:
— Ты, Солодова, в корень дела смотри. Полина Вальевна у нас ласковая. Она со своими коровами, как с подружками беседует о самом приятном. Дак они ж ей не только отдают молоко все до капли, но при хорошем настроении еще больше нагуливают. А ты ж как крикнешь на своих, так у них молоко со страху по копытам разбегается…
Катерина потом все потешалась над зоотехником: «Иди-ка сюда, Иван Иванович, в корень дела посмотримся», — и хохотала на весь коровник. Глупая бедовка, не хуже других знает, что от грубого слова не только молоко у коров прячется, а и у самой душа в кулачок сжимается. Но пересилить себя не может, вся на крике. А от своих коров Полина теперь вот и ласковым словом большего не возьмет. Тройку старых давно бы надо выбраковать, у них и зубы-то выпадать начали. Вспомнила о коровьих зубах — и свой недолеченный заныл. Она взяла да и выступила. Мол, говорят, у коровы молоко на языке, а мне кажется, еще и на зубах, особенно на тех, которые выпали… О своих перестарках сказала. Председатель в блокнотике что-то пометил, на зоотехника вопросительно поглядел. Она тогда и про свой зуб поведала. Как, собираясь в больницу, вырядилась в новое платье, которым правление колхоза наградило ее за хорошую работу, да полдня прокрутилась возле конторы в ожидании машины. «Спасибо Николаю Ивановичу (поклонилась иронично в сторону председателя), что позволил хоть обновку людям показать, когда б еще сподобилась. А на ферму пришла с больным-то зубом да так шуганула своих родимых от боли и обиды, что у них и вправду молоко по копытам разбежалось».
Председатель краской залился, извиняться стал и на зоотехника совсем сердито смотрит. Меня, говорит, тогда районное начальство с собой забрало, а я Ивана Ивановича попросил обеспечить вас машиной.. Да он, видно, коровьими заботами так увлекся, что про доярку забыл…
— Ему что, у него ничего не болит… И на зуб ему не попадайся, — под общий хохот вставила Катерина.
Полина тоже смеялась, больше радуясь тому, что беда из Катерины шутками-подковырками выходит. Пусть они все с одним и тем же намеком и грубоваты, но ей же в облегчение и другим не в тягость. А то, бывало, такого наговорит, что самые языкастые бабы головами качают. Так уж она мужское племя дегтем вдол и поперек мажет с примерами да подробностями. Оно и понятно: мыслимо ли в девках до сорока лет оставаться? Теперь ищи-свищи виноватого.
Один раз и подвернулся ей зоотехник с неуклюжей шуткой насчет «скорой Катиной свадьбы». Все, что скопилось в ней — обиду, горечь, злость, — выплеснула на него грязно и матерно. Оскорбила при всех человека ни за что ни про что, хуже некуда. Председатель сельсовета показательный товарищеский суд над ней затеял провести. Прослышала о том Катя — и к Полине: «Скажи им, Поля, шоб не позорили от греха подальше. Не то я бог знает что сделаю…» Видно было, что не шутит, — убитая вся, вот-вот разрыдается.
«Повиниться бы тебе перед Иваном Ивановичем, Катюша», — только и сказала ей. Как обезумевшая бросилась Катерина бежать. Полина следом: уж не задумала и вправду чего недоброго? А та нагнала зоотехника посеред двора, бросилась перед ним на колени и в голос: «Ванечка, прости меня, дуру лютую!..» Суд сам собой и состоялся.
Такая вот у Полины лучшая подруга. Оскорбит — всем тяжко, и прощение просит — не легче…
По душе Полине да и свекру самому пришлась одна затея председателя, всколыхнувшая все село. Словно подслушав ворчание Осокина-старшего по поводу бурьяна, прижившегося у подворий и на пустырях, председатель на сельском активе поставил вопрос ребром: или сейчас разойдемся, чтобы весь бурьян в селе выкосить, или переименуем свою Березовку в более подходящее ей сегодня название…
Второго «или» никто, конечно, всерьез не принимал, но и к первому давно привыкли. Сколько раз об этом говорили, сколько решали. Сельсовет даже штрафом грозился за неряшливое содержание усадьбы. Да все эти угрозы, что медведю морозы: спит себе в берлоге, косолапый, посапывает. Каждый рассуждал приблизительно так: никто не косит, кто ж с меня спросит?
Да к тому же на всех собраниях, сессиях и заседаниях обычно решали уйму вопросов, один важнее другого, ведь и то надо и это надо, раз собрались, и решения наслаиваются одно на другое, точно блины, снятые со сковородки. Но весь фокус в том, что самые важные дела на собрании обсуждают, как правило первыми, а блины-то, надо понимать, едят в обратном порядке… И тот, с которого зачинали стряпню, волей-неволей оказывается самым заклеклым и пристывшим… После двух, а то и трех часов говорильного действия больших и малых «надо» скапливалось изрядное количество и уже самое важное из них казалось таковым по сравнению со всеми остальными, а значит, не больно-то «горело»… И все шло своим чередом, как и было до «блинопека»…
Но председатель поднял на активе лишь один вопрос, и получилось так, что бурьян в данный момент — это то, что «горит», и тушить пожар зеленый надо уже всем миром и немедля.
К сорнякам он и сам давно подбирался. Поля и дороги его волей и настоянием обкосили. Где по наряду косаря выделял, где энтузиастов на вечерник поднимал, а то и сам с агрономом или бригадиром вперемен махал косой «для разминки» где-либо на дальнем поле. Летом косу в своей машине возил. И специалистов приучал не гнушаться ею. На каждую ферму, на каждый тракторный стан велел выделить по две-три косы и наказал хранить в боевой готовности наравне с пожарным инструментом. В дело по мере надобности пускать. Так что был готов председатель перейти к решительным действиям против сорняков и в самом селе.
После короткого разговора активисты разошлись по своим дворам выполнять решение, а к остальным послали гонцов с извещением о всеобщем наступлении на бурьян. На следующий вечер активисты уже ходили по своим «пятидворкам» не просто с проверкой, как выполняется давнишняя воля сельсовета, но и с косами. Подсобляли тем, кому было не под силу совладать со своими зарослями…
У Татьяныча — Егора Колоскова косил сам председатель. Об этом событии Татьяныч рассказывал своему другу и однополчанину Павлу Осокину.
— Паша, ты поди глянь, что с моей усадьбой сталося… Стоит аки бесштанный новобранец на плацу…
Татьянычем окрестили его по матери, женщине волевой и решительной. Мужа своего Федора Колоскова, пришлого из Успенки, она прогнала со двора после того, как тот, пьяный, побил ее, беременную, и от этого чился выкидыш. Несколько дней и ночей Татьяна с вилами в руках не пускала его на порог ни с попом, ни с мировым. Отступился Колосков и навсегда ушел из Березовки. А года через два бобылка Татьяна родила сына Егора и записала его Ивановичем. Каких только Иванов, известных округе, ни прикладывала людская молва Егору в отцы, ни на одном не сошлись. И прозвали к матушке Татьянычем. Мать была человеком гордым, скрытным, лишнего слова не скажет. Может, перед смертью бы и созналась, да ушла из жизни внезапно, утонула в половодье. И одно время Егор сиротовал, пока сам не заматерел, досрочно в мужика не оборотило. Село ему доброй мачехой было, помогали люди чем могли. Стадо стеречь доверили. А пастух иль подпасок – в любом доме свой человек, там ему и стол и привет.
Но стихия черным вороном кружила над Егоровы домом. Самого за войну ни одна пуля серьезно не пометила, а жену чуть ли не в огороде мороз прибрал. Boзвращалась из райцентра метельным вечером да хотела видно, спрямить путь, целиной пошла и приплутала. Сыну теплую шапку несла, на картошку выменяла, a caму закоченевшую в дом внесли… Сына взяли к себе Осокины, он был одногодком и дружком Сани. У них и дождался отца с войны. После армии сын домой не вернулся, на стройке в Перми работал, там и осел.
Егор сошелся было со вдовствующей матерью Катерины Солодовой, да никак сговориться не смогли, в какой хате жить. Это уже на памяти Полины было. В Егорову хату тетка Маня идти не захотела. Она, говорит, у тебя против баб заговорена, водою меченная — маманя залилась, морозом крещенная — баба твоя не зря порог не нашла. Теперь огня жди. А я гореть заживо не желаю.
Обиделся Егор на эту бабью дурь и сам не пошел. В гости друг к другу наведывались, а жили порознь. Сначала все Егор гостевал. Но вскоре подросла Катерина, и пришлось тетке Мане переступать порог заговоренного дома. Приберет, обстирает, приголубит, но остаться так и не осталась.
Последние годы Татьяныч жил круглым бобылем. Ночью на птичнике дежурил, днем, передремав часок-другой, выкуривал долгую цигарку, сидя на бескорой дубовой колодине перед домом. Разговоры вести среди дня было не с кем и обычно он занимался своей живностью, которая состояла из двух петухов и курицы, есл не считать кота. Кот был приблудный и заявлялся от случая к случаю. Татьяныч вынимал из карманов залоснившегося от долгой и бессменной носки пиджака две горсти корма и, расставив руки в стороны, тонким бабьим голоском нараспев выводил куриную зазывалку. И со всех шести ног неслось на зов его хозяйство, продираясь сквозь бурьян, который буйным подлеском стоял вокруг хаты не имевшей, казалось, при себе ни двора, ни сарая, ни погреба, ни огорода — все тонуло, скрывалось пропадало в саженных зарослях дудника и пустотела, репейника и чернобылья, крапивы и лебеды… Лишь у колоды, что лежала под окнами на улице, была оттоптана небольшая пустыринка, служившая Егору и двором и палисадом. Сюда под разные руки и прибегали оба петуха, один белоперый, другой — карий, коричневый с радужным отливом. Курица хоть и белянка, но благоволила к цветному. Тот был помощнее беляка и на открытом месте обычно побивал его, не подпуская к курице. И беляку приходилось наверстывать свое в бурьяне. Татьяныч болел за слабого, к тому ж он был голосистее, и, отсыпая с обеих рук зерновую сечку, старался белому подсыпать поболе, чтоб уравнять силы. Но петухи меньше поклевывали, а больше подругу зазывали да друг на друга косо поглядывали. И курица металась туда-сюда.
Егор садился на колоду рядом с котом, доставал из кармана яйцо, тюкал им о дерево и выливал в его ущербину желтый глазок. Кот знал, что это гостинец ему, и не спеша слизывал, жмурясь от удовольствия, а затем снова усаживался в позу наблюдателя и поводил глазами за мятущейся курицей. Петухи шаг за шагом сближались и наконец, взъерошив воротниками шейное оперенье, принимали бойцовские стойки. А курица, не обращая на них ни малейшего внимания, доклевывала зерно. Всякий раз Егор с надеждой подбадривал белого: «Не поддавайся фуфырю, а то в котелок загремишь», — однако надежды его не оправдывались и белому приходилось спасаться бегством. Егор плевался с досады и шел куда-нибудь.
На этом исчерпывались его домашние заботы. Зато в любой момент прогулки по селу могло найтись самое неожиданное дело. Его окликали по-разному: и Егором Ивановичем, и Татьянычем, и дедушкой Егором, и просто дедушкой, а младшая из внучек Осокиных когда-то звала его даже дедом Татьяной. На все он откликался одинаково с готовностью и не просто оборачивался, а сразу шел к зовущему. Его могли попросить присмотреть за малышом, пока хозяйка сбегает в магазин за покупкой, что-то поддержать или помочь перенести, спросить совета на любую домашнюю заботу. И он участливо принимался за дело, слушал или сам размышлял вслух, как оно ладней справить ту или иную работу.
Несмотря на полную бесхозяйственность Егорова двора, мнение его по многим житейским вопросам принималось на веру. Вхожий в любой дом, он был бесценным носителем самого что ни на есть передового опыта во всех мелочах крестьянского быта. Не только помнил, у кого из березовцев лучший погреб, горячее печка, породистее живность, плодовитее тот или иной овощ, но и кто понимает толк в разносоле, стряпне, премудростях слесарных и столярных, знаток законов и обходных маневров и даже у кого и где в городах есть родственники, которых тоже можно о чем-то нужном расспросить… И не случайно в спорных делах березовцы как веский довод бросали: «У Татьяныча спроси…»
Среди бела дня праздных вопросов никто обычно не задавал. Только по делу. А уж коли случался повод за чаркой посидеть, тогда Егора Ивановича любили подъегорить вопросцем-другим по поводу его житья холостяцкого рядом с теткой Маней и особенно о двух петухах при курице. Зная цену доброй шутке и компанейскому подтруну, он позволял потешиться над собой, всякий раз по-новому толкуя эти свои странности… То выходило, что два петуха нужны ему, чтобы уравнять в деревне мужское население с женским; то для ученого опыта — как помирить двух сердитых кочетов при одной сердешной; то намекал на свою страсть к двужелтошным яйцам… Говорилось это для почину. Затем следовал веселый рассказ о птичьих повадках и взаимоотношениях, но все без труда узнавали кого-либо из знакомых, обычно тут же присутствовавших, и от этого побасенка Егорова была особенно смешной. Сам Татьяныч при этом сохранял серьезное выражение лица, смеялись только глаза, светло-карие до желтизны.
Однако балагуром в полном смысле слова он не был. Больше любил поддержать и умел затеять обстоятельный житейский разговор. Полина всегда радовалась его появлению. При нем прихворнувший свекор не так маялся своей немощью. Вместе с Егором Ивановичем в дом приходили и все новости местного значения, о которых ни по радио не услышишь, ни в газете не прочтешь. Новости он просто излагал, уважительно предоставляя комментировать их Осокину. Его почитал как старшего брата, почти никогда не перечил и от него одного сносил какие-либо поучения и резкие выпады.
К Осокиным душа его теплела не только за то, что они приютили сына-сироту в тяжкую годину. Это обстоятельство как бы еще больше укрепило его в одной тайной догадке, о чем Полина узнала лишь после смерти свекра.
Тяжко и растерянно переживал Егор Иванович эту потерю. Ему казалось, будто пропала влекущая его по жизни тяга. Как в буран: шел кто-то впереди и тянул за канат. Потом вдруг остановка, ослаб канат. Хочешь его натянуть, перебираешь руками, а к тебе приходит пустой конец… Как дальше? Душевная связка с Осокиным держала его, не давала размякнуть. А тут он вдруг почувствовал себя вновь круглым сиротой. Как в далекую бесприютную весну юности, когда полая вода навсегда унесла мать.
«Ты у нас, Егорущка, когда-то был сыном села, а нынче вроде его отец родной. Обо всех хлопочешь, все тебя за своего считают. Куда нашим председателям до тебя», — говорил Осокин в минуту добрую. А в последнюю встречу, как чувствовал близкий конец, тихо попросил: «За моими присмотри, брат…»
И вроде бы кто за канат подергивал, мол, веди…
Следующим утром Егор Иванович сразу же направился на осокинский двор и стал долаживать закут для теленка, так и не оконченный хозяином. Полина, пришедшая с обеденной дойки, застала его за работой. Тут он ей и открылся…
— Никому не говорил, Полинушка, а тебе скажу. Знаю, не болтлива, слова лишнего в чужие уши не посеешь. Хотя ничего в том худого нет, если и прознает кто теперь. В общем, никакой я не Иванович на самом деле, а Матвеич, как Паша, свекор твой… В Матвее Демидыче давно я отца сердцем признал. Помню, как смотрел на меня всегда добро и смущенно, как заговорить старался и подмогнуть чем. А когда мы с Пашей на фронт уходили — обоих обнял и наказывал беречь друг друга… После первого ж боя признался я тогда Паше. И он, подумав, не спротиворечил. Сказал, что отец наставлял его и братьев подсоблять «мальцу Колоскову», сирота ведь… От себя ж добавил сердечно: мы теперь с тобой и без отца братья по судьбе солдатской, и ништо нас разроднить не сможет. Написал я Матвею Демидовичу письмо, что его за отца родного считаю и сына в его честь Матвеем назвал не случайно. Просил присмотреть за ним, если со мной что стрясется на войне. Да стряслось не со мной… Письмо, по всему видать, не дошло. Нас тогда фриц так попер танками да бомбами, что мы поперед почты за домом своим очутились… Березовка под немцем оказалась. Отец и без письма сердцем почуял и все как надо сделал. Про главное не довелось нам обмолвиться, да я уж не сомневался. Из наших, березовсжих, окромя Матвея Демидовича, маманя навряд ли кого подпустила к себе. Гордая была, на полушки не разменивалась. Таку обротать много характеру надо было иметь… И чтоб по сердцу пришелся, само собой. У Матвея Демидовича характеру доставало. И мать всегда Осокиных в добрый пример ставила, их держаться велела. Так что дочкам твоим я вроде дед кровный…
Глубоко и многомерно вошла в душу Полине эта Егорова тайна. Не новостью запоздалой, а новым переосмысленным отношением к людям, кого она касалась прямо или косвенно. И, быть может, прежде всего к себе самой…
У Полины, как и у самого Колоскова, хватало разума сердца не осуждать, а сочувствовать. И острее всего болела душа за Татьяну, которую воспринимала скорее как подругу, и многократно переживала судьбу ее, всякий раз желая представить счастливый исход, но из этого ничего не получалось. Наоборот, выходило так, что случайная смерть Татьяны чуть ли не единственное возможное ее завершение. С этим Полина никак не могла согласиться. Почему-то ей казалось (или очень сильно хотелось верить в то), что, несмотря на все невзгоды, Татьяна испытала сполна свою меру счастья. Гордой и доброй помнит ее Егор Иванович. А разве сердце, способное творить и испытывать добро, признает себя несчастным?
Егор Иванович больше говорил о старом Осокине. Полина была, пожалуй, единственным человеком, с кем он мог говорить о нем, как об отце, не таясь, не опасаясь услышать в ответ что-либо неосторожное, двусмысленное, бросающее тень на дорогой образ. И теперь он, словно насиротовавшийся подросток, утолял душу этими разговорами, наверняка что-то ненароком присочиняя в желаемом свете переосмысливая каждое памятное слово, сказанное Матвеем Демидовичем, жесты его и поступки.
Даже у Павла Матвеевича не было к отцу столь восчищенного и неутолимого отношения. Вспоминал он его всегда с почтением, но сдержанно. А незадолго до смерти обронил фразу, подлинный смысл которой пришел вместе с Егоровой тайной: «Перебрал Санька дедовой крови, перебрал…» Не то чтобы очень сурово осуждал Павел Матвеевич отца за Татьяну Колоскову, но и в заслугу не ставил. Обижался за мать.
В сознании Полины облик деда Осокина поневоле расслаивался на несколько мало похожих друг на друга. Привычный — бородатый и строгоглазый, каким он глядел с пожелтевшей фотографии и представал в рассказах Сани и его родителей, не сходился с душевноликим, обрисованным признаниями Егора Ивановича. И оба разнились с тем неуловимым образом, который возникал в ней самой, стоило только ей представить Матвея Осокина наедине с Татьяной Колосковой… Во грехе, в сердечной отраде… В тайне, светло пережившей их обоих…
Эти свои представления она, пожалуй, не доверила б никому. Слишком глубоко в сокровенное уходили они. В необсудимое, в необъяснимое, где сердце еще что-то может понять, а слово, если и не испортит все, то уж непременно принизит, душу смутит.
С давних пор у Полины завелся друг душевный, неизменный, собеседник многоголосый — радио. С ним день начинался, с ним и заканчивался. Утром, конечно, много не послушаешь. Все на ходу, все в хлопотах. Разве песня какая вдруг остановит. Особенно по заявкам или песня-привет.
Однажды и ей довелось пережить острое чувство радости. Светланка, еще работая в Курске, написала письмо в областное радио и попросила передать песню «Над полями» ко дню рождения матери. Трудно сказать, больше поразило сердце Полины, любимая ли песня в ее честь или же слова из письма Светланы: «Наша мама самый добрый человек на земле!», которые диктор прочитал в ряду с другими, о ее трудовых делах. Светланка, верная себе, — писала от имени всех сестер.
По вечерам перед самым сном, уже в постели лежа Полина любила слушать радиопередачи. Книги когда читать? Весь день заботным колесом катится. Разве что по вечерам с дочками. Потому больше и запомнились сказки да стихи, которые дочки-младшеклассницы читали вслух. Подрастая, каждая потом в свои книжки молчком утыкалась. Иногда пересказывали. Но это все коротко, как новость. А по радио слушаешь спектакли или рассказ какой с музыкой и забываешь обо всем. Кажется, сама уже живешь теми событиями, о каких доносят голоса и музыка…
Совсем недавно Полина, на минутку забежав в избу перед тем как идти на вечернюю дойку, вдруг остановилась, точно ее позвали голосом радио.
Спасибо, спасибо
Тому, кто строил баню,
Кто печку топит в бане
И греет воду в чане.
Еще тому спасибо, –
Кто поддает нам жару,
Кто поддает нам жару
И не жалеет пару.
Забыла, куда торопилась, присела в горнице на диван, охваченная радостным волнением. А чистый, чуть озорной женский голос вольно и сердечно выводил:
Спасибо, спасибо
Заботливой хозяйке.
Спасибо, спасибо
Тому, кто сделал шайки,
Гладко выстругал полок,
Вправил в печку котелок,
Кто дровишек нам припас,
Вяжет веники для нас…
«Вот бы Павел Матвеевич послушал… Какая благодать душевная!» — отозвалось в ней сожалением, что никогда не услышать больше Осокину-старшему ни песенного, ни людского «спасибо» за хлопоты его многолетние, не порадоваться делу своему справленному. Голос поющий меж тем, набрав шутливой лютости на манер дедова банного заговора «хлещи, хлещи», зашелся заклинанием:
А враги и лиходеи
Пусть уходят поскорее
За болота, за трясины,
За скрипучие осины.
Трижды тридевять годов
У злодеев и врагов
Пусть не будет жаркой
бани
И воды не будет в чане.
Пусть у вора, у мошенника
Не найдется в бане веника…
Какие могут быть в селе родном враги и лиходеи? Другое дело из самой себя и людей гнать бы вражду да недобрину всякую, как хворь душевную… «Выгоняй хвори за наше подворье…» Об этом Полине и в песню вставить хотелось. А она все ж хорошо кончалась:
Спасибо, спасибо
Тому, кто строил баню…
Эти строчки несколько дней кряду бились в ней тихой радостью, непроизвольно выплескиваясь с голосом в самый неожиданный момент.
С того времени, как стало ясно, что домашние стены уже не в силах удержать Саню более чем на две-три недели, встречи их стали охлажденными и неловкими. Полину появление мужа почти всегда заставало врасплох. Ждала, конечно, надеялась, что объявится когда-нибудь, но когда?! Саня ведь телеграмм и писем не слал, встречать не наказывал. Сваливался снегом на голову, сам не ведая, как его примут. И потому последние годы встречались не то чтобы как чужие, а как свои, близкие, но с утра крепко повздорившие. Наговорили друг другу всяких обидных слов и разошлись, не ведая, кто из них больше виноват или обижен. А вечером надо было сходиться под одной крышей и обозначать свое отношение, если уж не жарким объятием, то хотя бы взглядом и словом.
Виноватым по праву чувствовал себя Саня. Но и обиды у него не отнимешь. На себя ли, судьбу ли свою, не больно складную, на других — более ловких и везучих. Или даже вот на Полину, за эту первую минуту встречи с ней… Она стоит перед ним вся безвинная, немой упрек и осуждение. А он должен принизить себя и как-то все объяснить, оправдать: и свое долгое отсутствие, и свое появление, и повиниться за все сразу…
Жалкая, конечно, обида, несоразмерная и несправедливая. Но не менее въедливая и острая. Кто знает, сколько встреч было отложено, отодвинуто из-за этой минуты, которую не обойдешь, как ни крути, как ни отдаляй ее. И хоть она, минута эта, им же, Саней, заквашена, так от этого и муторней…
Умом ли разумом, душой ли сердцем, но Полина понимала и чуяла эту минуту, ожидала ее с надеждой и желанием облегчить ее, обратить в радость, отогнав все обиды свои, чтоб на них не цеплялись репьями, неодолимые. Она отродясь, ни вины, ни обиды носить в себе долго не могла. Провинится перед кем — тут же бежит вину заглаживать. Обидит ее кто — не отвернется, не ответит встречной колкостью, а только удивленно смотрит на обидчика и молчит, словно ожидая, когда ж ей объяснят причину напраслины. Чаще всего они и были беспричинные. Особенно от Катерины-старки, когда та не в духе. Но и желчная, скандальная Катерина не выдерживала молчаливого недоуменного взгляда Полины и ворчала примирительно: «С тобой, Полька, и лаяться неинтересно, стоишь, как тварь безъязыкая: не мычишь, не бодаешься…»
Вот и перед мужем своим долгожданным терялась она в эту минуту первую, забывая о том, как думала-мечтала встретить его. Ей казалось, что она просто не узнавала Саню. То ли от неожиданности, то ли он и впрямь менялся, чужея с днями-годами. И оттого первый взгляд, первый жест были не такие, как надо бы. А сама она, как на грех, была в замызганном дояркином одеянии, с работы шла, не с танцев, либо по дому управлялась, тоже в праздничное не вырядишься. И от всего этого радость комкалась, отзываясь внезапной колкой обидой.
— Здравствуй, Саня, — говорила она тихо, без упрека и отчуждения, но и без порыва броситься на грудь, и сам собой задавался будничный вопрос «есть хочешь?», после которого вроде и неуместны были объятия и noцелуи. И все событие как бы подчинялось домашней обыденности. Праздника не выходило, но не было и отчуждения. Его принимали как своего, незабытого, полноправного. И грех было Сане жаловаться на это. Да он и не жаловался, сам в ту минуту готовый в ноги броситься и разрыдаться, потянись только Полина к нему, как бывало. Но она, онемелая, не в силах двинуться с места, не тянулась, и он не делал шага ей навстречу, а поспешно откликался на ее вопрос о еде.
— Нет, спасибо, не хочу, — говорил он, как бы ни был голоден. — Попить бы… да обмыться….
И после этих слов Полина уже знала, что ей надо делать. Ставила на стол кувшин с молоком, хлеб, стряпню какую, что было сготовлено, и скликала дочку старшую или всех сразу: «Кормите отца, где вы там попрятались ..» Появлялись дочки, притихшие и любопытные. И начинали неловко и суетливо сносить на стол все, что нужно было для еды, из шкафа, с плиты, из сеней, подталкивая друг друга, потому что ходили за чем-то одним сразу по двое, по трое, боясь хоть на миг задержаться наедине с отцом. Из этой детской колготни Полине было уже проще выбраться. Накинув на голову платок понарядней и фуфайку почище, она с коромыслом и ведрами шла к роднику.
Водопроводная колонка и старый колодец были в полсотне метров от двора, но она шла к роднику. В сумерки, затемно, в мороз, слякоть и гололед она упрямо спускалась к роднику, черпала из криницы воду и, переводя дух, карабкалась по тропке вверх. Ей нужна была какая-то работа, тяжесть, перегрузка, чтобы не расслабиться, не дать волю слезам, не завопить в голос.
Раньше, когда у них все еще было хорошо и Саня возвращался в дом родной то из армии, то с лесозаготовок, Полина, казалось, одним духом взлетала на бугор — руки в размахе на коромысле распахнуты, тело в изгибе вперед устремлено, шаг пружинистый, ходкий. Что и говорить, когда молодо и радостно, тогда и взлетаешь. Как на крыльях несла тогда она воду родниковую. И перво-наперво — дружку милому, гостю желанному. Вера была — попьет воды из земли родимой, навек к ней привяжется. Великая, светлая вера, как тут не летать. Да, видно, не на всякого чары ее действуют. Не привязался Саня к родной земле и дому.
Нет былой веры в силу родниковую, разве что остаюсь привычка, согретая трепетной, неосознанной надеждой — а вдруг? Но ее уже мало для того, чтобы с легким сердцем протягивать Сане первый ковш… И Полина молча проходит через двор прямо в баню, сливает воду в котел, разводит под ним огонь и вновь идет к роднику, позвякивая пустыми ведрами. На этот звук не замедлила объявиться соседка, Дуняша Дранкина.
— Поль, никак твой голубь заявился? — начинач она мирно-ласково.
— Заявился, тетя Дуня, заявился, — отвечала Полина как можно приветливей, но прибавляла шагу, чтобы скорее пройти мимо досужих вопросов.
— То-то я смотрю, по гололеду к роднику побегля. Нешто баню затеяла? — уже с деланным удивлением продолжала соседка, наверняка зная, что и Саня приехал, и баня для него готовится.
— Затеяла, тетя Дуня, затеяла, — тем же тоном отвечала Полина, выходя со двора и становясь недосягаемой для следующего соседкиного вопроса.
И снова — руки по коромыслу, как распахнутые крылья, тело в изгибе подалось вперед. Но как не похоже теперь на взлет это карабканье по склону… С каждым годом ведра казались все тяжелей и тяжелей. А в год Павлушкин они и вовсе в дугу согнули. «Воды в них тот же пуд, а как гнут, — грустно подумалось. — А еще Дуняша тяжести прибавит…»
В тот год Саня в начале февраля заявился. Как всегда, без привета, без весточки. Под вечер возвращалась Полина из райцентра на машине с комбикормом. Километрах в пяти от села, вывернув из-за посадки на клеверище, нагнали пешехода. Мужчина в черной шапке, темном зимнем пальто, валенках с галошами показался незнакомым: видать, издалека, коль так вырядился на оттепель. Да и чемоданчик в руке. Но как шел, склонив голову набок, как отступил в сторону и повернулся, пропуская машину… Жаром Полину обдало — он!
Заметив, что шофер сбавил ход, она испуганно в пилась ему в руку:
— Гони, Вася, не останавливайся…
— Так надо ж подбросить, может, из наших кто…
Но Полина твердила лихорадочно одно и то же:
— Гони, Вася, тебя прошу, гони…
Шофер, молодой парень, только что из армии вернулся, не узнал, конечно, Саню. Непонимающе глянул на нее и прибавил газу. Потом до самого села с тревогой поглядывал в ее сторону. А она, как сжалась в углу кабинки, словно прячась от кого-то или удерживая в себе внезапно пронзившую боль, так и не расправилась до самого села. Там шофер не выдержал и спросил:
— Теть Поль, плохо тебе, может, к медпункту подвернуть?
— Не-е… прошло, — с выдохом ответила она откуда-то издалека, — поехали разгружаться…
Покa разгружались, пока дошла с фермы усталая и битая, терзая себя одним безответным вопросом — чего испугалась, почему не остановила машину? — Саня уже дома был. Ужинали с отцом и бутылку водки успели почать.
Встал ей навстречу — небритый, худющий, в пестром сером свитере, в темных брюках, заправленных в черные валенки, только уже без галош. Вид усталый, запаренный, волосы к голове прилипли. Еще бы, двадцать верст хляби в таких валенках отмахать. И жалость и невольная виноватость подкатили непрошено к сердцу ее…
— Здравствуй, Поля, — сказал, но не сделал к ней шагу.
— Здравствуй, Саня, — ответила и она, оставаясь у порога.
— А мы тут того… без тебя хозяйствуем, — вставил смущенно свекор.
— Вечеряйте, вечеряйте, а я пока баньку затоплю, — сказала она примиряюще, повернулась и вышла… Впервые не переодеваясь — как была в перепачканных комбикормом платке и фуфайке…
Тогда-то Дуня, распалясь, и окрестила ее «дурой комолой».
Дождалась, когда Полина шла с родника, и сказанула из-за плетня:
— Парь, парь его, кобеля приблудного, он тебя еще отблагодарит! Шестую девку в подол повяжет…
Полина устало брела с ведрами и никак не откликнулась, даже головы не повернула в ее сторону. Тут-то и выпалила соседка, до предела возмущенная чужой глупостью:
— И-их, дура комолая… Не паром его ублажать надо, а палкой, дрюком поганым гнать со двора… Я б на твоем месте так его отхандокала, чтоб век помнил да глядывался… — уже не говорила, а кричала Дранкина, будто и не помнила тех слов красивых, что говорила на их свадьбе. А может быть, как раз потому и ярилась, что чувствовала себя обманутой. Кто ее разберет, Полина и не пыталась делать это. Она глохла и немела, ни взглядом, ни словом не показывая, что принимает свой счет эти уличные поношения.
Дуня с досады громко плюнула и ушла в дом.
Да и нечего было Полине отвечать соседке. Даже обычная бабья отговорка, мол, сиди на своем мягком месте да за своим лучше поглядывай, тут не подходила. Муж Дуни Дмитрий Акимович Дранкин, а для Полины так просто дядя Митя, был добрейшим человеком, и язык никогда б не повернулся сказать о нем что-то зазорное или двусмысленное. Наоборот, Дранкину она порядком сочувствовала, дивясь его воловьему терпению.
Летом Дмитрий Акимович спасался от своей докучливой супруги на колхозной пасеке, куда Дуняше после одного скандального случая дорога была заказана: пчелы ее изрядно покусали. Слишком руками размахалась, высказывая мужу свою очередную противоречину… По том его же и обвинила в том, будто он нарочно натравил на нее своих кусух. Уж что-что, а свалить с больной головы на здоровую Дуня умела. И на придирки да зацепки к мужу не знавала устали. Стоило только ему калиткой скрипнуть, на двор ступить, как летели навстречу попреки, претензии, наказы — то-то не сделано, не отлажено, то-то не обретено, не разведено, то-то не посажено, не отстроено… А Матохины или Стрелковы это все давно имеют, и только у него, увальня нерасторопного, смекалка не смекает, руки не достают, ноги не доходят… Дмитрий Акимович обычно принимал эти наскоки как должное и, не заходя в хату, шел исполнять то, что можно было сделать сразу: копать, переносить, рубить, ладить… Но эта безоговорочная покорность отнюдь не сбивала Дуняшу с пылу-жару. Она кружила возле него, точно слепень подле работающей лошади, не оставляя без внимания ни одно движение, чем бы он ни занимался, ни единого слова, чтобы он ни говорил… И если Дуняша была в особо зудливом состоянии, а у Дмитрия Акимовича недоставало терпежу, он швырял в сторону топор ли, лопату, все, что держал в ту критическую минуту в руках, говорил в сердцах нечто вроде «сгинь, жужжаля» и уходил со двора.
Дуняша, сообразив, что допекла, тут же стихала шмыгнув в хату, следила за мужем сквозь заросли окон ных цветов, которых в доме было превеликое множество: к ним хозяйка благоволила всей душой и обихаживала как детей малых. А вот огород терпеть не могла: над грядками, по ее словам, и спина у нее отваливалась, и руки отсыхали. Вообще, признавала для себя лишь заботы внутри хаты. Все, что требовало рук за ее порогом, обычно доставалось Дмитрию Акимовичу. Даже корову доить мужу перепоручала, ссылаясь на вечные свои болячки – больше мнимые, как свидетельствовала фельдшерица Да она и сама не скрывала от баб, что с коровой хитрит, объясняя все очень просто: коль висит на мужике забота о корове и прочей живности, то он не загуляет, в гостях и на работе не пересидит. На бабу рукой махнуть может, а корову пожалеет, прибежит доить как миленький. Она своим мыком его из любых гостей вытянет…
И в наблюдении за рассерженным мужем из окна у Дуняши были свои тактические хитрости. Если он усаживался на лавочку и доставал кисет, значит, беспокоиться нечего: подымит с полчаса и снова за дело возьмется. Только уже без ее надзора. Тут у Дуняши ума хватало не докучать.
Если же Дмитрий Акимович шел со двора, значит, припек доходил до краюшки и он направлялся в другой конец деревни, к сыну. Отделяясь, сын предусмотрительно рубил дом как можно подальше, желая уберечь свою жену от пристрастного внимания матушки. И рассерженный отец на ночь глядя шел проведывать сынову семью. До утра не жди, Дуняша, перестаралась ты…
И только когда Дранкин после короткого раздумья направлялся к Осокиным, его супругой овладевал азарт домашней деятельности.
А Дмитрий Акимович заходил к соседям, с порога здоровался и со вздохом садился на лавку у стола. Выпив-закусив, Дмитрий Акимович вздыхал уже облегченно:
— Ти-ихо тут у вас…— И поглядывал добрым, ласкающим взглядом на девчат (две-три всегда были дома и сновали взад-впред по хате, либо, затаясь, любопытничали из своих углов), добавлял с грустью: — А мои пчелки разлетелись, — имея в виду разъехавшихся дочерей. — И внуков не везут. Бабка от безделья дуги гнет…
Больше никаких жалоб от него не исходило. Они вели свой обычный соседский разговор. Гость сообщал какие-то колхозные новости. Хозяин оценивал их. Гость соглашался и начинал собираться домой, благодарил за угощение, приглашал заходить и, выпив посошок, вставал, не закусывая.
— Ну я ей щас, — говорил он решительно, прикрывая за собой дверь. Затем со двора Дранкиных раздавался грохот поддетого сапогом ведра или корытца, ухала-звякала дверь и наступала долгая напряженная тишина, за которой ждешь новых шумов, грохотов, криков, а их все нет и нет…
Свекор не зря звал Дранкину бабой «маневровой» Она умела делать такие повороты-развороты в своих отношениях и к ближним и к дальним, что даже знающие ее повадки диву давались…
Вот он, муж-негодуй, вламывается в свой дом, чтобы излить справедливое негодование и громыхнуть по-хозяйски если не кулаком, то голосом… А Дуняша как ни в чем не бывало встречает его певучим вопросом:
— И де ты там ходишь-пропадаешь, все простыло давно… — и плавным жестом руки переводит внимание с себя, обряженной в новое яркое платье и с непременным цветастым платком по плечам, на стол, не менее нарядный и праздничный. В центре стола восклицательным знаком гвоздилась запотелая «мировуха» — не какая-то там самогонная с тряпочным кляпом в горловину, а магазинная — с «золотой» закруточкой — столичная-пшеничная… И вокруг нее, как на параде, — жареное, вареное, пареное, печеное, соленое, моченое… Глаз не оторвать, руки не удержать. Какие уж там громы-молнии над этакой благодатью.
И Полина знала, что никакого шума-грохота больше не будет, а скорее послышится тихая песня в два голоса. Глухой, низкий голос Дмитрия Акимовича признаешь сразу. А другой — грудной, высокий, чистый, протяжный, — уж не радио ли? — когда б не знать заранее, ни за что за Дуняшин не примешь… «Ей бы в хоре каком иль ансамбле запевалой быть, — думалось Полине, —- да где ж они в селе. Художественная самодеятельность и та — школьники по праздникам. Разве что на свадьбе иль застолье каком душа песней обернется. На Дуняшу тогда смотреть любо-дорого. Словно песня тянула за собой, вызволяла из самых глубин ее души все доброе, светлое, что таилось в ней в обыдни без огляду.
Должно быть, в такую Дуняшу когда-то и влюбился добродушный увалень Митяй Дранкин, не подозревая, во что обернется дева-певунья. Хотя кто их разберет — живут себе. Детей нажили. Друг от друга далеко не бгают. И не ей, Полине, судить-рядить их. Да она и не судит. Скорее задается безответным вопросом: отчего так складывается, что от Дуняши-поедухи Дмитрий Акимович дальше пасеки не бегает, а от нее, молчуньи да приветы, Саня всякий раз на край света укатывает?
«Вот на таких-то смирных всю жизнь черти, вроде его воду возят», — как бы сам по себе слышится голос Дуняши. Но принять за ответ этот сердитый выкрик Полина не могла. Не серчала на Дуняшу за обидные выражения, понимая, что та по-своему переживает. За неё и возмущается ее неспособностью постоять за себя…
И она упрямо носила воду, безрадостно и тревожно, все больше знобясь от мысли, как нехорошо она поступила там, на дороге, отвернувшись от Сани, усталого, идущего к ней…
Не отогрелась, не отделалась от этой холодящей мысли она и в бане, когда, притихшие, лежали рядом на широком полке, глядя в потолок, убористо взявшийся крупными вислыми каплями. Молчали. Капли, вбирая пар, росли, сливались друг с другом и, тяжелея, срывались вниз, разбиваясь о доски в мелкую брызь. Одна капля угодила Полине в ногу, она вздрогнула и неожиданно для самой себя созналась:
— А ведь это я была в машине, Саня…
Саня откликнулся не сразу, но Полина почувствовала, что он так же вздрогнул от ее слов, как она перед тем от холодной капли, и напрягся.
— Что ж не остановила? — спросил.
— Не знаю. Испугалась чего-то…
— Эх, Поля, Поля…
Полина оделась и пошла звать свекра, а Саня остался, чтобы помочь отцу попариться. Ослаб старик к тому времени, ноги совсем никуда не годились, подпорок требовали, сказывалась давняя фронтовая контузия, да и ревматизм прицепился. А уж баня-то для него благодать-отрада. Долго парился. Полина с дочками отвечеряла, и они, прибрав со стола, сбились в комнату к старшей в ожидании своего череду в баню идти, затихли, по-девичьи чуя, что матери сейчас не до них. Полина же, не зная, куда руки приложить, в который раз приняла прибирать в горнице.
Взяла Санин пиджак, лежавший поперек лавки, чтобы на спинке стула расправить, а из бокового кармана паспорт выскользнул на пол. Подняла — новый, каких в селе и нет еще ни у кого. Полюбопытствовала на фотку — и похож, и чужой какой-то: в пиджаке с белой рубашкой, при галстуке. Стала паспорт листать. Новый, а печатей уже как грибов: прописан — выписан и снова – прописан… Зато ни о детях, ни о ней ни слова. И вдруг — огромный штамп в пол-листка. Крупные печатные буквы… «брак»… Не сразу и прочла длинное и малопонятное слово «зарегистрирован»… Смысл его скорее прояснила запись от руки — Зотовой Ниной Андреевной…
Как села у стола, глядя на этот приговор в рамке так и не встала, пока из бани отец с сыном не пришли! Вместо «легкого пару» она свекру тут и скажи:
— Поздравьте, папаня, своего сынка с законным браком, — и подтолкнула развернутый паспорт на край стола.
Саня обмер сначала. Засуетился. Заговорил что-то.
— Да это так… для прописки… на работу устроиться…
А Полина, не слушая объяснений, не говоря ни слова упрека, тяжело встала из-за стола, торопливо оделась — и за порог. Словно и не жила тут…
Шла в темноте слякотным логом — ни зла, ни страха, ни боли. И лишь какая-то суеверная догадка как облегчение заполняла в ней пустоту и бесчувствие: «Вот почему она испугалась там на дороге, вот почему…» Странное спокойствие охватило ее: ни голосить, ни причитать не может, будто и не случилось ничего, нет беды-печали. Будто каждый день доводилось ей как здравствуй-прощай, узнавать, что муж ее вовсе и не муж, не Саня, не отец дочкам, а что-то другое, в другом свете прописанное, с другим миром зарегистрированное. Немо и жутко она несла свою беду в материнский дом, не представляя, что будет с ней завтра, послезавтра, всегда…
«Хоть бы волки напали», — легко и спокойно, как не о себе, подумалось. Да так легко и о другом разве подумаешь? Почти с улыбкой-усмешкой, почти с издевкой. «Да откуда им взяться, волкам-то? Их с войны никто не видывал тут», — так же легко и просто ответила себе.
«А может, в омут вниз головой?» — так же легко, без острого беды спросила себя.
«Да где его найдешь, речка давно пересохла-перемерзла», -почти весело, как о чем-то второстепенном, незначительном, ответила.
Шла, не уронив ни слезы, не вскрикнув от боли, не дозревая, что несет в себе новую жизнь, с которой будут у нее и боли и слезы…
На следующий день выйти на работу не смогла: руки плетьми висели, а все тело взялось щемящей томительной маетой…
С тех пор, это Полина хорошо запомнила, и стала появляться в руках эта зудящая маета. Стоит натрудить их сверх меры, самой ли понервничать или вот на непогоду, и они заводят ночью свою тягучую нуду. Сегодня всего им с избытком досталось — и трудов, и нервов (одна Грачиха чего стоит!), и непогоды — вот и запели… Полина встала с постели и, не зажигая света, стала ходить по горнице, прижав руки к груди, как двух хнычущих младенцев, баюкая, чтобы утихомирить.
А тогда вся она была скручена этой маетой и ходила по материнской хате от окна к окну, не в силах чем-либо заняться, пока к полудню не прибежала Оленька и не сказала: «Дедушка кличет».
Больная и опустошенная, едва поспевая за дочкой, плелась Полина домой, не желая ничего ни видеть, ни слышать.
Свекор лежал в постели. Увидев ее, лишь привстал на локтях.
— Прогнал я его, лихоблуда, Полюшка, на все четыре стороны… Прости меня, не держи сердца, — сказал он понуро. — Ты-то хоть не покидай нас. Знать, последняя моя банька была…
И как в воду глядел, не прошло и двух месяцев — схоронили. На похороны приехали оба старших брата Сани да Зина с мужем. Сам Саня долго еще не знал о смерти отца, как всегда, не оставив адреса своего…
Не ведал он и о том, что положил начало еще одной жизни.
На похоронах Полина и осознала, что понесла. Худо ей было, как никогда. Нашатырь нюхать давали. Укол фельдшерица колола. А ей было вязко, муторно и безразлично. Она задыхалась и думала, что сама помирает. То пропадала куда-то, то снова возвращалась к беде… И жить ей не то чтоб не хотелось, а просто не было на то сил. Да она и не представляла, как будет жить дальше. Вместе со свекром из жизни ее словно уходили все родные и близкие. Ведь он и впрямь был и за деда и за отца всем дочкам ее, да и ей самой.
Но жизнь не отпускала ее. Троих еще на ноги ставить надо было. И новая неведомая душа билась в требовательно и беспокойно.
Вначале, испугавшись положения своего («Бабе сорок, а она в брюхатые! Засмеют: внуки старше сына!»), она бросилась было к фельдшерице. Та хоть и молодая еще и не рожавшая сама, рассудила мудро. Вначале осадила вопросом: «От чужого либо, что так переполошилась?»
Полина опешила, стала объяснять свое положение. А Лиза выслушала ее внимательно и говорит:
— Таблеток никаких не дам, поздно уже. А если думаешь, приходи завтра — в больницу поедем. Для тебя сделают безо всяких. Только что тебе — пятерых родила любо-дорого, и шестой на свет объявится — охнут не поспеешь. В общем, думай до утра…
А у самой вид какой-то потерянный, жалкий. Помолчала, помялась и добавила вдруг, уже не по службе своей, а скорее по неутоленной тоске бабьей:
— Ты только роди, Полюшка… Не схочешь держать мне отдашь.
— Что ты, что ты, Лиза, господь с тобой, — испугав но отшатнулась Полина, когда дошел до нее смысл Лизаветиной просьбы. — Кто ж от своего дитя откажется?!
И поспешила уйти.
Не по себе стало Полине после этого разговора. Ну и Лиза-Лизавета, как только язык повернулся сказать такое? «Отдашь мне…» Да кто ж отдаст?! И сама-то хороша, застыдилась, точно девка несватанная: что скажут, что подумают…
Больше к фельдшерице не обращалась, сторонилась даже ее, словно та нехорошее что задумала. Но Лиза сама на разговор пришла, свою беду высказала, успокоила.
Забудь, говорит, о чем я просила тебя. Обидно, понимаешь: тебе вот рожать больше не хочется, а я бы с радостью – да все нет и нет…
Лиза себя в том винит. Слишком рано, говорит, научилась от них, от детей, значит, спасаться. Ухажеров было хоть отбавляй, да серьезного ни с одним не складывалось. Вот и куролесила напропалую. Там, где она раотала, парни из-за нее даже подрались в кровь. Лиза, недолго думая, в другой край области укатила, пока до нее самой ухажерские кулаки не дотянулись. В Березовке вроде остепенилась, замуж вышла за бригадира Василия Истомина. Живут — не жалуются, да радость с помаркою: под тридцать уже, а мамкой никто до сих пор не зовет. Видно, перестаралась тогда с таблетками спасительными.
Ни думать, ни тем более говорить о ком-то за глаза плохо Полина не могла. Жило в ней неведомо когда зародившееся убеждение, что если о человеке кто-то думает или говорит худо, то ему и впрямь в ту минуту бывает нехорошо. На самом же деле худо бывало ей самой, если случалось сердцу ненароком вскипеть на кого. Тут же, спохватясь, Полина совестилась, нагоняя на себя маету, от которой не так просто бывало отделаться. Даже вот с квочкой неразумной. Казалось бы, чего на нее нервы тратить, не человек ведь, а курица. Да, видно, живое о живом не может не болеть.
Иное дело, когда душа вдруг, не спросясь, изойдет нежностью к кому-то. И самой отрадно, и верится, что твоя память минута, твой отклик сердечный добром и радостью отзовется в жизни близкого тебе человека.
Какое материнское сердце не живет постоянной думой-тревогой о детях, будь они вдалеке или рядом. И Полина перед сном вместе с заботами будущего дня мысленно перебирала имена дочек своих, словно пальцы на руке загибала.
Только теперь все думы и тревоги с мизинца — Павлушки — начинались, им и кончались. Вытеснил мальчик с пальчик Павлушка старшую сестру с заботной материнской руки, словно в отместку за ее сомнения о родстве. Да и что о ней теперь тревожиться — крепко на ногах стоит, своей жизнью живет.
Но как раз думать о старшей дочери и своем отношении к ее семье Полина не могла успокоенно. Она корила себя за то, что не умеет от души радоваться их благополучию и семейному ладу, который они все ревниво и настойчиво подчеркивали во время своих наездов и в письмах.
«Уж не завидки ль тебя берут, что сердце никак не приладишь?» — спрашивала она себя. Но зависти в себе не находила. Скорее беспокойство, как бы у Зины по работе какого лиха не случилось. Деньги да товару всегда под рукой, далеко ли до греха, если у обоих на уме только одна эта самая «а-бы-вы-го-да…». У глаз завидущих рано или поздно и руки становятся загребущими…
«Родной или двоюродный?» — всплыл в памяти недобрый дочкин вопрос. — Это о брате-то своем. Это матери-то родной. Вот оно что. Знать, обида все ж таки не отсохла, живуча оказалась. А к чему? «Обижалась яблоня на яблоко, что кисло да зелено…» — сказал бы, хитровато прищурившись, свекор. Так ведь давно уж не зелено, коль в плоды вызрело, должна понимать. Или откатилась слишком?
Нелегко, ой как нелегко дался этох мужичок с ноготок…
После разговора с фельдшерицей Полина и думать перестала о каком бы то ни было избавлении. Как только представила, что можно отдать кому-то свое крохотное дитя, все в ней взбунтовалось, и на себя за глупые страхи и сомнения, и на Лизавету за просьбу неразумную, и на всех будущих злоязычек, кто посмеет охулить ее иль косой взгляд бросить… И все ее сомнения и страхи сами собой облетели, что лист по осени, оставив голым-голымя одну-разъединственную ствол-истину: новая жизнь восходит в ней. Да такая хваткая и забористая, что все пять предыдущих ни в какое сравнение с ней не шли. С теми, бывало, потошнит чуток, помутит, кислого-соленого хлебнешь — и сойдет дурнота сосущая.
А этот же, казалось, поедом ел ее изнутри, командовал матерью, как хотел. И желаниями ее и настроением. То мел заставит грызть (в красном уголке Полина втихомолку все стены исковыряла), то кожу старую жевать. Или вдруг кукурузы вареной дай ему среди лета – нет спасу как хочется. То в погреб загонит — дух летошней картошки, видите ли, ему люб. Матери на ферму бежать надо, а он в сон клонит. Ляжешь отдохнуть – шалыгает точно гулять просится. И так тебя и сяк. Намаешься, пока приладишься.
И все же это были только цветочки. Ягодки, и довольно горькие, назревали своим чередом.
Оставляя ребенка на пятом десятке лет и уверовав, это непременно будет сын (кому ж еще быть — с утробы такой неугомон, весь в отца!), Полина, как никогда раньше, озарилась надеждой на Санино возвращение. Все ее обновленное материнством состояние располагало к тому, чтобы верить в эту надежду. Вопреки его отчужденному паспорту, вопреки его последней ссоре с отцом… «Одумается — и вернется», — все чаще подымалось в ней теплотой неостывающей. Вот прознает что сын родился, и обязательно приедет. Сын ведь!
И много еще всяких маленьких «вот» в пользу надежды выискивало доброе всепрощающее сердце Полины, смягченное и умудренное новой жизнью, то и дело напоминающей о себе.
«Павлика считаем, — на новой руке пальчик-мизинчик загибаем и жить по-новому станем, — говорила она своему неведомому шестому, — папка будет крепко любить Павлушку и никуда больше не поедет. Хватит, наездился. Все колеса у своей телеги изъездил по чужим краям-дорогам и коня уморил. Подъедет папка к родному двору, тпр-ру-у, скажет лошадке, приехали. Распряжет ее и отпустит на все четыре стороны — гуляй, Савраска, по лугам да лесам, отслужил ты свое дорожное, а плуга да бороны тебе не таскать. Я, скажет папка, теперь трактор в поле поведу. Старые ж колеса с телеги папка насадит на длинные шесты и расставит их по селу… Возле нашего двора — давно пора. Возле дедушки Егора — в самую пору. Возле сестрички Валентины — на новые именины. Возле тети Кати, чтоб ей лиха не знати… Весной на тех колесах аисты гнезда совьют, как в Успенке на старом тополе. А где аисты, там и счастью прибыль».
Вот и сказка сказалась. А какие в ней чудеса? Конь да четыре колеса. Но получается так, что других навроде и не надо бы. Приди Саня, и все остальное сладится без щучьих велений и хлопот рыбки золотой.
Так, баюкая в себе сына нерожденного, Полина незаметно сама себя убаюкивала. И ей уже казалось, что и Саня так же вот мается душой и что ему известны все нежные думы ее и долгие разговоры с сыном. И что вот-вот, не дожидая холодов, объявится он навсегда.
И когда пришло письмо — сердце заухало радостно – услышал! Одумался! Выхватывала строки глазами, но не понимала… Не ложились они на радость ее: деньги… дом… наследство… ненужный…
Когда же смысл дошел, письмо оказалось сродни похоронке, что получили они на отца целую жизнь тому назад. Только Саня писал похоронку как бы сам на себя, на все то, что было связано с ним…
Будто какая сила недобрая водила рукой Сани. Mного черных, несправедливых слов было ею выписано, и сводились они к одному: раз он, Саня, в доме не нужен то пусть так и будет. Уж не пьяный ли писал? От наследства он отказывается и взамен этого просит прислать срочно ему триста рублей. И куда прислать написал — Курган, главпочтамт, до востребования. И кому — полностью написал — Осокину Александру Павловичу. Значит, не больно пьян был…
И опять душа Полины хоть и ужаснулась беде, хоть и оскорбилась на глупую напраслину, но все повернула так, что некогда думать-судачить про обиды, а надо Саню выручать. Видно, совсем худо ему, коль на такое решился.
О письме никому словом не обмолвилась, от стыда подальше. О деньгах захлопотала. Теленка до сроку сдала, за молоко получила — всю выручку и отправила в неведомый Курган. Остались девчонки без обнов перед самой школой, а дом без топлива. «Ничего, лишь бы Сане, бездомному, на пользу пошло. А в своей избе и нетопленая печка согреет, и пустой чугунок накормит. Да и не то время, чтоб голодать-холодать, выкрутимся»,— заговаривала Полина свою горечь и обиду, не давая им воли. Но это ей мало удавалось. И несколько дней ходила оглушенная, как после похорон свекра. Потом вдруг спохватилась, как же это она: деньги послать послала, а письма — ни строки. Выходит, молча со всем согласилась, о чем Саня, быть может, вгорячах написал. Половину дочкиной тетради исписала: про обиду свою вскользь, а больше о том, что на сердце лежит и кто под сердцем шевелится. Столько нежных, ласковых слов сказалось, как в тех далеких девчоночьих, что едва ли не каждый день с птичьей легкостью отлетали из Березовки к рядовому Осокину, счастливейшему во всем взводе адресату.
Увесистый конверт получился, в добрую дюжину треугольников солдатских. Разве что без приписочки лихой – жду ответа, как соловей лета. Какая уж там приписочка, если каждая строка молила о том.
Отправила исповедь свою немудреную и вроде полегчало — ожила надежда. Да месяца через полтора вернулось письмо. Не затребовал его Саня…
Но горевать было некогда: рожать время подошло. То ли они с Лизой просчитались в определении сроков, то ли раньше времени началось: вдруг посреди ноябрьских праздников сразу запросился сынок на белый свет. Пока Оксана бегала за фельдшерицей, Полина полулежала на охапке соломы, с немым испугом прислушиваясь к себе. Солому она несла стельной Красавке, приговаривая, мол, сейчас-сейчас все тебе будет. Да так и не донесла и не договорила, застигнутая врасплох в трех шагах от хлева внезапным приступом предродовых схваток. Боль, грозным окриком подкосившая ее, отступила, оставив парализующий страх неведения, где и как повторится, казнит или помилует. И Полина, не переводя дух, не разжимая пальцев, судорожно вцепившихся в солому, замерла под пристальным взглядом Красавки, излучавшим вечное коровье недоумение. «Мне бы сыночка, а тебе бы телочку», — поспела еще упомнить давно загаданное, как вернувшаяся острая боль мигом стерла все мысли и со стоном запрокинула ее на спину.
Ломко ершилась, оседая под ее телом, солома, и на откате боли промелькнуло испугом: «Не дай бог, припоздает Лизавета… исколется малой о солому…»
Боль закручивала по низу живота один за другим режущие жгуты и туда-сюда продергивала иглы сквозь поясницу, но уже не казалась такой страшной, и Полина, постанывая, успокаивала сама себя, мол, что перепугалась, точно молодуха; не впервой ведь такое. Но такое было впервой, и она это не могла не понимать и, храбрясь, тревожилась все больше…
Хорошо еще Лиза, не заходя к ней, побежала сразу к председателю за машиной. Вместе они и подкатили на «газике». Шофера председатель отпустил на праздники в соседнее село к родственникам погостить и, не раздумывая сам сел за руль. «Пришло время должок вам вернуть: собственноручно, Полина Васильевна», — пошутил он, намекая на свою промашку с машиной, о которой шла речь на собрании. Но Полине, конечно же, было не до шуток, хотя она смутилась, увидев председателя за рулем, и пыталась благодарно улыбнуться ему в ответ, с трудом протискиваясь в узкую для ее габаритов дверцу «газика».
Всю дорогу до больницы полулежала на заднем сиденье в обнимку с Лизой, охая и постанывая ей в плечо, закусывая то губы, то ткань ее пальто, чтобы не выпустить из себя неудержимо рвущийся вопль.
Пока «газик» плавно и натужно карабкался на раскисший от дождя увал, Полина еще слышала и понимала что говорил председатель, стараясь отвлечь ее и подбодрить: «Вы, Полина Васильевна, у нас самая опытная в этом деле: пятеро есть, и шестой за милую душу объявится. Теперь уж сына рожайте и меня с Лизой в крестные берите…» Полина не возражала против таких крестных своему сыну, только вот пятикратного опыта своего она не чувствовала, и так же, как в первый раз, если не больше, полошилось сердце от страху и единой мыслью, единым желанием было — скорей бы это кончилось… Все, что она испытывала теперь, мало походило на прошлое и тем более на бодрое председательское «за милую душу». Скорее — душу вон. Да он и сам это понял, когда машина выкатила на грейдер, хлябный и ухабистый, и Полина громким охом оповестила о нестерпимой боли своей. Председатель сгорбатился над баранкой и неистово вертел ею из стороны в сторону, выискивая дорогу поровней, но таковой не находилось. «Ну и дорожка, черти ее поперек пахали», — вырвалось у него в сердцах. Это было, пожалуй, все, что запомнилось Полине из той кошмарной поездки. Ее кидало из стороны в сторону на неровностях дороги, бросало в жар и в холод от боли и страха. И она не то чтобы теряла сознание, но не могла ни о чем ни думать, ни воспринимать того, что шепчет ей Лиза, поглаживая по спине, что говорит, встревоженно оглядываясь, председатель.
Пока добрались до больницы, изрядно натрясло. Только худшее было впереди. Она, словно молодуха какая, не могла разродиться. Даже в районной больнице это вызвало переполох. Случай из ряда вон да еще посреди праздника, когда в больнице только дежурный врач.
Пришлось председателю с Лизой исколесить поселок в поисках нужных врачей.
Но об этом Полина узнала позже, когда все в конце концов обошлось благополучно. Кесарево сечение вынуждены были делать ей, чтобы вызволить на белый свет богатыря-Павлушку, который в утробе матери накопил более пяти килограммов весу.
Находясь в полном изнеможении, когда, казалось, и вздохнуть, не то что пальцем пошевелить или слово молвить, узнала Полина, что родился сын. Сил хватило лишь веки опустить в знак благодарности за добрую весть и за все, что сделали для нее люди… А слезы уже не требовали усилий: они сочились сквозь сомкнутые ресницы и скатывались по щекам тепло и успокоительно. С тем и забылась меж сном и немощью без малого на целые сутки.
Непривычно долго пришлось пробыть Полине в больнице под наблюдением врачей. Силы да здоровье воротились, а душа измаялась. В дни вынужденного покоя, когда рукам нет дела, а голове забот, Полина оказалась беззащитной сама перед собою, перед теми вопросами, что один за другим поднимались в ней, неотвязные и безответные…
Времени было в достатке, чтобы многое передумать-перечувствовать, мысленно окинуть жизнь свою, в детей перелитую, наслушаться других баб-горемык про их суженых и пересуженых, про хитрости бабьи.
В роддоме Полину всегда поражала та неудержимая откровенность, с какой женщины, натерпевшись страхов и болей, говорили о своих мужьях, а то и о полюбовниках, не щадя ни чувств своих к ним, ни их самих. Она больше слушала да отмалчивалась, примеряя чужую судьбу на себя. Выходило что-то похожее, но ни одна не совпала, не прибавила ясности душе, не обнадежила. Было в этих откровениях что-то неискреннее, напускное, наговорное. Как бы в отместку за свои пережитые страхи и боли. Одна молодуха, перед тем как разродиться, кляла к поносила мужа своего, рассказывала про него всякое недоброе. А когда пришел он ее с дочкой забирать, тихий и смущенный, щебетала, забыв обо всем: «Ой, Василек, та как же ты с лица схудал, не захворал ли часом?!»
Женщины, наблюдавшие эту картину, добродушно посмеивались, зная истинную цену предродовым бабьим клятвам, а соседка Полины по койке, хрупкая черноволосая молчунья, державшаяся особняком, вдруг разрыдалась: «Как она могла говорить дурное о любимом человеке?! Жизнь не простит ей… И все вы тут грязные склочницы… Не будет вам счастья… Детей бы постыдились, так отцов их поганите…»
Полина с трудом пригасила подымавшуюся в ней истерику. Приобняла за плечи, как дочку, и вразумляла: «Не слушай ты баб, они пустое буровят. Абы языки почесать. Свое потаенное не выказывают, чтоб не сглазилось, а побухтеть на мужика после испугу пережитого охота берет. Но твоя правда — нельзя худых слов говорить и черные мысли копить, когда дите родное грудью кормишь. На том и стой».
После этого случая женщины в палате на время примолкли, пристыженные, знать, задумались. А черноволосая молчунья доверчиво излила душу Полине. Безмужней, одиночкой она оказалась. Отец ребенка свою семью имеет, троих детей… «Он добрый, хороший, его нельзя не любить, — горячо шептала соседка, боясь, что Полина невзначай осудит ее возлюбленного. — Я сама захотела ребенка. Разве это позорно — иметь ребенка от любимого человека?!»
Непросто ответить на этот вопрос, очень непросто. Людской суд «разные выносит приговоры матерям-одиночкам. Но и в самом оправдательном из них всегда, к сожалению, больше жалости и сочувствия, нежели праздника — Человек родился!
Вначале и Полина смотрела на соседку сквозь эту жалость и не заметила, как поведала о своих печалях. И пошутила даже, мол, шесть раз одиночка, да не тужу. Дети рождаются — душа множится, и уже никогда себя вглухую одинокой не почувствуешь. Говорила, бодрясь, чтобы душу мятущуюся успокоить, сил ей и уверенности придать, подумав о том, что ни одну из дочек Саня на своих руках не внес в дом родной… И Павлушке уготована та же участь, если не похуже — и отца-то родного в глаза может не увидеть после письма такого. А что сестры его от отца получали — одно только отчество? Ведь не зря «мамкиным сибиряком» зовут, проказы… Да и сам он их имена, бывало, путал. Немудрено: неделю видятся, год в разлуке.
Довольно печальной вышла у Полины шутка. И на Саню невольно пожаловаться пришлось, и сама расстроилась оттго, что себя вдруг пожалела. Все-таки, когда думаешь про свои горести-заботы — это одно. В душе их сегодня так можно повернуть, завтра эдак — то бедовой стороной, то надеждой. А стоит только другому рассказать-пожаловаться, так потом все и замрет в том виде, как о том расскажешь, ничего уже не поправишь. Да и сам чего доброго, свыкнешься. Нет, последнее это дело – другим свои беды высказывать. Коль о беде начал говоорить, о радостях не вспомнишь. Тянешь из своей судьбы только черную нитку да на клубок наматываешь. Глазом другого вся пряжа жизни твоей черной и видится. Полине хорошо запомнилось, как, слушая, притихла соседка-одиночка, как на лице ее, выражавшем ответное бтагодарное сочувствие, все больше проступало откровенное любопытство. И она, забывшись, стала забрасывать Полину вопросами, в которых угадывалось ее невольное стремление выведать побольше печального, горького, разлучного, словно хотела пригасить чужими бедами свое болевое затмение. Полина почувствовала это и, сопротивляясь ее вопросам и своему желанию тянуть из судьбы черную нитку, заговорила о радостном непреходящем, что наполняло всегда жизнь смыслом, надеждой питало терпение.
Ведь всех шестерых не на дороге нашла, сказала. Все не случайные. Все по любви, все желанные. О каждом потревожься-порадуйся — и уже времени на кручину не останется. Живем-то мы не чужой любовью, а своей. А своя всегда с тобой, она в тебе, что добрая печь в хате: душу греет, хворям ходу не дает. Ежели на нее и ответу долго нет, так все одно она ж в тебе живет, и радостью, и грустью, и печалинкой разливается. Душе то маета, то забота, однако ж и праздники выпадают, свои законные. Вспомнишь о былом-желанном — оживешь. А когда любый рядом, то и вовсе взахлеб. Мы то скорее к разлуке привыкли, чем друг к другу. Худо, конечно, что чужеет он год от году в этой разлуке, так ведь что поделаешь, коли жизнь так сложилась. Надо уметь хорошо жизнь прожить ту, что тебе дадена. Прожить, а не проплакаться. На другого свой хнык не вешая и порожней ее не считая. Мы, бабы, счастливее мужиков: от любви в себе долго продолжение носим. Потомунаверно, больше и дорожим, и вера наша подольше тянется…
А какая ж любовь без детей? Так себе, полушка. О Лизавете рассказала. «Вон фельдшерица четвертый год с мужем живет, а будто одиночка: детки не зарождаются. Поневоле взвоешь от одиночества, стыда и отчаяния». И Катерину вспомнила: у той, мол, и того хуже — вкруговую одиночка. Долго чуралась парней. Так один залетный хотел силой ее взять, да не осилил, а только пуще прежнего отвратил от полюбовностей… Мужиков возненавидела с той поры, буровит про них что ни попадя, а сама ж душой высохла, старка бедовая. А бывает расплачется и костерит того залетного на чем свет стоит уже за то, что малосильным оказался… не одолел ее дуру, в свое время…
Вот и пойми нас, баб. Не смогла в свое время пересилить натуру свою Катерина и за то ж виноватого в обратную сторону виной опоясала… Кабы ей знать заранее, что во что выливается… Сама ж говорила, что люб ей был залетка. С собою звал и после того, как раздорную обиду ему выказала. Да вот дурью неразумной ответила. Залетка улетел, а она, озлясь, и с другим каши не заварила..»
Кто деток в себе не носил, трудно тому распознать, что и любовь сама как дитя малое: и обидеть ее легко, и капризное порой до слез. Только слезы и обиды у нее короткие, отходчива, коли ласки в достатке. Всякая душа добром сильна, злобой бессильна… Значит, отходчивая по жизни мудрее. Катерина заживо похоронила в себе и любовь, и деток неразумным характером своим. Одну злобу в себе ж и оставила: мужиков поливает бранью, а боль себе сцеживает… Так что ты против них обеих счастливка — вона какого богатыря выродила…
Женщина слушала ее благодарно, доверяя потаенное. И все-таки в каждом ее признании сквозила одна и та же печальная нотка: как же быть без него?.. Полина не сдержалась и напрямую спросила: «А что, он не любит тебя?» — «Любит, любит, грех жаловаться.., И ласковый, и приветливый, только…» — «Так и не жалуйся, а радуйся… Сына подымай…».
Как-то само собой сказалось и о Татьяне Колосковой. И надо же, о своем говорила, так не волновалась. А тут, словно признавалась в самом сокровенном, поверяла главную тайну свою…
Крутая, овеянная таинственностью судьба Татьяны и сам светлый облик ее — гордой и сильной натуры произвели на соседку впечатление окрыляющее. Теперь она уже не отводила глаз от любопытных взглядов какой-либо новенькой роженицы, которой не замедлили нашептать о ней досужие языки. И уходила из роддома с высоко поднятой головой. Благодарно прослезилась, прощаясь с Полиной. Да Полине и самой вся эта история силы придала. Некоторое время она жила гордой успокоенной одинокостью и тайной судьбы Татьяны Колосковой, пока не столкнулась с еще одной бабьей бедой, только как бы вывернутой наизнанку…
Ночью в туалете застала курящую роженицу и невольно изумилась вслух:
— Ты что же, милая, удумала? Ребенка травленым молоком кормить хочешь?!
Та нервно отмахнулась: «Один черт, молоко пропало». А потом вдруг глянула на Полину с надеждой и уже просительным тоном: «Слушай, тебя сам бог мне послал. Не могла бы ты мою покормить… денек, мне отлучиться надо позарез. У тебя же в избытке», — кивнула на халат Полины, где против грудей залегли две мокринки от сочащегося молока.
Полина, сконфуженная неожиданной просьбой, да еще в таком неподходящем месте, в растерянности пожала плечами. Но тут же, спохватясь — человек вон как нервничает, что молоко пропало, даже курит по ночам, — поспешила успокоить, мол, нечего расстраиваться, дело обычное: понервничала лишку — молоко и пропало. Успокоишься, вновь объявится, бывает такое. А покормить ребенка кто ж откажется.
Женщина порывисто обняла ее и, дохнув в лицо табачным дымом, быстро, как заклинание, проговорила: «Запомни, Ветрова, беленькая такая, с родинкой на щеке… Ветрова, не забудешь?!» И так же быстро, словно боясь, что Полина передумает и откажется, отстранилась от нее и пошла прочь.
Через несколько минут Полина увидела ее в коридоре уж одетую в темное осеннее пальто. Из руки в руку, точно обжигаясь, нервно перекидывала ярко-красную вязаную шапочку. Ни слова не говоря, женщина взяла Полину под локоть и увлекла к выходу. Там, озираясь на дремавшую у стола дежурную сестру, зашептала:
– Не могу я тебя обманывать. Ты слишком добрая, переживать зря будешь. Еще у тебя молоко пропадет… Не вернусь я больше сюда, понимаешь?! Только не говори мне ничего, не читай моралей. Будь доброй до конца. Сама вон вся горю. Мой сказал: или-или. Мы не расписаны. А я без него не могу, понимаешь?! Я с ума сойду…
Полина слушала, внутренне отстраняясь от того, что слышала, противясь самому смыслу слов, которые говорила ей эта женщина, минуту назад казавшаяся ей просто расстроенной, озабоченной. По рассказам знала она, что случаются такие истории, когда матери, чаще всего глупые молодушки, отказываются от детей прямо в роддоме или молча, тайком подкидывают их, словно кукушки, в чужие гнезда. Но одно дело знать. А тут вот перед ней живая душа, только что вызвавшая ее сочувствие, громким шепотом выкрикивает в свое оправдание жуткие слова:
— Ты вот осуждаешь меня, что ж, правильно. Я бы тоже другую осудила. Да и себя кляну. А сама посудина кой черт нужна ребенку такая мать, которую хлебом не корми, а мужика подай? Ведь он уйдет, глазом не моргнет… А мне что — пропадать, да?! Она-то не пропадет, государство позаботится. Я узнавала… А обо мне ккто позаботится?!
Женщина осеклась, как бы опомнившись: «Ой, что я… прости…» Вяло махнула рукой и, навалившись на дверь, с трудом, словно лишилась вдруг сил, открыла ее, шагнула через порог… Возвращенная тугой пружиной, дверь громко и сердито хлопнула, обдав Полину с ног до головы сырым холодом. Из детской палаты послышался плач. Встрепенулась сестра у стола.
— Ты что шумишь?! — окликнула Полину.
— Да не я. Ветрова ушла, — ответила подходя.
— Как ушла?!
— Совсем.
— А ты что ж отпустила?
— А что я? Слов не нашлось, не руками ж держать…
— Так меня б побудила. Попадет мне теперь, она ж безадресная. С проходящего автобуса к нам заявилась, ни вещей, ни паспорта. Послали телеграмму, куда сказала, а никто не отозвался. Ясное дело, сбрехала все…
Плач в детской не прекращался, и сестра в сердцах чертыхнулась вослед бежавшей, пожелав ей ни дна ни покрышки, заторопилась в палату. Полина пошла следом, хотя по голосу сразу же поняла, что не Павлушка плачет. Но все равно на душе было тревожно и смутно, ведь не только сказать ничего не успела бегунье, но и осознать происшедшее. Даже после того несуразного, что та наговорила у дверей, и чертыханий сестры Полина не чувствовала ничего, кроме острой жалости к несчастной, женщине, решившейся на такое. «Ведь не глупая девчонка уже, за тридцать, поди… Чем жизнь свою метит, безумная? А может, одумается и вернется?!»
В палате, уставленной в два ряда детскими кроватками, сестра пыталась унять крикуна, покачивая его на руках, но тот не сбавлял голоса.
— Давай его сюда, голодный небось, — сказала Полина.
Сестра с готовностью протянула ребенка и заспешила в коридор, откуда неслась трель телефонного звонка. Малыш орал с закрытыми глазами и, поймав ртом грудь, зачмокал, так и не открыв глаз, не ведая, что сосет чужую мамку. Да какой с него спрос, сама и то не сразу своего признаешь. Лежат кукленки, один с другим схожие — что капельки. Так вот можно перепутать, взять любого и вырастет как родной.
Испугавшись пришедшей мысли, Полина прошла к сыновьей кроватке. Спит поскребышек, губки выпятив, тоже ни о чем не подозревает. А молочко его тю-тю, другой уплетает. А еще безымянную сиротку Ветрову кормить. Полина глазами отыскала безмятежно спавшую девочку с родинкой на щеке и вдруг задохнулась от внезапного прилива жалости и негодования: «Господи, люди добрые, что ж это делается?! Хлопнула дверью душа неразумная, и такая крохотуля враз сиротинкой стала… Да что она, Серая Шейка какая?» — со всхлипом прошептала Полина, пораженная в самое сердце жестокостью и противоестественностью случившегося, во что отказывалась верить.
Про Серую Шейку она уже говорила однажды Сане, звавшему ее на новые места. Детей, трое их было, предлагал оставить пока с родителями, а как все с работой и жильем устроится, к себе, мол, забрать можно будет.
«Не утки ж мы дикие, Саня, чтоб в другие края нужда лететь заставляла, — ответила тогда. — И девчатки наши не Серые Шейки, чтоб бросать их…» Он не понял, при чем тут Серая Шейка какая-то. Полина ему сказку пересказала и несогласие с ней свое высказала, мол, так не должно быть… Видишь, утка-мать, что дитя твое лететь не может, так и отправилась бы с ней теплые края по ручьям да по рекам. Вода быстро бежит, поспели бы.
А теперь выходит, что сказка верная, раз такое среди людей встречается…
Нет, ни умом, ни сердцем не понять Полине отчаяние женщины этой. Кто ж говорит, что легко бабе без мужика. Не сладко. У самой в тоскливые минуты приходила мысль: эх, не было б детей столько, не раздумывая, поехала б за Саней… Но чтобы до такого дойти?! «Видно, я больше мать, нежели мужняя жена», — подытожила Полина свои невеселые раздумья.
С чужим ребенком на руках стояла она посреди палаты, и чудилось ей, что каждый из этих несмышленышей требует ее помощи и защиты. И она, как наседка цыплят, готова была собою прикрыть их от всех напастей. А душой так и давно уж распростерлась над их первыми снами…
— Ни дня ты не будешь сироткой, чадушка моя, ни дня, — сказала Полина твердо, потому что в этот миг перед глазами ее возникло убитое горем лицо Лизы, говорящей отчаянные слова: «Ты только роди, Полюшка… Не схочешь держать, мне отдашь…».
Полина не сразу поняла, чего хочет от нее сестра, тянувшая из ее рук ребенка, и прижимала его крепче к груди и даже попятилась, пока не расслышала, что говорит она ей:
— Ты либо заснула? Не сосет он уже, налопался,— и добавила, будто угадав ее мысли: — Поди сама отдохни, душа сердешная. Всех не накормишь, не обласкаешь. Каждому свой заступник и кормилец надобен…
Едва дождавшись утра, Полина позвонила в Березовку и наказала секретарю сельсовета передать Лизе, чтобы та не мешкая объявилась в роддоме.
Часа через два в коридоре раздался встревоженный голос Лизаветы: «Что с Осокиной?!»
Полина, как могла, заторопилась к ней из палаты: «Все хорошо, Лизанька, все хорошо, не волнуйся, родная моя…» И, не в силах ничего больше говорить, обняла ее и расплакалась.
— Я тут за тебя сердцем решила, — осушая слезы воротником халата, наконец высказала Полина.
Выслушав ее сбивчивый рассказ о покинутой малютке, Пиза разволновалась еще больше.
— Поля, Полечка, не отдавай ее никому… Я сейчас, я к главврачу…
— Да ты с Василием сначала обговори, как он…
— Ты что, Васю не знаешь?! Да он спит и видит деточку. Мы уже давно обговорили все. Вот радость-то будет. Вот радость…
Все перевернул, всю саму ее перестроил-переладил сынок-поскребышек. Будто с его рождением родничок какой потаенный в ней открылся, живительными соками тело напитал, омолодил, житейской умудренностью душу озарил. Телом подошла, точно опара праздничная, лицом посвежела, в глазах свету прибавилось. О том не только зеркало говорило, но и взгляды людские. Без улыбок одобрительных, без словечек, шутливых, приветных, не встречали и не провожали ее в те дни. Да и сама Полина чувствовала в себе прибыток сил, как будто природа заранее рассчитала их на две требовательные и беспомощные пока жизни — Павлушку и Полюшку…
Лиза, как только разрешились все хлопоты, связанные с удочерением девочки, сразу же Полюшкой ее назвала в честь матери-кормилицы. И месяца на два переселилась к Осокиным, дежуря возле малышей, попеременно с Полиной. Хотя в няньках недостатка не было.
Мать Полины дневала с внучатами, а к вечеру шла к себе. Дуняша Дранкина, будто и не говорила в сердцах, что муженек «шестую в подол повяжет», по нескольку раз в день забегала помочь по хозяйству да за малышами приглядеть. Шестиклассница Оксана, вдруг сразу почувствовав себя взрослой, бралась за всякую работу, подражая матери, не дожидаясь, когда старшая сестра понукнет. Татьяныч и Дранкин за день сладили широкую, для двоих сразу, кроватку-качалку. Зина привезла уйму всяких детских одежек, пеленок, ползунков, распашонок. Конечно, заграничных да таких красивых, что в оборот жалко пускать, а только бы кукол наряжать. Хватило обоим, по-братски разделили.
Вновь колготно, людно стало в большом доме Осокиных. За малым исключением, пожалуй, вся деревня побывала в нем. Кто помочь приходил, кто проведать и порадоваться вместе с мамашами, а кто и просто полюбопытствовать на сиротку и грудного дядьку, который младше всех своих племяшей…
Заглянул и председатель колхоза с Василием Истоминым, законным ныне отцом. С порога объявил радостное известие, что с появлением «молочных двойняшек» Поли и Павлуши в Березовке за последние десяток лет получился прирост населения.
— Растем, Полина Васильевна, растем! Вот бы Павел Матвеевич порадовался: столько лет убавлялись, а теперь расти начали…
Он смотрел на нее уважительно, по-доброму, восхищенно и, быть может, излишне пристально, чего сам не замечал. Истомин по-своему оценил председательское внимание и не промахнулся:
— Сорок пять — баба ягодка опять!
— Цветочек пока что, Василий Иванович, цветочек. До ягодки еще дожить надо,— смело отшутилась Полина, сама чувствуя, что волнует ее председательский взгляд. Было в нем что-то новое, не мимолетное. Говорил радостное, а в глазах недоговоренное стояло, с печалинкой… Печаль его известная: жена с пятилетним сыном измаялась ездить по больницам и санаториям. Мальчик болезненный родился, никак хвори от него не отвяжутся. Вот и сейчас где-то в больнице малыш, а мать с ним. Председатель детей любит, по глазам видно, как смотрит на них, по голосу, как говорит с ними. И в разговоре как-то обмолвился, что в деревне семья с одним ребенком — сиротская семья. А сам вот переживает, что второго ребенка завести не могут, пока сын Максимка здоровьем не окреп.
«Да у него все еще впереди, едва тридцать минуло», — жалеючи председателя, думала Полина, не без радостного волнения сознавая, что все-таки он любуется ею, взглядом иногда коснется тепло и смущенно. Не зоотехник, в женском вопросе строг. Словом приветит, в просьбах навстречу пойдет, но запретной черты не переступит ни с бабами, ни с девками. Иная, может, и поглядывает в его сторону, вздыхает тайком, но он со всеми одинаков, небалованный мужик.
К такому выводу пришло даже всезнающее и никого не щадящее «бабье радио». Зато про зоотехника трезва вонят не утихая и в выражениях не стесняясь. Мол, такой бабник, что и Мартына перещеголяет. Мартыном звали быка племенного. Полина помалкивала и, случалось, окорачивала языки наиболее говорливым, но по себе знала, что не без огня дым словесный.
Как-то в ночь дежурила на ферме по растелу. Пришел и зоотехник проверить. Ничего в том удивительно, по делу заглянул. Растел — пора беспокойная. Под хмельком, правда, был. Проверить все проверил, но и дежурную в уголке соломенном приобнял с недвусмысленным намерением. Она ему возьми да скажи: «Иван Иванович, говорят, что ты над доярками вроде Мартына хочешь стать?» Протрезвел сразу, обиделся: «Я к тебе Полина, со всей душой, а ты… Думаешь, Санька твой здорово блюдет себя?» — ответно уколол. «Хороший ты мужик, Иван Иванович, но без понятия. Говоришь, со всей душой ко мне, а сам в больное шпыняешь. В мстилки я не играю. Да и твоя Мария в чем провинилась перед нами?»
Лишь крякнул с досады зоотехник, головой помотал и отступился. Ушёл надутый. Полине и самой досадливо сделалось, что обидела человека: Мартыном обозвала сгоряча, женой укорила. А как тут не обидишь?
На следующий день зоотехник улучил момент, повинился. Да и Полина в свою очередь просила не помнить зла. Он и не помнил, не из таких. Невредный, не придира. А что требовательный по работе, так то ж для дела.
Себя не обманешь — тревожило, волновало Полину внимание председателя. Ловила себя на том, что ждет иной раз хоть мимолетной встречи с ним и радуется, заслышав голос его.
Осталось, боже, сколько в ней осталось… Совестно бывает себе признаться, но мает, томит душу непоборимая тоска по ласке мужской, по шепоту хмельному, по объятиям, дух перехватывающим. Кажется, застань ее в такую минуту кто посмелее да понастойчивее, неизвестно как бы себя повела…
И поднималось сердце на Саню: «До чего довел, грех беспутный. Письма даже не востребовал. Что письмо. Сама вон давно стала женой до востребования… А теперь, выходит, и вовсе вдовой соломенной?!»
Под такое настроение и нагрянул Саня, как всегда, нежданно-негаданно, ближе к весне. К тому времени Павлушку от груди отлучила, и мать его к себе забрала. Трудно ей стало ходить туда-сюда каждый день. Вновь опустело и притихло в доме. Только что радио одно говорит по утрам и вечерам.
С Оксаной много не наговоришь: то уроки учит, то в книгу уткнется и сидит, как мышка, в своем закутке. Или следопытские письма пишет. Оказывается, не обо всех погибших на войне односельчанах известно доподлинно, где и как погиб, чем награжден и за какие деда боевые. Школьники узнают от живых ветеранов войны и всех оповещают на собрании или перед кино.
Ольга, та поразговорчивей и вопросы взрослые задает, не сразу ответишь. Но дома редко задерживается заядлая общественница, все больше в школе да в клубе пропадает. И не просто погулюшки какие — концерты репетирует. Олюшка и поет хорошо, и пляшет, и сценки разыгрывает, как артистка.
Недавно на ферме обе выступали. Ольга пела и стихи рассказывала, а Оксана прочитала письмо одного ветерана, войны о том, как воевал и как погиб боец Степан Данилович Солодов — отец Катерины. Катерина со слезами бросилась при всех целовать Оксану и прощение просить… У нее как-то слетело с языка необдуманное: «Что ты, Ксанка, о мертвых все хлопочешь. Ты б лучше отца своего живого отыскала…» Молча плакала тогда дочь от обиды. И, видишь ты, зла не скопила, добром откликнулась.
А отец и без розыску скоро объявился.
Ужинать с дочками как раз собирались, на стол накрывали. Полина, раскрасневшаяся у плиты, в легком безрукавном халатике была, расстегнутом на груди.
Саня как-то так тихо прошел по двору и через сенцы, что они за разговорами заметили его, лишь когда он дверью хлопнул и застыл на пороге, как всегда небритый, худющий, уставший. Должно, не ожидал увидеть Полину цветущей и пышнотелой, с ног до головы жадно оглядел, как бы не признавая. И она в смущении запахнула халат на груди и закраснелась еше гуще… Кофту с вешалки сдернула, на плечи набросила.
— Добрый гость всегда к столу, — первое, что сказалось. Вышло неловко, вроде чужого приветствует. Спохватилась, дочек подтолкнула: — Кормите отца, а я баню сготовлю…
…Неужто этому не будет конца, думала она, спускаясь под гору, погромыхивая ведрами. Была бы Дранкина дома, уже б выскочила к плетню, заслышав ведерный звук. Да нет ее, уехала дочку с внуками проведать. Но Полина все равно слышит ее голос и все то, что говорила Дуняша ей в сердцах год назад, когда она так же вот, надрываясь, носила воду для бани от самого родника, a Саня исчез на другой же день, словно туман к полудню, и потом, когда не одной Полине стало ясно, что повязал-таки он ей в подол шестого…
И, странное дело, она все меньше серчала на Дранкину за ее ворчание и откровенную ругань. Сейчас оно казалось даже уместным, раз поднялось в ней самой памятью и той неуверенностью — как быть и что делать,— охватившей ее.
Неужто Дуняша права и давно уже нету того Сани, которого все это время любила она и ждала, от которого не пряталась в смущении, не стыдилась? Стерся, растерялся по дорогам и людям чужим? А тот Саня, который был когда-то, остался жить только в ней самой? С ним ей привычно говорится и думается обо всем, и радостном и обидном… Но как быть с живым?! В нем и правда с годами все больше и больше незнакомого ей и все меньше того, что любо-дорого, к чему душа ее когда-то приросла раз и навсегда.
Голос Дуняши слился с ее внутренним голосом и уже не ругался, не обзывал «дурой комолой», а вкрадчиво внушал ей ту же мысль непреклонную. «Гони его, чужака и обманщика. Не носи ему воды родниковой. Не воду несешь, а слезы свои… Разве твой Саня имел бы в паспорте ту разлучную печать? Разве твой Саня не востребовал бы твой ответ всепрощающий и молящий? Точно сердце живое в конверте… Гони!»
Но заходила в баню, сливала воду в котел, уже охваченный первым пламенем, и притихал голос Дуняши, точно сюда, за две двери, не долетал он от плетня. Здесь всегда душу ее пронизывала обезоруживающая жалость к себе ли, к Сане ли, потому что прошлое плотно и неотторжимо межевалось с настоящим. И Полина в смятении возвращалась к роднику за новыми надеждами иль слезами.
А с тяжестью ведер на крутизне обледенелого склона вновь настигал голос Дуняши: «Носи-носи, сойдет паром и все даром». Тяжелела обида покрепче тех ведер, что упружили на коромысле, раскачивая ее из в сторону — то к беде-обиде, то к жалости.
«И точно ведь, дура комолая: ни мычать, ни бодать ся не можешь. Не ты ли год назад бежала куда глаза глядят — хоть к волку в пасть, хоть в омут головой?!»
«Так ведь и ему не сладко… Вон худющий какой, на чем одежка держится. Помотала жизнь мужика…»
«А кто его гнал мотаться?..»
И шла она по заледенелой тропке, оскальзываясь то к жалости своей, то к обиде, одинаково готовая либо в ноги упасть в мольбе, чтоб все решилось раз и навсегда, либо прогнать со двора, посылая проклятья вослед…
Уставшая, измотанная внутренним раздором, вернулась Полина в хату.
— Иди, готова, — сказала мужу коротко.
Саня что-то вынул из кармана пиджака и положил на край стола, прикрывая ладонью.
— Тут все отлажено, — сказал. Встал, поблагодарил за угощение и, набросив на плечи свою старую стеганку, что неизменно висела у двери, вышел.
На столе лежал паспорт, так подкосивший ее когда-то. Не потянулась к нему, не заглянула. «Что может быть там отлажено? Стерта печать? Или новых понаставлено?».
Села на лавку отдышаться. Что-то дочки спрашивали, а она отвечала. Что-то делала потом, обманывая себя, отдаляя ту неминучую минуту, когда надо будет идти в баню. А идти туда надо будет. Ни белья, ни полотенца Саня не взял. В чем был с дороги одет, в том и пошел, не переобувшись даже.
Из комода, из дальнего угла, достала белье. Горько подумала, что одно их белье этот год вместе и лежало. Взяла и себе смену. «Ополоснусь после», — сказала себе. Банную рубаху прихватила по привычке и тут же устыдилась. Хотела было отложить, но взяла, и все.
На дворе было уже темно, но все равно, выйдя из хаты, Полина сначала глянула по сторонам и прислушалась. Почему-то не хотелось ей, чтобы видели ее с бельем в руках. Но никого поблизости не оказалось. Лишь Красавка шумно вздохнула в хлеву да поросенок урькнул во сне, отзываясь на скрип двери. Ходко пошла на тусклый огонек в конце огорода. Перед входом в предбанник задержалась. Услышала плеск за окошком значит, моется уже. Вошла в предбанник, разложила белье на лавке и сама присела, не снимая фуфайки. Ни о чем не думала, лишь напряженно ловила каждый звук.
Заплескали, зашлепали босые ноги по мокрому полу, чиркнула кружка о дно ведра. Шваркнуло и зашипело. В каменку воды плесканул. Заохал радостно — волной пара обдало. Захлестал по телу веником, постанывая, покрякивая от удовольствия. Притих. Должно, на полке лежит. Снова плеснул на каменку… Н
Долгие протяжные полчаса длилось это подслушивание. С каждым хлюпаньем ног по полу Полина обмирала: «Неужто сюда идет?! Уйти надо!» Но нет, стук кружки о ведро, шипение пара, хлест веника…
Наконец затихает надолго. Прилег передохнуть. Тишина льется тягуче и зыбко. Сразу становится слышен отдаленный лай собаки и собственное дыхание. Изредка капли, срываясь с потолка, долбят пол. Одна чуть слышно булькнула, угодив в ведро или таз с водой… И вдруг:
— По-оль!
Замерла на полувздохе. Не ослышалась ли? И только на повторный зов голос ее хрипло срывается с молчания:
— Чего тебе?
— Спину бы…
Руки и ноги враз тяжелеют. Сердце в сполохе. Само собой вырывается короткое «щас» и как бы подхлестывает Полину. Стала поспешно сбрасывать обувь и одежду, путаясь в рукавах. Забыла расстегнуть воротник блузки и тянет-тянет ее через голову… Наконец справляется с одежками. Давней прохладой и свежестью обдала тело широкая полотняная рубашка и в полон взяла. Отступать некуда — тяни за скобу дверную, судьбы полонянка. Когда б верила, перекрестилась.
Саня лежал вниз лицом, положив голову на согнутые в локтях руки. Не обернулся к ней: глаз не показал, слова не обмолвил. Лишь правое плечо ощерилось застарелой татуировкой: «Нет в жизне щастя». Саня стыдился когда-то этой писанины. Полина осторожно трогала кривые буквы пальцами и, не вникая в смысл, спрашивала, жалеючи: больно ли было? А Саня напугал ее, рассказав, как один чудик пожелал наколоть себе вечную тельняшку. До половины только и докололи eму дружки: от заражения крови помер.
Но в эту банную минуту ничего такого жалостного не помнилось Полине. Исковерканные слова вдруг поразили ее сознание своим уродливым смыслом. Они кричали с Саниного плеча его плаксиво-скулежным голосом… И Полина, взявшая было в руки мочалку, отложила ее в сторону, не в силах заставить себя дотронуться до него.
«Опять руку словит, шептать зачнет… А что шептать коли и слова доброго друг другу не сказали опосля всего…»
Веник взяла. Березовый, тугой, свекор вязал на совесть, веточка к веточке. В горячей воде подержала. Встряхнула, чтоб не ошпарить ненароком, и над спиной Сани впритрусочку провела. И он, лежавший до того напряженно, сразу весь расслабился, телом омлел.
«Хорошо-о, Полюшка, хорошо-о, — поощрительно выдохнул Саня, больше предвкушая удовольствие, нежели испытывая его. И с облегчением, что все идет как обычно, как надо.
Не однажды банька служила им добрую службу: отогревала, оттаивала пристывшие в отчужденной разлуке души. Отогреет и нынче…
Но это скорое облегчение не передалось Полине, а лишь еще больше насторожило ее.
С детства привыкшая выполнять нужную работу, не рассуждая — нравится она ей или не нравится, хочет она того или нет, Полина и за веник взялась с тем же чувством необходимости, ведь попросили ее. Осталась в предбаннике, чего-то ждала, значит, исполняй.
И веник добросовестно ходил по спине и ногам.
Рубашка ее отяжелела от пара и пота, рубищем обвисла…
— Похлещи, Полюшка, похлещи, — уже истомно подал голос Саня и сделал движение повернуться к ней лицом и пропеть дедову приговорку «хлещи, хлещи…» и тем самым вернуть былую очищающую радость святых банных минут… Но Полина устерегла этот жест, невольно хлестнув веником намного сильнее, чем требовалось, как бы упреждая, боронясь его ласк и шепота, не желая топить в них обиды свои…
У Сани на полуслове перехватило дыхание, и он лишь изумленно протянул: «Ты что-о?» — и, высвободив из-под головы руку (ту самую с наколкой!), хотел то ли защитить спину от хлестких ударов, то ли коснуться Полины, винясь и прося пощады. Но Полина по-своему поняла этот жест и наотмашь хлестанула уже по руке, тем ненавистным буквам, что зловещими пауками сползлись в слова, означая собой ложь несусветную.
«Нет в жизни счастья? А ты его добывал, ты его ладил? Или за лесами, за горами все высматривал?»
Ей казалось, что она говорит это, кричит даже. Но кричало все ее существо. И этот крик отчаянья, как у немого, что силится объяснить непонимающим, не желающим его понять, передавался в руку, срываясь с нее хлесткими ударами.
«Дом родной тебе не счастье?! Дети тебе не счастье?! Я тебе не счастье?!»
Секла голым уже веником по наколке, точно хотела сбить с него буквы-паразиты, клещами впившиеся в кожу. Но они не сбивались, как и та ложь, во многом укоренившаяся в нем самом, в его жизни. И она отгоняла ее от себя, от детей…
С хрипом, с выстоном выхлестывалось из нее исступленное: «За маму… за папу… за сироту Павлушку…»
Не шелохнулся более, лишь зубами скрипел. Мужик все ж.
Развязался, рассыпался веник, разлетелись по углам измочаленные ветки-прутики. Ужаснулась Полина, глянув на свою работу… Окаменело лежал Саня в той же позе. Даже в тусклом освещении спина его багрянила ссадинами и кровоподтеками. Листья растерзанного веника черными пятнами осыпали тело и все вокруг, как черепки или осколки чего-то разбитого вдребезги.
Всхлипнув навзрыд, бросилась прочь Полина. В мокрой рубахе под фуфайкой, накинутой на плечи, в сапогах на босу ногу, распаренная и в слезах ввалилась она в хату, напугав дочек.
— Мам, че, дерется он?! — кинулась к ней Ольга.
— Нет, Олюшка, нет… Спите, — как можно спокойнее, сквозь всхлипы ответила Полина и ушла в горницу. И там сорвала, содрала с себя тяжелую, липнувшую к коже рубаху и рухнула в постель. Утонула в перинах, запахнулась с головой одеялом, зажмурилась.
Но всплывает перед глазами, покачиваясь, иссеченная Санина спина в темных пятнах березовых листьев, как в дырах…
Мертвая, черная тишина угнездилась в доме. Затихли девчонки в своем закутке. Затаилась Полина. Даже ходики онемели, уткнувшись гирькою в пол.
Онеметь бы и ей, Полине, на веки вечные — что наделала! Да стучит сердце громче ходиков… «Тук-так Тук-так… Все не так… Все не так…».
Никогда не поднимал Саня руки на нее, грубым словом не обидел. Пропадал молча, без объяснений почти. Разве ж все объяснишь. И приходил, винясь и мучаясь тоже мало что объясняя.
Выходит, первая подняла… Как посмела?! Кто вдруг вселился в нее, тихую и безответную? Откуда ярость такая взялась?
Не поймешь, не объяснишь.
Шум открывшейся двери, казалось, остановил сердце: не слышит, не чувствует его Полина.
Уткнулась в подушку, сжалась в комок.
Не слыхать и шагов.
«Ух-бух! Ух-бух!» — где-то в висках откликается сердце.
«Иди, иди сюда… Бей, топчи, но не таись, не терзай молчанием…»
Не окликнул, не вошел. Скрипнула печная сходина, зашуршала овчина. Наверх забрался, сдерживая кряхтенье. Теперь не жди. Знать, обида обиду пересилила.
Потянулась ночка тоской лохматой без сна и покоя. Окунулась в нее, как в болото стоячее — вязко и тягомотно.
В полночь иль за полночь, не ведала времени, зов послышался. Не помня себя, подхватилась с кровати, как была без ниточки, душой и телом открытая. К печи подбежала. Сразу на третью ступеньку сходины вскочила, она и скрипнула. А больше ничего. Зов не повторился. Да был ли он? Тихо-тихо, одним дыханием, окликнула: «Саня!» На большее ни сил, ни смелости не хватило. В ответ из темноты послышалось лишь сонное бормотание. Саня спал, постанывая.
Вернулась в постель пристыженная, вся в жару. Не востребовал.
К утру, не сомкнув глаз, поостыла, что печь незакутанная. По дому хлопот не затевала, не до того было, на ферму собралась. Дочки—невесты уж, сами управятся. И гостя голодным не оставят. Паспорт Санин все так же на столе. Не дотронулась. Вечером не захотела, утром не посмела.
Не припомнит Полина, когда б еще так неохотно возвращалась домой с утренней дойки, душой и телом разбитая. Виноватой себя считала, а виниться не хотелось. Жалеть Саню жалела, а выказывать жалость свою нe могла. Ему все решать.
Нa выходе из села едва не столкнулась с мужем. С чемоданчиком своим неизменным, сутулясь, глядя под ноги шел он скорым шагом от дома родного. Так, значит, все и решил…
Отступила за скирд, из-за которого вышла, вжалась спиной в застарелую, неподатливую солому да так и застыла…
Она не окликнула. Он не обернулся.
Как-то отстраненно подумала о Валентине. Она бы завопила на всю округу, никого не стыдясь, ни о чем не думая, и догнала, если бы от нее уходил…
Только каждый своей головой живет, своим сердцем.
Сердце Полины в ту минуту не толкало ее вослед уходящему, не безумствовало. Оно лишь сжималось тоскливо и одиноко.
Полина подошла к своему дозорному окну, выходящему на улицу: видна вся дорога, выбегающая из села на ручейный мосток и дальше вверх по угору. Смолоду частенько поглядывала она в него, глаза проглядела. Прислонилась лбом к холодному стеклу. Дождя не слыхать, но тьма непроглядная — ни огонька, ни звездочки. Будто Грачиха в неуемном квохтании своем разрослась До гигантских размеров и заслонила собой от Полины весь белый свет.
Совсем зябко стало. Платок не греет, впору в хате фуфайку надевать. Хоть грубку надо вытопить, подумала. Прошла на кухню. С огнем все веселей. Снов-то, похоже, не видать больше. Наяву все пересмотрела, передумала. Память носила ее над прожитым из края в край, в один, миг доставляя из близкого в далекое и возвращая обратно. И эти «перелеты» невольно расширили, раздвинули обозримые горизонты жизни.
Раньше думалось Полине, что не больно-то приметным ручейком течет ее жизнь… Вроде березовского, который на ее веку мелел и слабел год от года, как человек, старясь. А и то прошлой весной, загатили в Успенке — целый пруд набрался за лето. Вот и в ее сорок годков сколько всего вместилось — считать не пересчитать… Целое озеро небось. И не утекло ведь, а натекло, коль память все хранит, и вглубь и вширь проглядывает. А сколько еще пережитого Саней, матерью, всеми близкими и дорогими ей людьми вошло в нее? То, что сердцем принято, от жизни своей не отторгнешь. Тоже, выходит, биография с географией. И все же, если когда б имя этому озеру попросили дать, Саней бы, пожалуй, назвала. К нему ведь вся текла, ни дальше ни ближе… Крепкой, запрудной греблей стоял он в ее жизни На него опиралась, для него и себя сберегала. Сама так поставила когда-то раз и навсегда. А он, выходит, больше спиною к ней? Держать держал, да все от нее и бежал. Той-то спине и досталось в свое время. Думала, тем и порушила запруду свою, высвободилась — теки, поспешай, вольница. Да не тут-то было. На дворе весна-лето, а она как вымерзла до дна — стоем стояла. Лишь к осени пооттаяла и плеснулась ненароком через порушенную греблю…
Сухие дрова занялись сразу, весело потрескивая, будто истосковались по огню. И эта веселость огня отозвалась в Полине теплом раньше, нежели им задышала плита. И Полина улыбнулась сама себе, потому что знала, о чем все это время исподволь думала и что сейчас обязательно сделает. Вышла в сени и вернулась с ведерком угля, давно ждавшим часа своего. Его добрым жаром и хотелось Полине встретить первые холода…
Прошлой осенью на уборку урожая сахарной свеклы прибыла в район целая автоколонна из Новгородской области. Шесть водителей на голубых «ЗИЛах»-самосвалах работали в Березовке и квартировали у звеньевых. Мария Сомова, звеньевая Полины, жившая через три дома от Осокиных, шепнула ей по секрету, что один из квартирантов все время о ней расспрашивает, видно, крепко интересуется. И пошутила наполовину всерьез:
— А что, Поля, меняй своего Саньку-летуна на Мишку-залетного. Мужик что надо — непьющий, с руками, с ногами да еще и с колесами…
Полина и сама приметила, как Михаил Коробов, мужчина ее лет, скорее угрюмый, чем веселый, все выглядывал ее на поле, все норовил рядом с нею побыть,
пока машина стоит на загрузке. Подойдет к женщинам, вроде со всеми говорит, а смотрит на нее. К ней с вопросами и разговорами не лез, да взгляды больше слов говорили. Бабы друг друга локтем в бок поталкивали, перемигивались, мол, присушила Полька залетного. Однако языкам волю не давали — уважали его за безотказность и спокойный, рассудительный нрав. Другие шоферы к вечеру старались увильнуть от свеклы и сгонять в левый рейс, чтобы обеспечить себе магарычный ужин, а то и веселье. Михаил же и в ночь свеклу повезет, если надо. Полине, как и многим другим, солому и хворост подвозил. Денег не взял и даже зайти отужинать постеснялся.
Приятно было Полине его внимание. И намеки баб больше волновали, чем докучали. Она не без удовольствия отшучивалась. Но когда Мария предложила ей назавтра поехать с Михаилом на свеклопункт, чтобы сверить квитанции на сданную звеном свеклу, она вдруг не на шутку переполошилась и стала отнекиваться.
— Ты ж сама говорила, что в райцентр надо, — искренне удивилась звеньевая неожиданному ее упрямству. — Оксанке сапоги купить собиралась. Да и Ольгу проведаешь, а то и заберешь на выходной…
Доводы были веские. И сапоги новые нужны были Оксане, осень уже квасится. И Олюшку самый раз домой привезти из интерната.
Но убедил ее неожиданно сам Михаил:
— Да мы засветло вернемся, Полина Васильевна, поспеете и дома похозяйничать, — сказал он успокоительно и с такой мольбой во взгляде, что Полине неловко стало за свое упрямство.— И угля прихватим на обратном пути. Председатель сам о том просил, чтоб порожняком не гонять.
Сделала вид, что уголь пересилил все сомнения, а сама-то знала, что взгляд этот и голос… И она решилась. В легком смущении оттого, что прилюдно идет навстречу чему-то запретному, от чего раньше бежала как от огня. Идет без оглядки на то, что подумают и скажут, лишь чуть-чуть успокаивая себя тем, что каждый из трех поводов сам по себе оправдывает эту поездку.
С вечера готовилась к поездке как на смотрины — наряды свои перебрала, наказов Оксане наговорила, как будто она на месяц уезжала. Ночью плохо спала, поднялась чуть свет, долго собиралась. В поле пришла разнаряженная — в новых сапогах, цветастом платке, праздничной юбке. Сверху на плюшевый жакет только плащ надела, чтоб не испачкался. Женщины хотели было отстранить ее от погрузки, да Полина наотрез воспротивилась, первая начала с жаром швырять в огромный кузов увесистые корнеплоды и работала не разгибаясь.
После утомительного метания бурака в высокий кузов самосвала на ветру с дождевой моросью просторная кабина с упругим диванным сиденьем показалась необычайно уютной. Напряжение отступало, позволяя усталости проникать во все уголки тела, томливой слабостью перебирать все погудывающие косточки. Не хотелось ни говорить, ни двигаться. Только смотреть и внимать всему, что происходит вокруг и в ней самой.
Михаил повел машину плавно, не торопясь, расчетливым перекатом одолевая каждую выбоину. С таким грузом — свекла курганом возвышалась над бортами самосвала, — конечно, не разгонишься, но Полине казалось, что Михаил это делает специально для нее. И в том была существенная доля истины. Пока они ехали с плантации через все село мимо фермы и пруда, двора Валентины и строящейся колхозной бани, мимо омолодевшего жилища Татьяныча и самого подворья Осокиных, Михаил уважительно молчал, лишь искоса поглядывая на спутницу. Не мог он знать, что значило для нее все это, но особое отношение к Полине как бы позволяло ему прочувствовать ее состояние и оберегать его.
А Полина, глядя в сторону фермы, с улыбкой вспомнила шутливое напутствие зоотехника, когда ее переводили в подменные доярки: «На повышение идешь, Полина Васильевна. То одной группой командовала, а теперь все стадо твое…»
Больше ничего она не успела подумать о своей главной заботе, ферма осталась позади, дорога входила в уклон, и взору открывался пруд. Вспомнила о Павлушке: «Теперь бабку гоняет. Мать жалуется, что сладу с ним нет: по всей хате ползает, во все уголки заглядывает, все на себя тянет».
Только о мальце-сыне подумала, молодухой себя ощутив, а тут как тут Валькин карапуз — стоит у двора, в носу пальцем винтит. Надо бы подбежать к нему да палец «спасти», а внучок уж и проплыл мимо, уступив в душе место своему прадеду — стропила бани колхозной завиднелись. Председатель обещал к Октябрьской устроить всем баню поголовно. В кладовой, говорят, и веники к тому припасены. А Николай Иванович о чем громко скажет, то громко и делает.
«Вон и семью свою от «сиротства» избавляет. Полгода не прошло, как Людмила Сергеевна с Максимкой из больницы вернулась, а теперь ясно, что понесла…» — чуть ревниво отметила про себя Полина.
Стройка бани шла полным ходом: окна застеклили, верх под шифер подводят. Был бы жив отец — дневал бы и ночевал тут. За него теперь Татьяныч все хлопочет. А вот и он сам возле дома с лопаткой. Ямку для саженца роет. Старается Егор Иванович. В гости сына с семьей ждет. Дом сияет даже в хмурный день — стены выбелены, наличники выкрашены. «А ведь и Татьяна когда-то из этих окошек поглядывала…» — с нежностью и печалинкой подумала, как о старшей сестре или подруге заветной. «А ведь я-то нынче старше ее буду!» — поразилась догадке…
С чувством, с думой о Татьяне и к дому своему подкатила Полина. Михаил выразительно посмотрел в ее сторону: не остановить ли, не надо ли чего? Но она не подала никакого знака, сама дивясь, как легко проезжает мимо дома, отрешась от всех забот, будто пролетает над всем. Kак в одном запомнившемся сне из детства, о котором она любила рассказывать дочкам.
Привиделась ей самая большая улица Успенки, сплошь заполненная людьми, каких она только знала, даже умершие среди них, и много-много незнакомых, но и они вроде как свои. Все ждут чего-то. И она с братишкой и матерью стоит вместе со всеми и тоже чего-то ждет. Вдруг она тихо ойкнула, расставила руки в стороны и, коротко вздохнув, оторвалась от земли; полетела над улицей, над головами людей. Совсем не высоко, не выше крыш, потому что хорошо различала лица людей, рее следили за ее полетом, будто именно этого и ждали. Улыбались, одобрительно кивая головами. И себя видит стоящей среди людей… И выходит так, что она летит и в то же время остается на земле…
Дорога легко пронеслась через луг, через мост и, взбежав с разгона на одну треть увала, взяла наискосок по бугру и Полина разом увидела всю Березовку, как с высоты полета. И как в том сне — ощущение легкости небывалой и тихого ликования: «Лечу-у!» Только теперь не люди, а сама Березовка, подмолодившаяся как двор Татьяныча, смотрит на нее окнами хат, виданными-перевиданными, что и замечать перестаешь, улицами и тропами, хожеными-перехоженымк, робкими строчками березовых посадок, что наново выписывают имя села на чистых от бурьяна пустырях и палисадах.
«Лечу, да не улетаю»,— спокойно сказала сама себе, как бы подтрунивая над своими детскими ощущениями. О Сане, конечно, подумала: что испытывал он, оглядываясь на родное село? Да разве узнаешь. Одно ясно — по-разному оглядываются они: он прощался каждый раз, а она вот радуется, как дитя малое. И сейчас ощущение такое, что не просто к дочке едет она, не просто от дома, но и в чем-то от себя… И кажется, вглядись она получше в свое подворье, то себя там и увидит…
Дорога взяла круто влево, вынося их на горбину увала, и Березовка оказалась за спиной, ушла из поля зрения. Но ощущение полета и сообщенное им настроение остались. И Полина, благодарная водителю за то, что он так хорошо молчал все это время, первая подала голос.
— Летать во сне не приходилось, Михаил Иванович?
За гулом мотора, одолевающего последние метры подъема, Михаил не полностью расслышал вопрос и ответил невпопад:
— Как же, лета-ал… Нынешней весной, гостил у брата в Иркутске. Туда и обратно самолетом…
Этот непопад вызвал у Полины улыбку, но переспрашивать она не стала, как бы возвращаясь из снов на землю, хотя Михаил как раз говорил о небе. По его рассказу выходило, что летать на реактивных самолетах вовсе не интересно. И скорость, и высота поражают лишь около земли. А там, за облаками, пролетаешь километр за четыре секунды, а кажется, что висишь в воздухе…
— На земле, правда, нам тоже кое-что кажется иным, чем оно есть на самом деле, — многозначительно заключил Михаил, но развивать эту тему не стал. О брате рассказал, о его семье.
Полина хотела спросить, какой из городов дальше находится — Иркутск или Красноярск, но постеснялась… О своем брате Петруше рассказала.
Скорости машине Михаил почти не прибавил. Между тем дорога позволяла, не то что в прошлом году, когда председатель, отвозя ее в роддом, всех чертей поминал… Знать, не без пользы за рулем тогда сидел, вновь с добрым чувством вспомнила председателя. Весной, не дожидаясь районного дяди, колхоз своими силами стал подсыпать да подравнивать грейдер. День дороги каждый месяц объявляется.
Заговорили о детях. У Михаила их двое. Сын Генка в армии служит. В отца пошел. Шофером тоже. И по разумению жизни у них полное совпадение взглядов и даже вкусов. А вот с дочкой наперекосяк. Она во всем сторону матери берет и в свои двадцать рассуждает и на жизнь смотрит, как сорокалетняя. Даже голос на отца поднимает вслед за матерью, жить учит… Жена его в столовой работает, с пустой сумкой домой не возвращается, хоть и в магазинах почти не бывает. И попрекает всякий раз: я тебя кормлю! Дочка в парикмахерской дамские прически наводит, всегда при карманных рублях. Один он, имеющий в своем распоряжении «почти паровоз» (выражение жены), приносит домой одну зарплату — «двести вялых» (выражение дочери). Мол, другой бы на его месте…
Михаил говорит с заметным сожалением, но не возмущается, не жалуется, а вроде как удивляется:
— Не пойму, как можно одними вещами жить? Только и слышишь: купи, достань. Надо не надо — тащат в дом всякую всячину. Вазы, ковры, рюмки, бокалы, сервизы, золотые побрякушки. Ну, я понимаю, одежда, мебель необходимая. Купи вещь красивую, удобную — пользуйся. Надел — надо порадоваться, носи, красуйся. А то ведь за стеклом стоят сервизы, ни разу гостям не выставленные. В шкафу висят кофточки платья, ни в театр, ни в гости не одеванные… Ковры стелить и вешать некуда, в скатках стоят впрок, дочке приданое… Говорят, что жить умеют. Только жизни почему-то не радуются. Все недовольны, все попреки. Даже вещи редкие, похоже, достают больше из желания вызвать зависть у подруг, нежели самим, порадоваться. Женихов дочкиных, и тех как вещи оценивают и перебирают. Жаль мне их, а ничего поделать не могу. Я с ними и так и сяк, а они ноль внимания. В лес обеих летом не вытащишь. Жена говорит, пока машину не купишь, ни в какой лес не поеду. Дочка ей поддакивает: «Без машины никто путевый меня замуж не возьмет». А мне колес на работе хватает. Я по земле своими ногами ходить люблю и не только бензин нюхать. Я им об этом по-хорошему толкую, не понимают, нервничают, обзывают всяко. Жена мне так и заявила: «Тебе легко быть добреньким и честным за чужой счет» ты на моей шее сидишь!» Значит, мои двести-триста рублей уже не деньги уже не зарплата… Им бы в день столько огребать ещё куда ни шло. И ведь огребают, есть такие. Один раз уговорили меня дачному кооперативу помочь. Знакомец жены там делами заправляет. В несколько самосвалов перегной возили на участки. Организовано четко было. В торфяной низине экскаватор нас загружает без передыху, а мы возим. Рейсов пятнадцать сделал. А потом выяснилось, что этот кооперативщик за каждую машину земли драл с дачников по двадцать рублей! Мою долю жена получила, боялась, что откажусь.
Близки и понятны эти тревоги Полине, будто о старшей дочке с зятем речь завел. Только у тех вроде все ладно: одним дышат. А человек вот мается. «И чего ей еще надо? — глядя на Михаила, мысленно задавалась вопросом Полина о его жене. — Ну дочка ладно, пусть фордыбачит. Молодых да городских не сразу поймешь. Но сама-то, сама?» Не находилось ответа…
Проехали мимо посадки дубков. Краем глаза и краем души отметила место, где Саня когда-то чужим показался…
Михаил помолчал, притормаживая перед глубокой рытвиной. Кончилась земля березовская, а в соседнем колхозе ни дня, ни часа дороги не устраивали.
— Я вот об отце думаю, — продолжил Михаил, пустив машину по колее, заполненной водой. — Погиб он в Прибалтике в сорок четвертом. Когда хоронили, опись имущества его солдатского составили. «Ложка, нож перочинный, кисет…» Так я на все лишнее, ненужные вещи и потребы сквозь эту опись смотрю. И сердце закипает.
Перемолчал вспышку, улыбнулся Полине одними глазами.
— Сами же посмеивались над соседкой, у которой гарнитур заграничный все три комнаты занял. Ходит она целыми днями из комнаты в комнату и специальной варежкой пыль с полировки снимает. Как привязанная! Посмеялись, но и позавидовали, конечно. Тебе, говорят, век такого не иметь. А я отвечаю, что век бы мне его не видеть. Как взвились мои родимые в два голоса, как начали меня поносить, хоть из дому беги. Смотрю на их сердитые лица и не признаю, какие-то чужачки базарные, а не жена с дочерью. Вот что с людьми сытыми вещи-вещички делают… Так я в командировку с облегчением еду. Сына нет дома и возвращаться не спешу…
«Вот уж с жиру бесятся, другого не скажешь», — про себя посочувствовала Полина шоферу, а вслух сказала:
— На бурак твоих надоть, Михаил Иванович, на бурак. Бурак-сахарный, да рубль за него соленый, сам видишь. С такого рубля не здорово закобенишься, и сорить его почем зря не станешь. А с даровыми рублями да харчами и петух петь не схочет, а уж кот и подавно мыша не словит. Недоглядел ты, как они, обкормившись, тебя запрягли да погонять стали.
— Что верно, то верно, не углядел, — с готовностью согласился Михаил.
— А на вещи чего зря грешить, они ж для пользы и радости людской деланы. Я б себе хоть сейчас ковер какой пожарче в дом внесла. Да лишние рубли не скапливаются, не до ковров пока что. А у дочки средней, Валентины, во всю стену пылает, как лес осенью ядреной. Глянешь — душа радуется, и в комнате светлей-теплей. И матери нынче вот в полгорницы ковер справили. Мой меньший да внучок ползают по нему, как по лугу цветы собирают.
— Да я что, я разве против, когда в меру? — смутился Михаил, боясь, что его не так поняли.
— И то верно, что меры не знаем: кто терпеть, а кто терпение испытывать… Тебя вот запрягли, хочь на дыбы становись, мой — напротив — рассупонился… И носит его нелегкая по свету. Горе мыкает, беду хлебает, а все пересилить себя не может. У нас тут, вишь ты, все ему не то да не так. Где-то он навроде как рубль, а тут всего лишь пятак. Все прощалось ему, все жалелось, он и пошел круголять, сам себя не жалеючи. Потом меня ж и попрекнул, что вовремя не придержала, будто он телок на веревке. И верно, знать, виновата, раз не хватало духу объявить однажды: или хозяином в доме будь и не вертайся совсем. Так разве ж объявишь?
Вроде и строго сказала, осуждающе. Да как слово ни храбрилась, голос другое говорил. А когда излагав судьбу Санину стала, сколько ему на чужбине лишений претерпеть довелось — и работа надрывная во имя длинного рубля, и вечное бездомье, и запой оттого, когда длинные рубли обращаются в прах; и тюрьма, и драки и неверные друзья — все говорилось уже не в укор, а чуть ли не в оправдание. Будто Саня ни в чем особо не был повинен, а все эти напасти валились на него по гордости и доверчивости характера — как сразу не остановился, так и пошло-поехало…
На дорогу Михаил почти не смотрел. Лишь мельком боковым зрением. Руки да ноги хорошо знали свое дело — притормозят где надо, рулем вильнут, газу прибавят. От Полины глаз оторвать не мог. Столько было во взгляде его участия сердечного, что казалось, весь он без остатка душой изливается к ней через взгляд этот. И взгляду тому нельзя было не довериться. Созналась Михаилу и в том, чего подругам да матери не сказывала. И про паспорт со штемпелем, и про письмо Санино отказное, и про веник, об его спину истрепанный.
Михаил то согласно кивал, то изумленно качал головой, то, сцепив зубы, откровенно хлопал ладонями по баранке, изредка перебивая Полину короткими вопросами. Несколько раз порывался закурить, доставая из кармана кожаной куртки пачку сигарет, но тут же прятал ее обратно, несмотря на то что Полина разрешала ему курить. «Ладно, потерплю. Я больше дымилыцик, чем курильщик», — отшучивался Михаил. Своего отношения к тому, о чем говорила Полина, он почти не высказывал, но и без слов было ясно, каким глубоким сочувствием проникается он к ней, как негодует на превратности Саниной судьбы и коварство его дружков, как возмущается слабостью и бездушием Сани и в то же время ревнует и завидует ему…
— Поля, ты знаешь кто? Ты… Да на тебя всем святым молиться надо! — вырвалось у Михаила как признание.
— Что ты, Мишенька. Баба я обыкновенная. Глупая и безответная. Девки мои ума больше набрались, вернее свою судьбу ладят, — возразила не без грусти.
Но сердце отозвалось, качнулось доверчиво навстречу словам, что разум принять не мог. Да и не словам вовсе, а всему тому, что за ними теснилось невысказанно. А Михаил, словно застыдившись своего порыва, выпалил с нарочитой грубоватостью:
– А уж твоему дураку надо голову отвинтить и подальше забросить, чтоб никакая техпомощь не отыскала ее днем с огнем да не прикрутила случаем обратно…
И, винясь за грубость несдержанную, поспешно и робко дотронулся до нее, пожал руку повыше локтя. И больше не глядел в ее сторону, виновато и рассерженно охмурясь.
Приближался райцентр, и машина как бы сама собой прибавила ходу.
Больше ни о Сане, ни о жене с дочкой не было сказано ни слова.
На свеклопункте скопилось много машин, даже самосвалу пришлось битый час с муравьиной скоростью подбираться к месту разгрузки. Но время не тянулось. Полина довольно скоро выполнила задание звеньевой и поспешила снова забраться в кабину, не заглянув даже в ближайший магазин. Пасмурное небо придавало полдню предвечерние черты, и Полина все поглядывала на ручные часы Михаила, беспокоясь, что не поспеет в универмаг либо Олюшку не застанет в интернате — чего доброго, та сама надумает домой добираться: Михаил ненастойчиво предлагал ей одной походить по магазинам и подождать его у дочери. Но ей не хотелось ни на минуту оставлять его в одиночестве, как не хотелось одной бродить по поселку. И в благодарность за это он рассказывал ей самые веселые истории из шоферской жизни, и они хохотали над ними весело и открыто, как люди, знающие друг о друге самое важное. И день, как и утро, и прошедшая накануне беспокойная ночь не просто казались Полине необычными, они и были такими и в мелочах, и в главном. И в том, что она делала, думала, чувствовала и говорила. И в том, что говорил и делал Михаил.
После разгрузки на свеклопункте Михаил первым делом остановил машину возле столовой. «Пойду гляну, — сказал. — Если очередь небольшая, перехватим». Вернулся быстро и не просто позвал взмахом руки, а подошел к машине, дверцу открыл и, подхватив Полину за талию, почти снял ее с высокой подножки. В столовой помог раздеться. Вот когда Полина не пожалела потраченного с вечера времени на сборы. Кремовая блузка кружевным воротником (последняя обновка, привезенная Светланкой из Курска) и темная шерстяная юбка в обтяжку делали ее празднично нарядной. Даже резиновые сапоги не подвели — блестели не хуже туфель модельных. На нее сразу заоглядывались мужчины и женщины, находившиеся в зале. И тем и другим было на что посмотреть. Но самое желанное впечатление отразилось на лице и во всем облике Михаила, впервые видевшего ее без пальто и фуфаек. Он весь подобрался, выпрямился, будто собирался пригласить ее на танец.
В очередь за обедом Полине встать не позволил, как гостью усадил ее за свободный столик и сам обслужил — тарелки с едой перед нею поставил, ложку с вилкой подал, приятного аппетита пожелал. Сел напротив и по сторонам не озирался, в тарелке взгляд не задерживал, все на нее смотрел, угадывая и опережая любое желание ее: соль или горчицу подать, тарелку со вторым или стакан с компотом пододвинуть… И взгляды его не смущали, а волновали Полину. Особенно те, молчаливые, что ненароком встречались с ее взглядами. И они, не произнося ни слова, улыбались друг другу.
Пряди волос, выбившиеся из общего пучка, собранного на затылке, сползали ей на лицо, как только она склонялась над столом. И чтобы поправить их, надо было поднять и чуть запрокинуть голову. А значит, встретиться со взглядом Михаила и улыбнуться ему. И она делала это охотно, с неутраченной легкостью. С каждым взглядом его и улыбкой в ней прибывала и крепла вера, что сегодня непременно должно произойти и уже происходит что-то хорошее. И, в очередной раз поправляя непослушные пряди, она вдруг ощутила в себе нестерпимое желание дотянуться до затылка, вынуть из пучка заколки и так тряхнуть головой, чтобы волосы разом расправились и вольно легли на спину и плечи…
Не без сожаления смотрел Михаил, как укрывает она голову цветастым платком, и, подавая ей плюшевый жакет, чуть задержал руки на ее плечах. Маленький неожиданный праздник кончался.
На угольном складе Михаил не дал ей и шагу ступить из кабины. Всех сам обегал, со всеми договорился. Правда, пока оформляли документы, пока кого-то ждали, пока загрузились — времени ушло не меньше, чем на свеклопункте. К тому же стал накрапывать дождь. Но они уже с обоюдного молчаливого, согласия не торопились, не поглядывали ежеминутно на часы. Михаил догадался позвонить в школу и попросил передать Оле Осокиной, что к ней скоро заедет мама. Это освободило Полину от лишнего беспокойства. По универмагу они ходили не спеша, заглядывая во все отделы. И маленький праздник столовой как бы повторился. К сапогам для Оксаны радостно прибавились игрушки и обновки для Павлушки и его племянников…
К интернату подъезжали в сумерках, с зажженными фарами. Отшипели тормоза, качнулась машина, замирая на месте. Качнулась вперед к стеклу и откинулась назад на сиденье Полина, постигая вдруг причину неуюта, поселившегося в ней еще при выходе из универмага: вот и окончился их день, истекло их время…
Она чуть помедлила выходить, он не торопил.
— Но ведь для Олюшки хватит места, правда, Миша? — виновато и тихо спросила она.
— Хватит, Поленька, хватит, — так же тихо ответил он и погасил фары.
Полина открыла дверцу и уже спустила ногу на ступеньку, как Михаил окликнул ее:
— Поля!
Она оглянулась:
— Что, Миша?
Он рывком придвинулся к ней, положил руку на плечо.
— Нет, ничего… Плащ вот прихвати, дождь там…
Полина на короткий миг прижалась щекой к руке, лежавшей у нее на плече, и с плащом выскользнула из кабины.
— Да не больно торопитесь, теперь спешить некуда, поспеем. А я пока перекурю, чтоб вас потом дымом не морить, — уже вдогонку сказал.
Оленька поджидала мать на крыльце спального корпуса. Радостно обхватила ее за шею и расцеловала в обе щеки.
— Собралась, поди, а где сумка-то? — освободившись от объятий дочери, спросила Полина, оглядываясь по сторонам.
— Ой, мамуленька, ты только не сердись, я не могу сегодня поехать… Завтра у нас смотр-конкурс, а я ответственная от комитета…
К такому повороту событий Полина не была готов и вдруг разволновалась, стала уговаривать дочку.
— Поехали, поехали, хоть поешь дома как следует.
— Что ты, мамуленька, нас как на убой кормят. Мы свое не поедаем, еще и хрюнькам остается. Слышишь голосят зубарики? Сейчас понесем им с кухни.
Полина и вправду услышала нудливый поросячий визг, доносящийся из дальнего угла двора. И он как-то сразу убедил ее, что дочь не голодает.
Выслушав на ходу дочкины школьные новости и сообщив ей свои, деревенские, Полина щедро выделила ей три рубля на сладости и взяла с нее слово, что через неделю никакие смотры и конкурсы не помешают ей приехать домой.
Прощались еще жарче, чем при встрече, по-разному виноватые друг перед другом.
Михаил не сразу понял, почему Полина вернулась одна. А когда понял, оживился, поспешно выбросил недокуренную сигарету, захлопнул дверцу и, заводя мотор, взволнованно пообещал:
— Да я в следующую субботу сам за ней заеду.
Машина, ослепительно брызнув светом фар, рванула с места и понеслась вдоль безлюдной улицы, расплескивая лужи до самых заборов. Полина, откинувшись на спинку сиденья, наблюдала за Михаилом и не могла сдержать отрадной улыбки.
Выскочив из райцентра на грейдер и угодив в глубокую колею, «ЗИЛ», как укрощенный скакун, пошел нервной рысью, торя собой густую пронизанную дождем тьму.
Некоторое время оба молчали, ошеломленные нежданно-негаданным продолжением того, с чем они, таясь друг от друга, уже смиренно распрощались. Говорил, порыкивая, только мотор, да неутомимо трудились дворники, то и дело смахивая с прозрачных щек стекол мелкую дождевую испарину.
Они были очень похожими на опасную бритву свекра, которую не дозволялось брать в руки не только внучкам, но и даже ей, Полине. Зажатая меж двух дощечек и туго обернутая тряпицей, хранилась она под самым потолком, в щели меж печной трубой и горничной перегородкой. Тайник этот знали все. Но каждый раз, доставая или пряча бритву, свекор заставлял отворачиваться всех, кто бы ни находился в комнате. И когда он брился или правил бритву на широком армейском ремне, перекинутом через спинку кровати, подходить к нему ближе чем на два метра строго воспрещалось, «р-раз — и носа нет! Еще р-раз — и пальца нет!» — стращал он любопытных внучек.
Вспомнив это, Полина невольно убрала руки подальше от стекла, с которого все так же решительно сбривал капли дворник.
— Ты не дремлешь, Поль? — неожиданно окликнул Михаил и обернулся к ней.
— Не-эт.
— О чем думаешь?
— Да как-то ни о чем, — смутившись прямого вопроса, начала Полина,— но все же разговорилась. — Хорошо вот, ехать бы и ехать. Давно столько не каталась.
О бритве свекра сказала.
Михаил провел ладонью по щеке и подбородку.
— Да-а, на танцы нынче я негож. За день ощетинился. Хоть дворник снимай, — сказал, как извинился, и вместе с тем сделал попытку начать шутливый ухажерский разговор, с которого легче можно перейти к тому, о чем молчалось.
Полине хотелось как-то откликнуться, поддержать шутливый приятельский тон. Коснуться ладонью щеки его и сказать что-либо ободряющее, игровое даже, мол, очень приятно колется. Да разве на такое смелости хватит?
Но теперь, если бы Михаил спросил, о чем она думает, Полина знала бы, что отвечать. Думает она, конечно, о нем. Что хороший, видать по всему, он человек. Добрый и надежный. С таким и в непогоду ехать покойно, и жить, наверно, радостно, несиротливо. Но второй раз Михаил, пожалуй, не спросит. В общем-то она и сказала уже об этом своим «ехать бы и ехать».
За окном дождь, слякоть, тьма. А в кабине по-домашнему тепло. Отопление работает вовсю. Впору верхнею одежду снимать. Но Полина лишь расстегнула жакет да развязала платок, сдвинув его на затылок.
И вновь, как в столовой, захотелось ей отчаянно встряхнуть головой и разметать волосы по спине и плечам. И ощутить на себе восхищенный взгляд Михаила…
«Отпустил Саня душу, отпустил…» — отстраненно, как не о себе, подумала она.
А Михаил был заметно расстроен затянувшимся молчанием и еще несколько раз пытался заговорить. Ведь дорога неумолимо шла на убыль. Вон и дубрава темнеет. А за ней и пяти километров не натянешь до Березовки. Но общий разговор не завязывался. Мешал гул мотора, мешало трясучее движение кабины, мешал яркий свет фар и особенно раздражали и пугали надоедливые дворники, будто нарочно протирающие стекла для чужого любопытствующего подгляда…
И, словно под гипнотическим влиянием мыслей и желаний Полины, машина замедлила ход, и, пройдя с натужной пробуксовкой несколько метров, остановилась несмотря на то что мотор ревел во всю мочь. Погоняв машину взад-впёред по переполненной водою колее, Михаил выключил мотор.
— Пусть поостынет немного, перегрелся, — хрипло сказал он.
Тишина навалилась на уши, оглушила.
Михаил выключил свет, но сказал ли он что при этом, Полина не слышала.
Тьма ослепила до боли глаз, запахнула всей своей непроглядностью, придавила до неподвижности, обдав легким ужасом все ее существо. Ни пальцем пошевелить, ни слова выдохнуть. Почему-то хотелось только закрыть глаза. И она их закрыла и как бы защитилась, отстранилась от темноты. Глазам сразу стало легче. Вернулся слух. По шороху и покачиванию сиденья Полина догадалась, что Михаил снимает свою кожаную куртку, облегченно вздыхает и придвигается к ней. Руку за спину ей завел, приобнимая, и голова Полины как-то сама собой очутилась у него на плече.
Ощутив на лице его дыхание, она вдруг ясно представила себе глаза с подрагивающими ресницами, продолговатый с горбинкой нос и пересохшие от волнения губы.
И она не страшится, не противится этому, к ней возвращается осознанная уверенность, что вызревала в ней весь этот долгий необыкновенный день: рядом с Михаилом ничего плохого быть не может.
Дыхание его стало прерывистым. Полина встрепенулась одним движением освободилась от его рук.
— Почему стоим? — вдруг спросила она, будто все время не слышала, не видела ничего.
Но вместо объяснения Михаил в порывистом запоздалом объятье притянул Полину к себе и прикрыл ее рот своим. Губы его и вправду оказались обветрены волнением — сухи, шершавы и колки. Полина коротко ответила ему и прервала поцелуй.
— Будет тебе, будет, Миша, — сказала она как могла ласковей, стараясь не обидеть его, и отстранилась к дверце. Дверца неожиданно приоткрылась — видно, локтем Полина нажала на ручку. Падая из кабинки, Полина обеими руками схватилась за дверцу, и ее как на карусели вынесло наружу, в дождевую тьму. Ноги оскользнулись в грязи, на руки припала. Но тут же подхватилась и кинулась прочь от машины в сторону села.
— Поля! Куда ты? Постой! — крикнул встревоженный Михаил, но почему-то не выскочил за ней следом, а включил фары. Свет одним мощным ударом проторил в дремучей тьме просеку дороги и как бы подтолкнул Полину. Она побежала, соскальзывая в колею, будто пьяная, качаясь из стороны в сторону, запахивая на ходу жакет, поправляя платок.
Позади взвыл стартер. Машина не завелась. Свет погас. Полина натолкнулась на тьму, как на стену. Но не остановилась, только инстинктивно руки выставила вперед.
Снова голос стартера. Взревел мотор. Вспыхнул свет, но уже не такой яркий. С полсотни шагов отошла на взгорок. Мотор ревел, но свет не приближался, не ярчал.
«Видно, и вправду буксует, — подумала, останавливаясь дух перевести. — А давеча показалось, что слукавил Мишенька».
Опомнившись от бега и представив свой полет из кабины, Полина вдруг расхохоталась во весь голос:
— Ой, кто б знал, кто б видел! Ой, умора! Убежала от миленка, как зеленая девчонка… Ой, не могу… И покупки забыла, и прости-прощай не сказала…
С минуту сквозь мерный шорох дождя над дорогой перекликались сердитый, недоумевающий голос мотора и высокий раскованный смех. Не очень-то веселый, больше на нерве, но такой же естественный и неудержимый, как этот дождь и эта темнота.
Полина испытывала неловкость перед Михаилом за свое переполошенное бегство. Обиды на него быть могло, потому что без малейшего сомнения верила, как себе: не случайное это у него, не потому, что «подвернулась».
И для нее самой случилось что-то более важное, чем то, что могло произойти минуты назад, от чего она так неожиданно и так забавно бежала. Если бы Миша догнал ее сейчас, они б вместе посмеялись. Куда веселей, чем одна.
Но возвращаться ей не хотелось. Вернее, не моглось. Отсмеявшись, она лишь постояла, глядя в сторону буксующей машины.
Свет покачивался, подрагивал. То отступал, западая в лощине, то подрастал до определенных границ, упираясь во тьму, и, не в силах ее дальше раздвинуть, устало откатывался назад.
Это бессилие света вдруг вызвало у нее прилив щемящей жалости, и слезы сами навернулись на глаза. Сквозь них свет показался вовсе расплывчатым, ослабевающим. И дождь как-то странно замедлил свой ход. И уже не окроплял лицо мелкой моросью, а задерживался на щеках холодяшками, тяжелил ресницы. Присмотревшись, Полина поняла, что идет снег с дождем. И это открытие порадовало.
«Снег и слезы, — само собой пошутилось. — И смех, и снег, и дождь, и слезы…»
Все смешалось в непонятное, необъяснимое состояние. Смех для нее не был чистым весельем. Но и слезы не выражали горечи страдания. Переполох в ней улегся скоро. Осталось ровное, радостное ощущение прожитого дня, в котором было много ее самой, для себя, о себе…
Чувствуя, что намокает, Полина медленно побрела дальше, не прощаясь, не открещиваясь от того, что оставалось позади, но и не обнадеживая себя ничем. Грело ее сознание, что бывает и может быть вот так хорошо: встретились два человека и раскрылись друг другу без потаек и лукавства… И оказалось, что вечную вечность все знали они друг о друге и только часа своего ждали, чтобы окликнуть… И вот он пришел.
Мысленно возвращаясь в кабину, в то истомное состояние, когда такими желанными и обезволивающими были ласки Михаила, а потом вдруг все разом пропало, Полина подумала о муже: «Не до конца отпустил Саня, душу, не до конца… Усторожил, дернул за последнюю ниточку…»
Чуть запрокинула голову, остужая лицо под дождем снегом. Из посадки дубков, подступивших к дороге, пахнуло листовой прелью, как из остывшей бани. Где-на этом месте проехала она мимо него. Теперь сама пройдет этот путь Сани отчужденно. Не винясь, не каясь. И ново было ей открывать в себе такое и небоязно. Все дальше и дальше уходила Полина от буксующей машины, и гул ее все притихал, пока не пропал совсем вместе с угасшим светом.
«Не догнал Мишенька, не догнал…» Впереди затеплились редкие огоньки, идти стало легче. Полина догадалась, что дорога пошла под уклон. Вот и увал, их «гора — два вора», над которым только утром сегодня пролетала она душою. Как давно это было! Но никто ее не украл. И, подумав об этом, Полина прибавила шагу, почти побежала, будто вновь собиралась взлететь…
Год прошел-пролетел, а будто вчера вбегала в хату мокрая с ног до головы и продрогшая до последней жилочки. Как молодуха, места себе найти не могла, всё прислушивалась: не гудит ли машина?
Уголь разгорелся, не заметила когда. Пригрелась возле плитки и платок с плеч сбросила. Вон как полыхает, аж круги выкраснели. Заглянула к дочке за перегородку. И ее теплый дух приласкал. С вечера калачиком под одеялом свернулась, а сейчас разметалась. Только лоб чего-то хмурит, как сердится на кого. Вот и Мишу букой встретила. Он уголь во дворе сгрузил и хотел занести его в сарай, а дочка: «Некогда нам сегодня с ним возиться, мы с мамой к бабушке идем». Михаил рыбу свежую передал от шоферов в благодарность за баню. Оксанка и тут в штыки: «Не нужна нам рыба, у нас селедка есть!»
Так и не дала ни словом обмолвиться, ни угостить как следует. Ни с чем и ушел Михаил. Ни с чем и уехал.
Какой бесенок вселился в нее тогда? От чего берегла, кому сохраняла, глупенькая? Не зря, видно, в имени ее — «Ох, Саня» слышится. С тем и называла малютку когда-то, будто последние надежды судьбе загадывала. Оказались не последние… Каждый год, как трава заново отрастают.
Протяжно и трубно промычала Красавка. Знать, пора за хлопоты приниматься.
Оделась, во двор вышла и остановилась в изумлении — белым-бело вокруг. Ладонями лицо потерла, умылась туманом. И улыбнулась сама себе, как с добрым утром поздравила.
О Грачихе вспомнила. С легкой родительской виноватостью подошла к перевернутой кошуле и со словами «Ну что, глупышка, одумалась?» откинула плетенку. Взъерошенная и мокрая Грачиха не шелохнулась. Потянулась к ней, чтобы погладить, — шмыгнула в сторону и со всех ног понеслась за сарай. Гортанно квокнув, подскочила на стожок и скрылась в своей норе гнездовой.
Полина только руками всплеснула:
— Вот дура баба, вот дура…
Но то, что вчера раздражало и сердило ее, сейчас показалось просто забавным. И она, тихо посмеиваясь, прошла к воротам: в почтовом лотке что-то белело. Письмо, не замеченное ею с вечера, пролежало всю ночь.
В расплывшихся от дождя буквах угадывался ершистый Санин почерк.