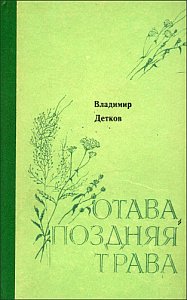
Радиограмма на имя Прохорова Сергея Степановича пришла после шести вечера, когда сеанс радиосвязи с поисковыми группами уже окончился, а следующего жди теперь до утра. Была еще, правда, пятиминутная настройка в двадцать ноль-ноль, или, как ее называли, «на сон грядущий». Но ею пользовались редко — для экстренных сообщений. В основном начальство с запоздалыми или нетерпеливыми «цэу». Можно было, конечно, втиснуть в нее и радиограмму, дело минутное, да только какой же сон будет у человека, получившего такое.
«Буду проездом Узловой двенадцатого четыре двадцать утра вагон седьмой Лена».
Двенадцатое — завтра, а Прохоров сейчас у черта на куличках, то есть от этой Узловой за полтысячи верст и откуда, как поется в переиначенной на местный лад песне, «только вертолетом можно улететь», да и то если он будет. А будет он не раньше понедельника, значит, тринадцатого, и не затем, разумеется, чтобы доставлять какого-то Сергея Степаныча на пятиминутное рандеву с какой-то Леной…
Приблизительно так рассуждал радист Миша Бубнов, для которого Прохоров был конечно же не «каким-то Сергеем Степанычем», а человеком своим в той степени отношений, что могут сложиться у радиста экспедиции с полевым геологом. Он и сам-то не больно городской, такой же волк таежный, только на привязи, и понимает вес каждого слова, залетевшего сюда со стороны дома… А уж когда встреча выпадет, что и говорить. Самую сварливую соседку за сестру родную почтешь. И кто она ему, эта Лена? Жена? Сестра? Невеста? За четыре месяца Миша не припомнит, чтобы Прохоров открытым текстом упоминал это имя. Тем долгожданней, может. Да что за человека гадать, был бы он тут вместо Сереги Крутова, может, что и придумали бы. Хотя что придумаешь на ночь глядя? До станции и отсюда «сто верст с бесом и все лесом…». Серега вон со среды на базе околачивается, теперь до вертолета. Здесь так: и дела-то на пару часов, а вот неделю жди, коль в «нелетку» угодил. Туман с дождем в обнимку который день бродят. Обещали сегодня прояснение, а уж ночь скоро и ни одной звездочки…
Миша старательно, словно от этого Прохорову будет легче, переписал радиограмму на бланк своим «чернобровым» почерком (так окрестил его каллиграфию начальник экспедиции за нажимное выделение горизонтальных черточек над буквами) и пошел разыскивать Крутова, который сумеет вручить ее адресату дня через три, когда она уже потеряет всякий смысл…
«Некрасиво получается», — подытожил Миша свои размышления. И это было у него, пожалуй, крайним определением неприятностей. Крепких, соленых слов он органически не переваривал. Да они и не вязались к нему – утонченному, аккуратному, любящему во всем порядок. Миша умудрялся даже в тайге оставаться если не с иголочки одетым, то опрятным, подтянутым — любо глянуть. И он не делал из этого культа. Выходило само собой, как по радиосхеме. Попробуй там припаяй чего не так, и пустой номер, не жди настройки. Чтобы он когда с грязными руками за рацию сел или писал неотточенным карандашом иль пером царапающим – ни-ни.
Другому бы давно уже зачли все это за мелкое пижонство и чистоплюйство, а Мишу щадили, потому что и в главном, в отношении к делу, которое всех касалось, он был так же чист и аккуратен. Не припомнят случая, чтобы он забыл передать письмо, радиограмму или не выполнил обещанного. В общем, любил, чтоб все красиво было. «Ну, Миша, ты как Миша», — беззлобно сказал однажды дизелист Катухин, известный мастер «образного» выражения, когда радист бурно отреагировал на его очередной словесный загиб.
Но веселей всех Миша шефа проучил. Начальник говорил на повышенных тонах с одним из участков, что-то они там запороли, ну и пустил для убедительности в эфир «такую матушку». А Миша взял да и выключил рацию. Сидит весь красный, взъерошенный, глаз не поднимает. Начальник-то не понял сразу что к чему и знай орет: «Прием! Прием!» А когда сообразил, расхохотался, прощения попросил. «Честное пионерское, говорит, Миша, больше ни маму, ни бабушку вспоминать не буду, включай…» И закончил разнос фразой, ставшей крылатой в экспедиции: «Скажи Мише спасибо, а то б я тебе еще не то пропел».
И с тех пор в ситуациях, когда нельзя было громогласно разрядиться, ребята многозначительно вворачивали: «В общем, скажи Мише спасибо…»
Серегу Крутова Миша нашел в красном уголке, или, как по-местному, в избе-читальне, за шахматами. Противник его, шофер Иван Баракин, навис над полем сражения поповской гривой спутанных светлых волос и, одноглазым взором стратега (второй глаз скрывала марлевая повязка) оценивая обстановку, размышлял, пригоривая:
— Таки-та-а-к, таки-та-а-к! Вы, значит, пешкурой воюете, пешкурой, значит… копытной техникой, так сказать.
Суматошный Иван два дня назад в темноте сильн повредил глаз еловой веткой. Медицина отстранила его от всякой работы, запретив даже читать, и грозила эвакуацией, потому что Иван, дурачась, ходил за фельдщерицей Марьяной и канючил: «Лечи давай, на што тебя учили!»
Миша произнес свое «некрасиво получается, ребята» и протянул Крутову радиограмму. Тот, занятый шахматами, не сразу ухватил смысл написанного, а когда сообразил что к чему, весь встрепенулся и, растерянно глядя то на Мишу, то на Ивана, запричитал:
— Братцы, что же делать?! Это ж Лена… Понимаете, Лена! Да ничего вы, конечно, не понимаете!..
— Жена, что ли? — нетерпеливо спросил Миша.
— Да как тебе сказать… Не расписаны…
— Значит, невеста иш-шо, — гыгыкнул Иван.
— Кончай ты жеребятничать! — в сердцах воскликнул Серега. — Ну любит он ее до бреду… понимаете… А когда расставались, обидел здорово. Теперь вот мучается. Ты ему отстучал?
— Нет, после сеанса передали…
— Да что толку, стучи не стучи, он же без крылышек, — уже серьезно заметил Иван, прижимая ладонью повязку.
— Что верно, то верно. А прилететь бы ему очень надо. Хоть на одно слово… На один взгляд. — Серега с досады саданул кулаком по дощатому столу, смешав шахматное войско.
— А ты что, знаешь ее? — спросил Миша.
— Да не-ет… Степаныч рассказывал. Был случай…
Серега обеспокоенно перебирал взглядом слова радиограммы, точно выверяя их смысл, но ничего нового они не подсказали, кроме неоспоримого — надо что-то срочно предпринять, чтобы помочь Степанычу… И это «что-то» должен придумать он, Серега, поверенный сердечной тайны Прохорова. И он сказал, как решенное, с надеждой глядя на Ивана:
— Ехать надо, братцы, ехать…
Иван поморщился, то ли от его слов, то ли глаз болел, и стал рассуждать вслух:
— Смотаться, конечно, можно бы, пока начальство в отлете… Но слушай сюда. Вкругаля до станции все двести… Да и не пройдешь нынче: низины плывут. Бултыхнешь — и медведи не помогут. В общем, дорожка — мечта баранщика: сколько ни стели матом, суше не будет. Есть еще, правда, путек — через деревню, а там по реке на поселок.
— А по реке как, на камере?
— Зачем, там у меня магарычник один есть из охотников. Харитон. Я ему бензину на мотор подбрасывал. К нему, а он уж сплавит… От поселка до станции верст дваадцать. Там и автобус должен бегать…
— Так ведь четыре-двадцать…
— Это ж по Москве. Прибавь наши три — самый раз. А не хошь на автобусе, хватай такси! — хохотнул Иван.
— А до деревни как? — включился в обсуждение маршрута и Миша.
— Туда-то я мухой на своем «стриже» доброщу. — «Стрижом» Иван звал свой «газик». — Верст сорок — всего ничего, и дорога верхом идет… Мой след еще остался. Недели две как был там.
— С твоим-то глазом? Да Марьяша нас живьем слопает, когда узнает, что ты за баранку сел. И Катыхину нельзя от своих движков отлучаться.
— Серега, а ты ж десантник, мастер на все руки от скуки… Сам же баранку крутишь, — припомнил Иван.
— Да крутить дело не хитрое, было б что…
— Так чего мы сидим треплемся, — подскочил Иван, — об лежачий камень, как говорится, и комар носу не заточит. Айда – пошли.
Иван недавно перечитал, в который уж раз, «Угрюм-реку», свою, по его выражению «кабинную книгу», и теперь переиначивал поговорки подобно шишкинскому мистеру Куку, выдавая словесную стружку типа «назвался груздем — не в свои сани не садись». И, усадив Серегу за руль, пожелал ему «ни пуха, ни топора…».
Серега с удовольствием послал его к черту и газанул так, что машина дернулась, скребанув раскисшую почву колесами, а потом пошла-пошла с легкой пробуксовкой, покачиваясь, как утка, из стороны в сторону.
Может, Серега и не взялся бы за это пропащее дело — одному мотать в ночь через тайгу, когда, если рассудить спокойно, не горячку пороть, а решить все на радиоволнах. Им один черт, что день, что ночь, что Крым, что Нарым. Даже ночью повольней на местной линии. Связался бы Миша с кем надо и отправил на имя начальника или диспетчера Узловой радиограмму для Лены из седьмого вагона. Мол, так и так, товарищ Прохоров находится при исполнении, пасет Макаровых телят, где тому и не снилось гонять их. А посему к назначенному сроку прибыть не может, но шлет приветы, любит целует и все такое. В общем, подробности письмом. Только вот спокойно Серега почему-то и не мог рассуждать. Нетерпеливое желание бежать, катить, плыть, лететь охватило его сразу же, как только он постиг смысл радиограммы. И он бы, пожалуй, не сумел толком объяснить ребятам, да и себе самому, почему его вдруг неистово потянуло в дорогу…
Просто действительно был случай…
…Первый раз тогда Серега выходил с Прохоровым на точку. К вечеру, намотали на сапоги километров тридцать, а не отмерили и половину пути. Шли по азимуту, старались не вилять. Даже лесные завалы, где можно, проходили напрямую. Иные попадались такие древние, обросшие мхами, трухлявые, что руки в стволах утопали. И с непривычки Серега всякий раз ожидал какой-то напасти: змея зашипит иль еще какая иная зверюга выскочит. Но змеи не шипели, а обманчивые, прочные на вид, немощные на поверку сучья истлевших валежин несколько раз подводили его, и он срывался, не больно, но позорно для самого себя ушибаясь, пока не приноровился. Но все равно ему, ростовскому степняку, было в диковину и жалко видеть такое обилие леса, пропадающего зазря… Ручьи и речушки они бродили. Да не всякую с первого захода удавалось одолеть. Тогда помечали на своем берегу ориентир — засеку на приметном стволе либо какой из валунов приглядывали и шли вверх по течению переправу искать.
Одна разгульная попалась — глубокая, с топким берегом. Верст пять на себя взяла, пока не набрели на горловое место. Спихнули еловую лесину на плав — и по ней. Прохоров первый проворно на полусогнутых прошершавил подошвами ствол и там, где он, утопая, должен был окунуться в воду, сноровисто оттолкнулся и перемахнул остаток речушки. Серега, обманутый легкостью его прыжка, поспешил ступить на переправу, когда она еще ходила ходуном на текучей воде; излишне самоуверенно, не сгибаясь и не пружиня в коленях, сделал по ней десяток шагов; запоздало, уже когда еловый комель погрузился в воду, оттолкнулся и был наказан. Нога скользнула, прыжок получился неуклюжим и Серега ухнул по пояс в реку. Если бы еще Прохор не подстраховал, он бы и рюкзак окунул, завалившись на бок.
«А еще десантник, в матчасть твою дивизию», — мысленно окрестил он себя присказкой старшины, выбираясь на берег. Пришлось стягивать одежду, отжимать и вновь напяливать сырое. Привалить было рано, и Серега не принял предложение Степаныча обсушиться. Да тот и не настаивал. По лету, даже такому холодному, в шагу скорее сохнет. А если поторапливаться, то и вовсе мокнуть начнешь. Вон спина и так теплом дышит. Берегом они спустились до своего «осьминога» — огромного, омытого дождями корневища, — взяли азимут и вновь стали продираться сквозь влажные, замшелые, с погребным духом заросли…
Потом долго брели согрой, унылой и бесприютной, как сама усталость, которая за день словно перекладывала во все части тела тяжесть рюкзака, не забывая удваивать-утраивать его вес… И от этого и спину, и плечи, и руки, не говоря уж о ногах, гудевших, точно лэповские провода, Серега начинал ощущать как бы отдельно… При каждом шаге он готов был упасть в зыбучее сплетение трав и корневищ, где чавкала, хлюпала, чмокала, обильно высачиваясь под сапогами, то зеленоватая, то мутно-темная, то ржавая до красноты вода. Случалась и чистая, как после доброго ливня на лугу. И, обманутый ее чистотой и похожестью на ту, из детства, теплынь которой еще помнят ноги с босой поры, Серега тянулся к воде рукой и невольно отдергивал, ощутив ее отчужденную студеность. Июньское солнце тоже не баловало тайгу. Оно покачивалось над темным, с сизой прозеленью лесом, словно собиралось с духом, прежде чем окунуться в его омутовую стылость. Плотные тени от деревьев-кривуляк и редкого кустарника причудливо ложились поперек их пути, и Серега то и дело вздрагивал и непроизвольно старался выше поднимать ноги, словно боялся споткнуться. Только ноги не очень-то слушались, пружинили на зыби…
В дружках Прохорова Серега не ходил, хотя тот и привечал его иногда разговором, тезкой звал, чувствуя любознательность, ненавязчиво открывал хитрость таежного житья-бытья. Вначале, когда лесом шли, Степаныч знакомил его с поисковым ремеслом, вместе прокладывала маршрут по карте, описывали береговые обнажения… Не забывал Прохоров и зеленый мир представлять. Даже грибы показывал: Серега и узнавал-то одни мухоморы и, восхищаясь их броской нарядностью, пытал: «Степаныч, и почему вот вредный, ненужный, а красивый такой?»
Степаныч невесело тогда усмехнулся чему-то своему и ответил по-старшински, поучительно: «Это мы только со своей «кочки зрения» можем так судить: «вредный, поганый…». А в природе ничего лишнего не бывает… все к месту… Да и мухомор, если хочешь знать лосиная аптека… Лоси их за милую душу уплетают…»
А на согре Степаныч словно оглох и онемел. Раза два пытался Серега заговорить с ним, но Степаныч не откликался. То ли усталость сказывалась, то ли он какую нелегкую думу к ней добавил и около часа брел, не оглядываясь и не останавливаясь, не говоря, долго ли еще так чапать. Серега втихомолку ругал эту болотную чваку, комаров, которые давно уже принюхались к хваленой защитной мази и чихать на нее хотели: пикируют один за другим в нос, в глаза, в рот, угрожающе, на высокой ноте зудят, попав в ухо. Молчун Прохоров хоть бы слово сказал, подбодрил, отвлек. Не заводные ж. И снова, в который раз за день, вспомнился старшина. Уж он-то не позволял вешать носа. Даже в учебных рейдах по тылам, когда они, высадившиеся десантом, должны были днем и ночью одолевать сотни километров, таясь от всего живого, чтоб муха не услыхала и сорока не сосчитала, он умудрялся поддерживать высокий моральный дух личного состава песней… Петь учил «про себя», на что Яшка Синев, ротный Теркин, не преминул слукавить: «А про меня-то песни и нет, товарищ старшина. И про Васю есть, и про Мишку, и про Ивана с Марьей… А меня обошли».
Старшина среагировал на шутку: «Однако, Синев, классику знать надо… «Детство» Горького небось проходили, да стороной. Там же черным по белому целые куплеты выписаны. Вот, например:
Быть бы Якову собакою,
Выть бы Якову с утра до ночи…
Оно, конечно, не мобилизует, но все ж песня…».
Оно зa Яшкой не заржавеет. И он вскоре ж «отыграл очко». Другой раз на вопрос старшины: «Что поем, в?» — Яшка не моргнув глазом доложил:. «Мурку, товарищ старшина». — «Отставить!» поспешил наложить запрет старшина. А Яшка как ни в чем не бывало: «Так это ж я про кошку свою сочинил. Душевная такая киска была, с детства вместе росли…».
Вот вспомнил старшину да Яшку — и под ногами вроде не так нудно чавкает. И только потом уж заметил, что кончился кривульный лесок с его зыбучей тропой, согра ушла влево, а они стали луговиной забирать вверх к лесу, побронзовевшему перед закатом.
Прохоров первый снял рюкзак и прислонил его к поваленной старой березе, вернее, к останкам ее могучего ствола, и, не сказав ни слова, прошел дальше, за бойкую поросль осинника. Но Сереге и без слов было ясно, что их дневная тянучка кончилась. Не торопясь, склонившись вперед, он высвободил руки из лямок рюкзака, тот пополз по спине вниз и ухнул наземь, не издав ни единого металлического звука. «Нормально, Крутов», — услышал Серега голос старшины и сам, довольный, улыбнулся, радуясь и этому «нормально» и тому, что сам он себе сейчас и старшина, и командир. И потому, не ожидая указа, расчехлил висевший на поясе у левого бедра плоский топорик и, ухватив за прорезиненный держак, в несколько взмахов тесанул им лежалую березу. Вместо ожидаемой щепы на траву, на сапоги крошисто осыпалась желтоватая труха. Но Серега был рад размяться, заглушить монотонный гуд усталости.
С настроением, намурлыкивая «По Дону гуляет казак молодой…», Серега углубился в лес, чтобы вырубить стояки для палатки. Он только и успел пройти с полсотни неторопливых шагов, как вдруг его настиг протяжный, пронизывающий крик, почти вопль:
— Ле-е-на-а-а!
Серега замер от неожиданности, весь подавшись в сторону, откуда тянулся крик, но ничего больше не услыхал, кроме протяжного «а-а-а», без отклика утонувшего во вселенской немоте тайги. Голоса Прохорова выкрике он не распознал и некоторое время стоял в оцепенении, охваченный жутковатым чувством тревоги. Потом, подстегнутый той же тревогой, поспешил туда, где, по его предположению, должен был находиться Прохоров. Через минуту, выбежав на небольшую опушку, поросшую ромашками, он увидел его. Широко ра кинув руки, лежал Степаныч лицом вниз, словно обо начал место посадки невидимому самолету или желая обнять, удержать подле себя всю эту цветастую поляну угасавшую в неверном свете заката…
И Серега отступил за деревья, только теперь осознавая смысл крика: не его звали, не ему и час этот делить…
Но хоть звали и не его, все происшедшее в эти две-три минуты так остро и глубоко прошло через Серегу, так встряхнуло коротким замыканием не осознанной еще боли, что все заботы-хлопоты об усталости тела и неутоленном голоде, о желанном отдыхе, заполнявшие его недавно и казавшиеся самыми насущными, враз отступили, точно крик пронзительностью своей вспорол оболочку малых забот, освободил душу от их суетного плена и позвал ее протяжным отлетающим «а-а-а» в далекое далеко. И душа, растревоженная и смущенная, потянулась в это неясное, томительное… И он уже сам готов был кричать одно-единственное имя…
Не разбирая дороги, бесцельно брел Серега по лесу. Натолкнулся на подростковую березку, стоящую особняком, и сам остановился перед ней удивленный, словно впервые увидел такую средь таежной тропы. Рукой потянулся к ней, а в руке… топор. Знобко стало от мысли, что полчаса назад, решая проблему стояков, он бы, пожалуй, не раздумывая, секанул ее под самый пенек да еще б погордился, что все так ловко получилось — одним ударом. И, как бы винясь, Серега сунул топорик за пояс и открытой ладонью погладил березку, и она доверчиво отозвалась нежной гладкостью бересты…
Стояки он вырубил из порушенного молодняка, подмятого упавшей старой лиственницей. Но возвращаться к привалу не спешил. Не хотелось смущать Прохорова своим присутствием, да и самому, растревоженному вдруг, надо было побыть одному. И лишь когда сумерки устоялись до темноты и костровым дымком потянуло, Серега пошел на огонек. А тут и Степаныч гукнул призывно. Голос его был спокойный, без тревоги и боли, и Серега радостно откликнулся.
— Я уж думал, ты заблукал по теми, — встретил его Прохоров фразой, устанавливающей сразу их обычный тон. — Давай к огоньку поближе, я уж тут похозяйничал.
Сереге даже неловко стало, когда он окинул взглядом обжитый Степанычем бивак. Пока он, растревоженный криком и тем, что увидел на поляне, переживал за двоих, Степаныч умудрился еще за двоих и поработать. Пламя вошедшего в силу костра уже держало на подрагивающих, длиннопалых ладонях два прикопленных котелка, свисавших с конца жердины. Она, точно колодезный журавль, опиралась тонким плечом на вбитую в землю рогалину, а комлевый ее конец был подведен под простертую лесину. На развернутой плащ-палатке уже теснились вскрытые банки консервов, плошка-солонка, две алюминиевые кружки, наискосок заполненные колеблющейся темнотой, а возле очищенных луковиц лежали сытные ломти хлеба. По обе стороны походной скатерти-самобранки, как бы возвещая о готовности трапезы, зазывно распластались спальные мешки.
Внезапный прилив голода начисто обезволил Серегу, и он, забыв о первой заповеди таежного ночлега: сначала крыша, потом стол, — свалил стояки с плеча наземь и сам, подобно им, ухнул на свой спальник. Тактично смолчал о палатке и Прохоров, присаживаясь напротив с открытой уже энзешной фляжкой в руке. Поочередно, сначала для Сереги, потом для себя, выдерживая приблизительное равенство, набулькал он в кружки спирту и со словами: «Согреемся под холодную, пока горячее подоспеет» — пригласил поднять таежный бокал.
Серега взял не за ручку, а в полную ладонь, ощутив стылость металла, и выжидательно посмотрел на Степаныча. С приветливостью, виноватой и благодарной одновременно, встретил Прохоров его взгляд и, выдохнув из себя короткое «ну, будем», приподнял перед собой кружку и выпил ее содержимое в один глоток. Подождал чего-то, прислушиваясь сам к себе, потом кивнул удовлетворенно и потянулся за луковицей. Серега, подтверждая Степанычево «будем», ответно качнул вверх-вниз кружкой и, помня «инструктивное», что спирт воздух не любит, стараясь не дышать, в несколько коротких глотков вобрал в себя обжигающую жидкость и все-таки нерасчетливо с последним глотком прихлебнул и воздуху. Но Серега стерпел, не закашлялся, не бросился запивать водой, а, как Степаныч, не торопясь сочно захрустел луком, не чувствуя его горечи.
С минуту они молча смиряли голод немудреной консервированной снедью. У Сереги першило в обожженном горле, но все тело уже блаженно отозвалось растекающееся тепло. Кончив жевать, Прохоров уставился на огонь, и Серега почувствовал, что он вот-вот заговорит, и тоже отложил недоеденный кусок хлеба хотя и не утолил еще первый напор голода.
И Степаныч заговорил.
— Напугал я тебя криком своим? — спросил он,— все так же глядя в костер. Серега не откликнулся ни звуком, ни жестом, понимая, что говорить ничего и не требуется… — Правду говорят, у каждого свои заботы и всяк по-своему с ума сходит… Только я, видать, не сегодня, а полгода назад с ума-то и сдвинулся…
Прохоров помолчал, прислушался к костру, подбросил в него несколько сучков, подоткнул к центру недогоревшие головешки и снова заговорил:
— Ну что пересказывать, может, и у самого случалось такое… Было — росло, а потом трах-бах, и все рухнуло, вернее, сам все порушил… А не случалось, так дай бог, чтоб и не было никогда. Хотя по первой молодости все проще: меньше узлов, меньше сомнений всяких… А уж когда поскитаешься, наглядишься-наслышишься да сам себя не раз удивишь, тогда, конечно, семью семь раз отмеришь, да так и не отрежешь…
Этой зимой вот приехал я к Лене, думал уж, насовсем. Решать надо было, под каким небом крышу общую выбирать. До этого мы, как познакомились в дороге,— с юга, из отпуска в одном вагоне ехали, — так и не могли от этой дороги отделаться несколько лет… То я в Вологду, то Лена ко мне в Подмосковье, то вместе куда «на каникулы». Общими у нас только зимние получались. Она учитель, летом вольная птица. А наше дело сам знаешь какое. Вот и летали. Я у брата зимы свои перебывал, а она с мамой в однокомнатной жила. Мать смотрела, смотрела на нас да и собралась к сыну в Тюмень. Мешаю, говорит, я вам гнездо свое вить, вы уж сами разбирайтесь. Да разве ж она мешала, если я сам, обжегшись однажды, топтался на месте. Ни к ней, ни от нее… Одолела боязнь повторения. С первой-то женой мы и года не прожили. Уж на что, казалось, знали друг друга. С детства рядом жили, в одной школе учились, встречались чуть ли не каждый день. Дружили тихо-мирно, без ссор особых. А когда в четырех хенах вместе оказались — откуда что взялось… И то не так, и это неладно. Словно все досвадебное время мы копили друг для друга самое худое, чтобы потом путем «законным» предъявить. До сих пор не пойму, отчего и почему. Одним модным словечком — несовместимость — объяснить все, пожалуй, стыдно: неужто ж мы такие беспомощные сами, что за нас биология да психология думают и решают?.. Да и не знал я тогда этого словечка. На себя, конечно, больше вину валил. Даже когда она в интимную минуту чудовищную фразу мне бросила: «Не любишь ты меня, потому у тебя не очень-то и получается», я и впрямь согласился с ней, что не люблю… или же вообще не способен к этому делу… Тут и оборвалось все. А насчет того самого… Как раз без любви-то потом и получалось. Да какая ж в том радость, разве что сиюминутная…
С Леной все по-другому было. И радовался безмерно, и пугался радости своей. И когда собирался к ней, последний раз, и когда ехал, не известив телеграммой, и особенно когда поздним вечером к дому подходил. Ввалился с чемоданом, в снегу весь, а она как вскрикнет: «Сережка!» На шее повисла, смеется и плачет, целует, тормошит. И все сомнения мои, мол, ждет — не ждет, сразу как ветром сдуло. Да-а… Какой это вечер был… И сравнить не с чем. «Все, наскитался, — говорит Лена, — больше я тебя никуда не отпущу…» А я слушаю и соглашаюсь со всем. Хорошо мне. Даже боязно стало, что так хорошо. Утром проснулся в испуге: неужто все это сон? Тревожно-тревожно стало. Лежу — глаз боюсь открыть. Вдруг слышу легкие ее шаги. Приближаются. Сердце заухало. Приоткрыл чуть глаза и увидел ее сквозь ресницы. Идет ко мне в ромашковом халатике по солнечной дорожке и улыбается всем лицом — догадалась, что не сплю уже… Остановилась в двух шагах, а ромашки на груди словно живые под ветром-солнцем покачиваются… И утро с вечером соединилось…
Прохоров умолк и долго смотрел на огонь прищуренным взглядом, словно заглядывал в то далекое утро, и заросшее лицо его светлело не только от костра… Сереге даже показалось, что он улыбается…
— Да-а, ромашки, — вздохнул наконец Прохоров раздумчивости и, отрешаясь от прошлого, потянулся ложкой к котелку, в котором бойко клокотало варево дразня сытным духом горохового концентрата. Прохоров помешал в котелке ложкой, зачерпнул похлебки поднес ложку к губам и подул. И Серега поймал себя на том, что пристально следит за каждым движением Степаныча, и когда тот схлебнул с ложки, пожевал причмокивая, Серега невольно сглотнул слюну. Степаныч, видно заметив его нетерпение, улыбнулся одним прищуром глаз и кивнул головой:
— Готово, пожалуй. Как выражаются артельщики, коль в котле наговорилось, то в брюхе бурчать не станет,— и потянулся уже за котелком. Утопив руку в рукаве куртки, чтоб не обжечься, Степаныч подхватил, бурлящий котелок за дужку, снял его с шестины и поставил наземь. Утробно клокотнув последний раз, кулеш зашелся клубистым паром, и несколько мгновений лицо Степаныча мерцало в нем — то пропадало, расплываясь, то вновь высвечивалось костром. И вновь Сереге виделись на его лице то улыбка, то суровая скованность скул, и он терялся в догадках, что творится сейчас на душе у Прохорова и как ему, Сереге, себя вести, каким словом помочь измаявшемуся думами человеку, но не находил в себе такого слова и молчал, не перебивая и не торопя вопросами. И Степаныч, которому требовалось выговориться, ценил это молчаливое участие. Но выплескивать наболевшее не спешил.
Добавив в котелок свиной тушенки, он стал размешивать кулеш, дохнувший сразу таким густым мясным ароматом, что Серега вновь почувствовал лютый прилив голода, словно и не брал еще ничего в рот.
— Ну, под горячее сам бог велел, — сказал Степаныч и выпил, не церемонясь, даже как-то поспешно, с энергичным запрокидом головы. Серега тоже не заставил себя ждать. Несколько минут молча насыщались кулешом, потом захлебывали чаем, который Степаныч, не скупясь на заварку, приготовил в тех же кружках. И в нарочитой неторопливости, с которой они это делали, стараясь не смотреть друг на друга, проглядывало сдерживаемое нетерпение одного — выговориться, другого — дослушать и то редкостное взаиморасположение, какое бывает у мужчин в минуты исповедальные…
Чтобы не порушить, не спугнуть эту святую минуту, отвлечь на себя внимание Прохорова, Серега весь притих и даже не стал больше хрустеть луковицей и чай пил, обжигая губы, беззвучно… И Прохорову не надо было вновь делать какие-либо вступления к своему рассказу.
— День был невоскресный, и Лена засобиралась на работу. Пойду, говорит, отпрошусь, и устроим мы пир горой. И чтоб ни единой души больше — только мы с тобой… Говорит, а сама в глаза заглядывает… То ли извиняется, то ли во мне сомнение какое высматривает… Не хотелось отпускать. Можно было, конечно, и по телефону на работу позвонить, что, мол, заболела или еще как… Да и правду начальству сказать не грех — поняли бы… Но удерживать не стал. Раз она так решила, ей видней. Только через минуту пожалел, что не пошел ее проводить. Не сиделось в четырех стенах. Почему-то казалось, что, стоит выйти из дому, и сразу встречу ее. Но сразу не встретил. По городу побродил. Шампанского да коньяка взял, чтоб «огни Москвы» зажечь на нашем празднике, и возвращаюсь… Мне бы минутой раньше или позже вернуться, но куда там — в самый момент угодил… С полсотни шагов не дошел до ее дома, вижу, голубой «Москвичонок» притормозил. Из него моя Лена выпорхнула, а следом, с места водителя, щеголь весь расфранченный, в пестрых одеждах… Обежал машину — и к Лене. Что-то говорит и за локоть ее придерживает… А она отстраняется, головой из стороны в сторону поводит, не соглашается с чем-то…
Я как остановился, так и одеревенел. Уже и Лена в подъезде скрылась и щеголь укатил, а я все стою посреди тротуара с двумя бутылками в руках и чувствую, как из меня потихоньку уходит все живое и радостное… Сам себя успокаиваю, мол, что тут такого — подвез знакомый, ко мне ж спешила и не соглашалась вон ни с чем, отстранялась. А по душе, чую, какая-то химия болотная растекается — не принимает она этих доводов успокоительных. Надо бы к Лене идти да шутя спросить о хахале с лимузином, в глаза заглянуть и растворить все наносное в радости нашей. Но шага к дому ее ступить не могу. Наоборот, пячусь от него, как рак… Куда? Зачем? Сами ноги принесли меня на вокзал. ум и сердца хватило лишь на то, чтобы позвонить по телефону и сказать жестокие слова: «Не жди меня». Сам услышал лишь далекое тревожное «Сережа…» и повесил трубку. Сколько раз потом в тишине… среди толпы… во сне окликал меня ее голос… Все тревожнее и призывнее, казня меня и прощая… Только сам я себя простить не мог… И предателем, и трусом себя клеймил, но толком так и не понял, что со мной тогда произошло, чего я испугался… Запомнилось лишь состояние — пусто-пусто внутри… Ничему, никому не рад, а уж себе тем более… Вот уж точно — бежал куда глаза глядят. Без билета сел на отходящий поезд. Кондукторша меня за отлучившегося пассажира приняла, без багажа-то, а когда потом разобралась, махнула рукой. Да и шустряк один разговорчивый подвернулся, намолол ей с три короба и уволок меня в свое купе. К моим питейностям еще бутылку спирта выставил. Тут мы с ним и «огни Москвы» зажгли, и «северное сияние» включили. В общем, мужской разовор состоялся во всей красе. Я ему сдуру разрядился о своей беде.
А он подхватил. Мол, ясное дело, это у них, женщин, значит, не заржавеет. Тебе говорит «люблю вас», а у самой с десяток про запас. И пошел, пошел разукрашивать случаями из жизни… Оказался он из «москвичей вологодских», работает в автотрансе на дальних рейсах. Насмотрелся-наслушался, говорит, и сам натворил. Что называется, доказательство абсолютным множеством: тут и безотказные попутчицы, и адреса ночлежные с приветом от Васи-Коли, и были-небылицы о женах и подругах товарищей, таких же, как он, «моряков сухопутных»… Кто с какой, какая с кем, пока муж в рейсе. А про которую нечего было сказать, так он сам, по знакомству, ее обхаживал.
Одним словом, столько мне лапши на уши навешал, что я сам себе противен стал. Мне бы заехать ему по физиономии безо всяких предисловий, чтобы и он мне тем же ответил. Оба мы тогда хорошего кулака заслуживали. Но я сижу себе, слушаю, упиваюсь ядом чужим. Он, кстати, и про свою благоверную согласно теории «все они…» высказался бодренько, без тени смущения. Мол, пока она в его отлучку с одним успеет, он ей за рейс десятком ответит… Слушать такое даже во хмелю гадко. Но я, помню, оправдывал все это «долей истины» и ополчился на того щеголя, что Лену подвозил. Мухомором его обозвал, больно уж он мне ярким да поганым привиделся. А спрашивается, к чему? Я ведь даже лица его не разглядел. Одну куртку пеструю и запомнил. И тоже туда в обвинители. Ну и дуракуем же мы иной раз под горячую руку. При чем тут он, при чем она, если сам же себя и наказал по число по первое. Весь отпуск волком среди людей прорыскал, а потом спрятался в тайге… Да разве ж от себя спрячешься?!
Вот и сегодня пришла она ко мне по солнечной дорожке…
К хутору Серега подъехал по первым сумеркам, уже отчаявшись когда-либо повстречать его на этой пунктирной, то обозначенной Ивановым следом, то сходящей на нет дороге. К тому же Баракин явно преувеличивал возможности своего «стрижа», уверяя, будто сорок верст он «мухой» пролетит. Речь здесь могла идти скорее о мухе ползущей. И вовсе не по вине машины.
Дорога, хоть и петляла по водоразделу, однако местами требовала едва ли не плавучих качеств, «газик» ими, надо понимать, с рождения не обладал. И пришлось Сереге своим горбом приводить эти противоречия к общему знаменателю. Видно, не к тому черту послал он Ивана при отъезде, коль очень скоро сбылось его пожелание о топоре. Топором пришлось помахать вдосталь, вырубая ветки и жердины, чтоб гатить топкую колею. Дело это в общем привычное для таежника. А после двухдневного физического безделья так и в охотку было: буксовать, рубить, гатить… С первых метров пути, вернее, с той минуты, когда была зачитана радиограмма и Серега понял, что надо ехать, его охватило ознобистое волнение футболиста, отыгрывающего решающий мяч на последних минутах матча. Все подчинено единому стремлению — только вперед, без роздыху и раздумий.
Неизвестность пути и время подхлестывали его в два кнута, и он как заводной лихорадочно переключал скорости, крутил баранку, газовал, пока машина могла двигаться. И выскакивал из кабины и орудовал топором и лопатой, укрепляя «твердь» земную; если «газик», исступленно меся грязь всеми колесами, зависал на месте.
В этой дорожной круговерти Серега уже как бы сросся с машиной, физически ощущая себя ее частью или же ее продолжением, своих рук и ног. Называл ее как Иван, «стрижом» или «стрижонком», обращаясь то к мотору, то к колесам… Просил, умолял поднатужиться в трудную минуту, сам весь напрягаясь; подбадривал похваливал после каждого взятого препятствия либо просто беседовал, когда все шло нормально. И «газик» не оставался безответным: натруженно ревел, взвывал жалостно, урчал успокоительно… И, точно заражаясь Серегиной одержимостью, упрямо одолевал метр за метром зыбучие места и уверенно катил по условно твердому грунту.
И только на последней буксовке, в километре-двух от деревни, мотор вдруг заглох. Да не то чтоб захлебнулся под нагрузкой, а умирающе затих на холостых оборотах. Сгоряча Серега с минуту подвывал стартером, но мотор не отозвался ни единым чихом. В наступившей тишине слышны были шлепки грязи, опадающей с кузова, будто кто топтался вокруг машины, да густо несло маслом от разгоряченного двигателя.
Впервые за весь путь Серега вдруг растерялся, потому как не был уверен, что сумеет сам устранить неисправность. Мотор он знал постольку-поскольку, больше вождением увлекался и теперь, оставшись один на один с безмолвным «газиком», вслед за растерянностью испытал прилив стыда и бессилия. «Что, товарищ ас, тяжко без бортмеханика? Тут уж ни топором, ни лопатой делу не поможешь», — мысленно шпыгнул он сам себя и вспомнил сразу, что говорил по поводу таких глупых ситуаций отец родной всея роты — старшина. А он изрекал мудрость психологическую: «Не знаешь, что делать, лучше ничего не делай, только не суетись». Руками хвататься за рычаги и штоки Серега и сам перестал. Но внутренне еще суматошил в поисках хоть какой-нибудь зацепки…
Перегрелся двигатель? Но датчик температурный говорит — ниже ста. И пар вроде не валит из-под капота.
Аккумулятор? Так стартер еще бегает и стрелка электроприбора живая… Искра? Во-во! «Пойщи-ка искру в баллоне, салага», — пришла на ум заезженная шоферская подковырка, и Серега вылез из кабины. Воздух приятно окутал прохладной сыростью, а запах хвои огнал дух машинный, да не развеял заботу.
Серега не спеша обошел вокруг машины, попинал сапогом скользкие скаты. Вид у «газика» был самый затрапезный. Грязь, вылетавшая из-под колес, попадала, что называется, и в хвост и в гриву. Особенно жалким и потерянным был «газик» «с лица». В заляпанных грязью фарах, точно в темных очках, он походил на слепого, брошенного без поводыря. И Серега первым дедом протер фары. «Газик» глянул на него по-собачьи ясным безвинным взглядом, мол, все от тебя, друг, зависит.
Вскрыв капот, Серега отсоединил провод от распределительной катушки и поднес оголенный конец его к блоку — хищно затрещала искра. Значит, с ней все в порядке. А вот бензоотстойник пуст. Подкачал помпой — сухое сипение. Ясное, дело, бензина нет. Обрадовался отгадке и тут же устыдился еще пуще, вдруг поняв, что не знает, как переключаться на запасной бак…
Была, правда, канистра с бензином, только она предназначалась охотнику в качестве премиальных за амортизацию моторки. «Покажешь, Харитон сговорчивей будет. У них с этим делом негусто», — наставлял Иван. И сливать этот бензин сейчас в опустевший бак означало бы уподобляться барону Мюнхаузену, который, спускаясь с Луны, восполнял нехватку веревки тем, что вырубал ее в верхней части и подвязывал к нижней… Но известно, что барон был единственным удачником в своем роде. Сереге же не оставалось ничего делать, как начать поиски. Исследуя сантиметр за сантиметром пол кабины, он натолкнулся наконец на металлический флажок справа от сиденья водителя. Стоило повернуть его на пол-оборота — и ларчик просто открылся…
Вернув голос мотору, на радостях Серега и сам запел во всю глотку:
Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход…
И, как бы уступая напору его решимости, вскоре из-за елового бора появилась долгожданная деревня.
Баракин оказался прав — первое, что увидел Серега на въезде, был темный забор и приземистая, такая же темная тесовая крыша, переходящая в навес. На
коньке крыши задиристо торчал грубо рубленный деревянный петух. Это и был дом Иванова магарычника. С него начиналась деревушка.
Серега остановил машину в нескольких метрах от строений. Свет фар, еще вялый в незагустевших сумерках, лишь пожелтил стену избы, как это делает луч солнца, случайно прорвавшийся среди ненастья. Но от света изба нисколько не повеселела. Высокий фундамент и наглухо затворенные ставнями окна делали ее похожей на спящего бульдога, которого ненароком потревожили. Впечатление усилил многоголосый собачий лай, пробившийся даже сквозь гул мотора. Серега заглушил мотор — лай усилился. С полдюжины раздраженных глоток изливали свою ярость сквозь глухие ворота, и Серега вдруг поймал себя на мысли, что не спешит покидать кабину. Неуютное ощущение себя в роли нежданного, а то и непрошеного гостя заставило по-новому взглянуть на совершаемую им миссию: беспокоить незнакомых людей, звать их в дорогу на ночь глядя, добро бы еще вопрос жизни и смерти, а то… Еще неизвестно, как вообще встретят…
За забором лай своры расстроился, послышался строгий окрик, визгливо заскулила одна из собак. К нему шли, и ничего не оставалось делать, как идти навстречу и объяснять свое появление. В конце концов, не ради себя он старается. А насчет жизни и смерти — это еще как сказать.
В узкий раствор калитки боком протиснулся приземистый кряжистый бородатый мужчина в дождевике, наброшенном прямо на белую нательную рубаху, с непокрытой головой.
— Здравствуйте. Вы будете Харитон Семенович? — поспешил заговорить Серега.
— Он самый.
— Як вам от Ивана Баракина, знаете такого?
— Знаем, знаем… А я-то смотрю, машина навроде его. Что ж такое с ним стряслося?
— Да глаз веткой повредил. Лечится. А вам он привет передавал и просил в одном деле посодействовать.
— За привет, значит, спасибо и ему кланяйся. Давненько Ваня не наведывался, давненько… А что ж за дело такое? — Раскосые глаза Харитона Семеновича прищурились, улыбка пристыла к губам, почти скрытым в пегой бороде.
И Сереге не ко времени вспомнился рассказ Ивана его последнем посещении деревни. Благодарственный хлеб-соль за горючку Харитон Семенович выставил, отменным первачом угощал, а в дорогу, для дружков-товарищей, какой-то тухлой самогонки подсунул. Ребята потом пили и плевались. А Иван оправдывал магарычника своего: мол, в темном чулане, должно быть, де ту четвертушку ухватил. Но Серега, глядя на хитроватое лицо, подумал, что вряд ли он тогда ошибся в темном чулане. И уже без особой надежды на успех протянул радиограмму и начал пространно и сбивчиво разъяснять, что к чему.
Харитон терпеливо слушал, поглядывал то в листок, то на Серегу, понимающе кивая головой и приговаривая: «Да-да… это можно, это можно… конешно, конешно…» При каждом кивке мелькала плешина макушки. В следующую минуту пришлось ему убедиться в неискренности сочувственного облика и понятливости Харитона Семеновича. Дослушав до конца и откивав, тот вдруг весело заговорил:
— Иванова ухажерка, значит, приезжат, а ты встречать ее? Дела, дела-а… Что ж это он козлу капусту доверил? — и неожидано гыгыкнул и заговорщицки подмигнул левым глазом, правый же его глаз оставался жутковато неподвижным, смотрел в упор и не смеялся.
Серега с недоумением слушал Харитона. Либо этот дядя и вправду не все буквы знает и глух на оба уха, либо…
Харитон меж тем, довольный произведенным впечатлением, оживленно продолжал игру в испорченный телефон:
— Ну да не робей, не робей. Дело молодое… Хватай, пока жива хваталка. Я, бывало, без осечки, дай токо на мушку словить… Иван знает… Да что стоим-то, в избу пошли. За столом с медовухой разговор ладней править… Нынче поговорим, отночуем, а поутру мотор поглядеть надо, захлебывает больно. Я уж к Мите Богомазу наладился было, он спец у нас по железкам. Ну коль ты тут случился, с тобой и поглядим. А там и в поселок сплавимся. Мне самому туда завтра надо…
Последняя фраза, кажется, прояснила Сереге ситуацию: ему под видом непонимания и радушного гостеприимства хитромудро отказывали. Он с трудом оторвал взгляд от неподвижного глаза Харитона и уже без робости, внутренне рассердясь, не стал вдаваться в объяснения, а сухо перебил:
— Ехать надо сегодня, завтра будет поздно.
— Ах да, ах да, завтра двенадцатое. Вот незадача. Как же я запамятовал? Илья ж токо гремел. Нынче ж баня… Тогда конешно…
Харитон Семеныч все больше утопал в каких-то бессвязных, непонятных фразах, и Серега снова перебил его:
— Может, подскажете, у кого мотор не захлебывается? — и с надеждой поглядел в глубь деревни.
— А и подскажу, конешно, подскажу, — еще больше оживился Харитон Семеныч и тоже глянул вдоль улицы. — Мотор-то, знамо дело, у каждого есть, да вернее всего у Мити Богомаза будет. У того целых два: свой да казенный. Он к реке приставлен, воду зачем-тось меряет… Для науки, говорит… А что ее мерить — бежит себе и бежит. Да и то сказать, какое дело ему тут ишо найдешь. Охотник с него никакой, не то что отец, царствие ему небесное. Первый белкач был. Да в запрошлую зиму бог за одну ночь прибрал всех под корень. Угорели. Митя, в городе был. Приехал, а в избе пять гробов: дед с бабкой, мать с отцом и братец меньшой, Акимка. Схоронил возле дома да так с ними и остался. Должно, после того и… В общем, глянешь на избу, сам докумекаешь, что к чему…
Харитон Семеныч вдруг смолк, посуровел лицом, задумался. Серега, пораженный известием, тоже молчал. Раздражение на хитрость Харитона прошло, зато свои сомнения вернулись: стоит ли еще страдальца Митю вот беспокоить? Но все же спросил:
— Как найти его?
— Митю-то? Да просто. Прямо езжай. От воды крайняя изба, ее ни с какой другой не спутаешь, — опять загадочно повторил. И, поколебавшись, словно что-то еще хотел сказать, вернул радиограмму.
Серега не стал больше ждать, что еще скажет Харитон Семеныч, сел в «газик» и, громко рыкнув мотором, въехал в деревню. Последний раз мелькнула кивающая голова Харитона Семеныча, и с новой яростью выплеснулся лай своры.
Миновав несколько дворов, вольно стоявших по обе стороны то ли улицы, то ли широкой лесной просеки, машина вынесла Серегу на взгорок, и он невольно притормозил перед распахнувшимся простором, весь подавшись вперед.
Глаза, до ломоты уставшие видеть перед собой рыхлые разорванные стены леса и низкий потолок неба, жадно потянулись взглядом за уходящей вдаль и пропадающей в первой сумеречной мгле тайгой. Она была темнее неба. Серега взглядом вернулся к самому основанию взгорья, на котором располагалась деревня, и вздрогнул, ослепленный, зажмурился, будто обжегся взглядом. Открыл глаза — видение продолжалось: слева внизу, куда сворачивала дорога, на полпути к реке, посреди хмари, сумрака, серости горело красками, дышало светом уединенное подворье…
Такое действительно трудно с чем-либо спутать. Да и глазам своим не сразу поверишь. И, уже не отрывая взгляда от Митиного двора, Серега отпустил машину с тормозов, и она медленно, без помощи двигателя, а лишь под его тихое утробное урчание стала скатываться под уклон. По мере сближения охристое свечение двора становилось ярче. Голубые края крыш избы и сарая с огнистыми высветами и темными сгустками краски постепенно светлели, в них просачивались розовые закатные полосы. Крыши жили памятью о солнечном небе… И все подворье источало неистовую солнечность — и забор-река, и поляны стен, и огромное кострище одного из строений, горючим шалашом охватившее ствол могучей темной ели…
Дорога шла наискось по склону, и дом как бы разворачивался перед взором Сереги.
Сейчас бы вместо урчания мотора музыку, светлую, раздольную, — голоса арф и скрипок… Душа Сереги напряглась в ожидании их и не утерпела — распахнулась, выдохнула, выплеснула ликование строками из детства:
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят…
Но все ликование вмиг угасло, когда из-за избы один за другим вышли навстречу Сереге пять ряженых крестов, по-человечьи распахнув перекрестья-руки, и несколько тягучих мгновений ему казалось, что он катит в их объятия. Серега онемело сцепил пальцы на руле и рассказ Харитона Семеныча с новой силой уколол его трагедией Митиного дома, а все увиденное повергло душу в смятение.
Как объяснить, как совместить этот безумный выплеск ярких радостных красок с бедой… Дорога уклонилась вправо, и кресты как по команде стали поворачиваться в профиль, и стволы их, облитые разноцветьем красок, как бы закручивались в витые свечи. И они горели несгораемым огнем памяти и, тем как-то успокоив и примирив Серегу, снова скрылись за избой…
Вплотную к воротам Серега не стал подъезжать, остановил «газик» поодаль, потому как все придворье у дома, словно лужайка, было густо затянуто травкой-муравкой и не было видно ни машинного, ни тележного следа, лишь от калитки приметно, не обнажаясь до земли, тянулась легкая тропка. Робея, шел по ней Серега. Но это была уже другая робость. Робость восхищенного человека, проникнутого сочувствием. И, не будь у него сейчас повода, Серега, пожалуй, все равно бы зашел в этот дом, и не ради одного любопытства… Волнение, охватившее его, само по себе снимало всякие условности, вытекающие из незнакомства. Так бывает, в кино или в полюбившейся книге, озарит тебя чья-то судьба, и ты ощущаешь родным человека, и кажется, встреть его на улице, просто подойдешь и скажешь: «Здравствуй!» И хорошо-хорошо станет на душе. И Серега представлял, как встретит его Митя печальным взглядом, как выслушает его просьбу и задумается… А потом скажет-выдохнет: «Раз надо — значит, надо», и они отправятся в ночной путь по реке. И это даже здорово: чем суровее и опаснее дорога, тем ближе и откровеннее спутники. Эта ночь может быть похожей на ту исповедальную у костра с Прохоровым. Серега сам выскажет Мите все-все, чем полнится душа, и не сомневается ничуть, что встретит ответное сочувствие. Потому что человек, умеющий так радоваться краскам, не может не принимать близко и открыто боль, сомнения и радости другого человека.
Серега невольно засмотрелся на фасад избы. При мимолетном взгляде могло показаться, что здесь вволю порезвилась детсадовская компания, изливая в пестрых красках и неверных линиях всю свою необузданную фантазию, счастливо не ведающую пут привычного, нормального, заученного. Светло-коричневые, остролепестковые ромашки сплетались с лиловыми асимметричными маками и оранжевыми колокольчиками; зеленые то ли ветви, то ли руки охватили снизу длинными стрельчатыми пальцами наличники окон и тянулись вверх, удерживая на себе всяких виданных и невиданных птиц и зверушек. Но, всматриваясь, Серега смутно улавливал, скорее ощущая, нежели понимая, необъяснимое единство, осмысленность всей этой пестроты красок и причудливости линий, костровым пламенем устремившихся вверх под створ кровли. И, ощутив это, различил под самым коньком крыши бледно-голубой лик старца, но не с иконописной утонченностью, а с крупными человеческими чертами…
Дивясь открытию, Серега засмотрелся и не сразу заметил, что за ним уже наблюдают. У раскрытой калитки стоял парень в грубом сером свитере и темных вельветовых брюках, заправленных в черные резиновые сапоги, а рядом, у ног его, сидел коричневый лопоухий пес. Должно быть повинуясь уличному инстинкту самосохранения, Серега сначала задержал внимание на собаке. Желто-карие глаза источали спокойный, больше любопытствующий, чем настороженный, взгляд. Вся ее поза говорила о миролюбии и достоинстве.
— Не опасайтесь Каштана, он у нас умница, зря голоса не подаст, не то что кусаться, — сказал парень, приветливо улыбаясь, и шагнул навстречу Сереге.
Пожимая широкую, с легкой мозольной шершавостью ладонь, Серега с интересом вглядывался в лицо парня, сразу же показавшееся чем-то знакомым и в то же время полностью разрушившее представления о Мите, которые успели сложиться за эти несколько минут, насыщенных столь яркими впечатлениями. Вместо образа печального, с тонкими чертами страдальца земного парень, которому по всему положено Митей быть, представлял собой жизнерадостное добродушие. Природа явно не поскупилась на материал, выкраивая его. Черты лица в оценке требовали степеней превосходных: лобастый, носастый, губастый, бровастый, скуластый. Все грубо, зримо, но соразмерно и потому без тени уродства, с подкупающей простотой и открытостью.
И все же не внешность, а сквозящая радость смущения, до виноватости, которой полнились в нем голос, и улыбка, и взгляд, приводила Серегу в замешательство, и он невольно спросил:
— Вы Митя Богомаз будете?
Смущение парня усилилось, и от этого он улыбнулся еще шире, выказывая крупные ровные зубы.
— Митя буду я… Только Сосновы мы. Сосновы среди елок, — шутливо кивнул он в сторону леса. — А Богомаз — это прозвище. Деда еще окрестили им. Он иконки расписывал на досуге, вот и наградили…
Настала Серегина очередь окунуться в смущение и он мысленно ругнул Харитона Семеныча за невольный подвох. Словно подслушав его, Митя добродушно пришел на выручку:
— Это вас Харитон так информировал по привычке? Слышно было, как возле его двора остановились. Собачки вон до сих пор уняться не могут. У нас тут по звуку можно все понять — чей петух кричит, чья кошка мяукает. А уж машина — гость редкий. Но два раза до этого вы уже были?
— Да нет, это другой…
— А я-то уж думал, не завелся ли у Харитона родственник какой среди геологов. Раз подъехал — застрял у него, другой — тоже… А сегодня, слышу, прорвался сквозь Семенычеву заставу. С него ж у нас деревня начинается… Мы вроде как портовые, у реки, а он сухопутный край держит. Но себя началом считает, а нас краем… Даже, помню, с отцом под веселую минуту до хрипоты спорили, с какого двора, деревня начинается. Отец подзадоривает, а Харитон на полном серьезе горячится. И смех и грех. Не любит первенства уступать ни в чем. Он последний признал отца лучшшч охотником. И то уж на поминках. Разрыдался, как женщина, каялся, что завидовал, и признал. Сильно горевал. Все тогда горевали…
Митя замолчал. И лицо его, миг назад сиявшее приветливой радостью, вдруг стало растерянным и беззащитным, как у близорукого, потерявшего очки. А там, где только что светилась улыбка, залегли тени. И весь Митя стал похож на большого обиженного ребенка, который вот-вот расплачется.
Возникшую паузу нарушил пес. Тревожно проскулив, он ткнулся мордой в Митины колени.
— А? — встрепенулся Митя. — Не буду, не буду,— сказал он собаке и потрепал ее между ушей. — Не любит, когда я горюнюсь, — сказал уже Сереге и, невеселой улыбкой сгоняя тени с лица, спросил: — Харитон Семеныч о нашей беде вам поведал? Серега молча кивнул. – А о наших радостях, видно, смолчал? Серега ответил вопросительным взглядом. — Ах ты, Семеныч, Семеныч… Ах ты, батько крестный… — Лицо Мити вновь оживилось. — Пойдемте,
пойдемте.
И, приобняв левой рукой Серегу за плечи, он ввел его во двор, такой же зеленотравный, как и придворье, но с мощенными речником дорожками, тянувшимися к крыльцу и другим хозяйственным строениям.
Ноги с непривычки осторожно ступали по булыжной тверди. Проходя мимо трехоконной стены, дышащей притомленным жаром красок, Серега искоса скользил по ней взглядом и уже сам выявил в голубых пятнах под крышей один за другим два мужских и два женских лика. Причем все мужские, как и первый старческий на фасаде, несомненно несли выразительные Митины черты, этим все сразу проясняя.
Перед скоблеными ступеньками крыльца Серега застопорился, озадаченно глядя на свои заляпанные грязью сапожищи. Потер их о прутяной коврик, потом о рогожицу. Но Митя, приметив его замешательство, подтолкнул под локоть с веселой присказкой:
— Снег не беда, грязь не беда, а плох гость без следа…
Так бок о бок миновали они просторные сенцы, пахнувшие сушеными травами и свежевыстиранным бельем. Митя распахнул дверь в избу и весело крикнул с порога:
— Хозяюшка, встречай гостя дорогого…
Цветастые занавески на входе в горницу распахнулись, и, сопровождаемая детским басистым плачем, в прихожую вышла невысокая женщина, держа на руках спеленутого мальца, который громко выражал свое недовольство, невзирая на торжественный момент встречи гостя, когда, как известно, в доме прекращаются самые горячие внутренние распри и все лица освещаются миролюбивыми приветливыми улыбками. Но полугодовалый малец еще не ведал о таких маленьких хитростях взрослых и требовал что-то свое.
Серега, шагнув через порог, остановился у двери не в силах ступить на чистые половицы, поджелтенные светом керосиновой лампы с пузатым стеклом.
Митя прошел к хозяюшке, обнял ее за плечи и так всей семьей, приблизился к гостю.
— Знакомьтесь — Любушка и Акимка, — сказал он весь сияя. — И Любушка, и любовь, и счастье — все тут в полном наборе, — добавил нежно и не удержался прикоснулся губами к ее виску и заключил в объятия сразу обоих — и мать и сына.
Серега, не привыкший к такому открытому излиянию чувств, лишь смущенно улыбался, глядя на них не зная, как реагировать, что говорить. А из-за руки Мити, из-за кокона орущего Акимки счастливо и виновато смотрели на него большие глаза Любы, как бы извиняясь за всех сразу: и за Митину несдержанность, и за неурочную крикливость сына, и за себя, хозяйку, застигнутую врасплох.
Митя же, вобрав в свои широкие ладони кукольный сверток сына, приподнял его над головой, провозглашая:
— Шуми, шуми, Соснов бор!
То ли от измененного положения, то ли почувствовав мужские руки, Акимка разом замолчал и округлил глаза. Сверху на Серегу глянули две облитые дождем черничины и подтвердили, что Соснову бору еще шуметь на земле.
Люба, оторвав пугливо-влюбленный взгляд от сына, вновь обратила его на гостя и протянула руку. «Здравствуйте, Люба», — еще раз назвалась она, подчиняясь ритуалу знакомства.
А Серега, споткнувшись о бравадную форму своего имени, впервые за таежную эпопею представился просто Сергеем и машинально добавил: «Очень приятно». Но и этот дежурный пункт вежливости для самого Сереги прозвучал откровением. Ему действительно было чертовски приятно находиться среди них, видеть безудержную Митину радость, изливаемую на сына, ловить счастливый взгляд Любы, ощущать забытую теплоту женской руки в своей огрубевшей. И неловкость смущения, скованность как-то сами собой растворились. И когда Люба на правах хозяйки, метнувшись к столу, прибрала с него миску и привычным движением руки, которую Серега еще ощущал в своей ладони, смахнула голубой клеенки невидимые крошки и пригласила гостя сесть на широкий табурет, крытый разноцветной кружевной накидкой, он, уже не церемонясь, последовал приглашению, невольно охватив долгим взглядом всю фигуру Любы. Кремовая блузка и серая юбка, видимо еще из девичьих нарядов, надетые в спешке по случаю неожиданного гостя, были заметно узковаты, стесняли движения налившегося соками материнства тела. И это, видимо, больше всего приводило Любу в смушение. Румянец не сходил с ее округлого смугловатого лица, пока она как пчелка кружила по кухне, скрывалась за ширмой смежной комнаты, выскакивала в сенцы, снося на стол хлебосольный взяток. И с каждым «подлетом» ее перед изумленным Серегой появлялись то кувшин с топленым молоком, то миска с медом, то плетенка с пирожками и ватрушками. А Люба, осветив гостя радушной улыбкой, вновь отлетала к свежевыбеленной печке, к вишнево окрашенному шкафчику, к зашторенным полкам, висевшим на стене. Полурасплетенная короткая коса, стянувшая в гладкую прическу темные волосы, металась по спине.
Несколько раз, когда Любушка склонялась за чем-либо в шкафу или тянулась к верхней полке, пуговичка блузки расстегивалась, приоткрывая глубокий разрез груди… При этом Люба поспешно отворачивалась украдкой водворяя непослушницу в петлю, и еще сильнее рдела щеками. От этих невинных подсмотренных движений Сереге становилось жарковато, и он спешно переводил взгляд на Митю, который увлеченно тетешкал Акимку, приговаривая: «И что же это мы, Аким Дмитрич, разволновались, и как же это мы так разнервничались… Что — голод не тетка, брюхо не лукошко? Ну потерпи, потерпи. Сначала гостя надо хлебом-солью встретить, уж потом и свой роток открывать. Дядя Сережа — твой первый гость… Уразумел? Пе-ервый…»
Акимка таращил на отца глаза, морщил лоб, будто и впрямь пытался что-то уразуметь.
Окончив накрывать стол, Люба потянулась было за сыном, но, что-то вспомнив, снова вышла в горницу и тотчас вернулась с чистым полотенцем в руках, улыбкой приглашая гостя к умывальнику искусно вмонтированному в спинку топчана, срубленного когда-то из целикового дерева. Вид полотенца и умывальника как бы вернул Серегу к действительности, подсказав, что гостеприимство входит в свои протяжные временные пределы, а значит, и в противоречие с его главной дорожной заботой. И ему снова сделалось неловко, что он, завороженный радушием Мити и Любы, безвольно отдается во власть желанному уюту, так и не объяснив толком причину своего появления.
— Да я, собственно, на минутку,— попытался было он начать разговор, но Митя перебил его, заметив все тем же ласково-рассудительным припевающим тоном, обращенным к сыну:
— А у сытой минутки ноги длиннее и голос бодрее… Верно я говорю, Аким Дмитрич? Верно, верно… А перед едой надо ру-учки мы-ыть.
И Люба стояла в ожидании его, держа перед собой, точно хлеб-соль, развернутое полотенце. Серега поспешил к ней, на ходу расстегивая и заворачивая рукава штормовой куртки, которую по всем правилам следовало бы, конечно, снять, но он умышленно не сделал этого и тем как бы успокаивал себя, что вовсе не намерен долго рассиживаться…
Склонившись к медному умывальнику, подзелененному временем, и уже потянувшись пригоршней к его широкому потертому пятачку, он вдруг с сожалением подумал, что вот сейчас остудит холодной водой ощущение Любиной руки, смоет его мылом навсегда. Но вода оказалась комнатной. Мягко струясь по упругому штоку, она едва ощутимо скапливалась в пригоршне и не смывала, не остуживала, а как бы растворяла, расширяла, приводила в движение желанное тепло, и Серега, тайно возрадовавшись тому, не удержался — опустил лицо в ладони, чувствуя, как под веселый звон струй и капель, бьющихся о дно медного таза, теплота эта нежностью переселяется в него.
Умывшись, Серега, не поднимая на Любу глаз, снял с ее рук полотенце, благодарно кивнул при этом, с удовольствием зарываясь лицом в гладкую льняную ткань, пахнущую свежестью и еще какими-то смолами или маслами, а вернее всего — домом. Потому что сразу же подумалось о матери, которая с энтузиазмом медицинского работника внедряла в их домашний быт льняные и хлопчатобумажные ткани, в штыки встречая всякие модные, броские нейлоны и капроны… Серега поначалу даже спорил с ней, называл ее отсталой, старомодной, проявлял самостоятельность в покупке обновок, а на самом деле слепо поддавался ажиотажу своих «моднецких» сверстников… И вот сейчас душ сомнения решала спор в пользу матери. И Сереге почему-то захотелось сознаться в этом Любе с Митей, сказать им что-то простое и приятное и тем как бы выразить свою признательность за радушие. Но когда он отнял от лица полотенце, ни Любы, ни Акимки в комнате уже не было. А Митя стоял у стола в выжидательной позе.
— Догадываюсь, что не чаи распивать прикатил в такую непогодь. Только у нас гостя сначала угощают, а уж потом слушают, так что не обессудь, прошу к столу. — Митя, сопроводив слова приглашающим жестом, рук, взялся за графинчик с темно-красной жидкостью, И с приговоркой: «Наливка для того и есть, чтобы наливать» — наполнил две большие пузатые рюмки. — Со знакомством, как говорится, и с брудершафтом, — поровозгласил Митя, поднимая свою рюмку. — А хозяюшку мы извиним, она при исполнении своих первейших обязанностей, — добавил он нежно, взглядом указывая в сторону горницы, откуда уже слышались почмокивания и ласковые материнские приговоры…
Серега понимающе кивнул и широко улыбнулся в ответ, искренне разделяя радость этого дома, проросшую сквозь большую беду.
Наливка в сравнении со спиртом показалась Сереге питьем символическим: сладкая, мягкая, тягучая, и он быстро справился со своей долей, не без удивления отмечая терпковатое последствие во рту с привкусом малины, смородины и еще каких-то незнакомых ягод и приправ. Митя же тянул наливку не торопясь, прижмурив глаза, и, когда допил, с причмоком поставил рюмку на стол.
— Деда наш любил эту наливку. Теплынькой звал. Придет, бывало, с тайги, с холода и с порога бабушке: «Плесни-ка теплыньки и теплика разломи». Хлеба, значит. Шубу да шапку сбросит и к столу. Долго-долго тянет стаканчик, жмурясь от удовольствия. Потом отломит краюху от горячей хлебины и вдыхает ее аромат, Ущипывая по крохе. Сидит весь добренький, сияющий и приговаривает: «Ну ягода-забава, ну весела, ну лукава. Я сижу, а она бежит-катится». И потирает ладонями по груди, по животу, по бедрам, показывая, где она бежит-катится. Потом, отогревшись, заключает со вздохом: «Ну, значит, теперь и дома я. Здравствуйте значит». Тогда уж бабушка чугунки из печки тянет, стол едой заставляет. За обедом и разговоры…
Серега живо представил нарисованную Митей картину, даже голос деда, веселый, прибауточный, послышался. А по всему телу, по самым дальним закоулкам его и впрямь тепло прошло-пробежало, одомашнивая умиротворяя.
Разговор потек сам собой, без натяжек и неловкостей, словно они до этого всю жизнь в приятелях ходили.
Серега радиограмму показал, ситуацию изложил, не скупясь на подробности. Митя выслушал все не перебивая и только не согласился с фразой Серегиной о Харитоне: «Магарычник, а как что, сразу в кусты…».
— Что Харитон мужик хитрый, то правда. Только от хитростей своих он же первый и страдает. Взять хотя бы собак. Сам знаешь, хорошая лайка ружью в цену. Охотник без собаки что хозяйка без ухвата: из огня чугунок не выхватишь голыми руками, в чащобе без собаки зверя не сыщешь. Каждый себе старается заводить. Выменивают щенка породистого, прикупают на стороне для племени. У нас в обычае одаривать щенком. И подрастающих охотников в своем дворе, и соседей. Так что на деревне все дворы, если не по человечьему корню, то уж по собачьей линии родственники меж собой. А Харитон Семенович в Харькове у зятя в гостях побывал, и тот, видно, надоумил его собачьим бизнесом заняться. Завел он себе трех сук. Ну и наплодили они ему хлопот в один присест. Свои, конечно, покупать у него не стали. И не потому, что десятку-другую жалко, а не принято ведь. По берегу и в поселке тоже сбыта не нашел. Притопить — рука не поднялась. Так и остался при псарне. Сам теперь иногда порыкивает. Но мужик он стоящий. А уж я ему по гроб жизни обязан… Туманцу напустить он мастер. И юмор у него своеобразный, привыкнуть надо. И тебя ко мне направил не из хитрости, не потому, что в кусты спрятался, а по обстановке. Просто лучший ход подсказал, а объяснять долго не стал да и неловко ему… Во-первых, у меня одного два мотора. Во-вторых, ночью мы до поселка не ходим. Там перекат есть, его только засветло проходить можно. А если уж кому приспичит, то на полпути высаживается, у лесника дяди Никиты. Он ближе всех к железной дороге. Харитон-то с ним в натянутых. Все из-за тех же собак. Дяда Никита его пожурил за щенячью коммерцию и предрек: «Сам ты, — говорит, — скоро с ними завоешь». Харитон обиделся, конечно. А уж когда Никита Васильевич мне Каштана привез, тут Харитон и вовсе на него надулся. Он, оказывается, хотел мне своего щенка преподнести, а дядя Никита опередил. И смех и грех. Наши-то пропали после того, как случилось… Вулкан, отцов любимец, после похорон всю ночь выл, а потом вырвал цепь и сбежал на зимовье. Там и нашли его скелет с ошейником и цепью. Волки, должно, разорвали. Думал, наверное, что отец без него ушел в тайгу… А отец-то рядом…
Митя примолк, в окно глянул. Стекла синью темной взялись, сгустели сумерки.
— Пожалуй, пора, — уловив в Серегином взгляде нетерпение, сказал он и встал. Серега с готовностью поднялся, благодаря за угощение, и с надеждой посмотрел в сторону горницы. Но там было тихо.
Митя набросил на плечи фуфайку и вышел первым. На крыльце постояли, привыкая глазами к темноте.
— Сам-то на моторке ходил? — спросил Митя.
— А как же. Дончак я. Свой «Вихрь» дома скучает.
— Ну и славно. Грех, конечно, одного по незнакомке отпускать в ночь, да уж не серчай. Не могу я их на полчаса оставить.
— Да понимаю, понимаю, о чем речь…
— Первые дни, как привез их с поселка, во двор выскочу за чем-либо — и бегу назад: не случилось ли чего… Страх какой-то преследовал все время. Посреди ночи по нескольку раз просыпался. Все прислушивался, дышат ли… Сейчас второй месяц как они здесь. Трясучка вроде улеглась. А все равно, и пока на реку иду свои замеры делать, сто раз оглянусь и вздрогну от мыслей-представлений всяких… Такой уж пуганый я теперь.
Тихо проскулив,- ткнулся в Митины колени Каштан, до этого незаметно сидевший в темном углу крыльца.
— Что, родимый, заскучал? — ласково сказал Митя, опуская руку на большую голову собаки. — Вот он, мой первый спаситель. После похорон я всю нашу живность по дворам раздал, а сам вернулся на свою стройку. В строители я уже врастал. В армии в стройбате был, монтажный техникум окончил, больше года по специальности работал… А как вернулся из пустого дома — чувствую, не могу… И профсоюз, и комсомол ходили вокруг меня, как подле больного, путевку на курорт предлагали, развеяться… И Любушка уже была. Только-только началось у нас. Она в бухгалтерии нашей работала. Месяца полтора промаялся — и рассчитался. Вернулся дом обживать. Тут мне дядя Никита и подбросил братца четвероногого. Вовремя подбросил. А то я втихомолку сам подвывать стал. Чудится всякое. За какую вещь ни возьмусь — голоса слышу… То матери, то отца, то бабушки, то Акимки… Так и до дедушкиных красок добрался. Дедушка учил меня своему ремеслу святому, да, видно, не та закваска… Мне и нравилось красками изображать, но к лицам, а ликам и подавно, равнодушен был… Лучше петушков да зверьков всяких намалюю, чем лицо человеческое. Стыдился, должно, прозвища его. Да и не понимал еще, о чем он втолковывал. Я ж тебя, говорит, не поповству учу, не смирению замольному. Покой душе человеческой и строгость всегда нужны. А уж вера… вера в самого себя, в отца, в мать родную… Не нужны, скажешь?! Сердился дедушка, что не понимаю: Да не на меня одного. Он и с отцом, и с другими мужиками спорил. Помню, дедушка, распалясь, втолковывал хмельным мужикам, что и вождя народного как святого изображать надо… Как истинные мастера это делали искусно. И не для того, конечно, чтоб пугать им или бездумно молиться на него. Но чтобы твердостью духа человеческого проникать… А то, говорит, на иного орденов одних иконостас понавешают, а в лице, окромя схожести, и не приметишь ничего. Я б, говорит, за такие портреты руки ломал… Я тогда по-школьному испугался таких несовместимостей крамольных… А сейчас, кажется, понимаю, что дед имел в виду. Он, кстати, и на сладенькие, аляповатые иконки лютовал. К богу у него какое-то свое отношение было. Не слыхал ни разу, чтоб он молился когда. Бабушка, та шептала по вечерам да крестилась. А дед только посмотрит в угол святой, построжает лицом, и все… Так что прозвище Богомаз несправедливо к деду. В глаза его, пожалуй, никто так не называл. А мне вот досталось. Свой же родич, мамин брат, в хмельном излиянии чувств обласкал меня «богомазенком»… И как выговорил-то языком заплетущим?.. Деду я, конечно, не сознался, но уроки рисования стал избегать. Тем более, что и в интернат прозвище это на языках дружков перелетело…
Митя помолчал. Погладил Каштанку, сказал ему:
— Ну что, Каштанушка, пошли гостя проводим. А он и матушке твоей поклон передаст.
Втроем они сошли с крыльца. Возглавил шествие Каштан, уверенно повернув в глубь двора. Возле сарая под елью остановились.
Митя отделил от стены две жердины. Серега угадал — весла.
— Мотор мотором, да с деревянными руками лодка надежней.
Серега, вспомнив о канистре с бензином, попросил Митю подождать и вернулся к машине.
«Газик» в темноте казался нахохлившимся, обиженным, точно некормленая лошадь. Сереге аж не по себе стало: по-хорошему-то, по-хозяйски, помыть бы надо бедолагу, да когда ж тут. Извлек из кузова двадцатилитровую канистру, взял фонарь, хотел было и топорик прихватить, но раздумал. Нащупал под сиденьем зачехленный охотничий нож и пристроил его на поясном ремне. Так-то спокойней будет.
— Бензин, что ли? — встретил его Митя вопросом. — Ну зря беспокоился: мотор заправлен, запас тоже имеется. А фонарь, конечно, сгодится. Но только на крутой случай. А так лучше не слепить себя. Река — дорога бегучая, потиху, помалу принесет куда надо. Будь Акимка поболе, мы бы всем домом к тебе в попутчики назвались. Люба тоже охоча к путешествиям. Помню, как-то сплавлялись мы с братом к дяде Никите так же вот затемно. В техникуме еще учился, на экзамен опаздывал. Я у руля сидел, вел на самых малых. Акимка на носу лежал, вопросами меня забрасывал и сам говорил, говорил, будто на всю жизнь наговориться хотел. Фантазер он у нас был. Нынче бы десятый окончил… Ночь тогда, правда, светлой была. Луна яркая гуляла. Пожарче моей разгорелась.
Митя кивнул в сторону дома. Серега оглянулся. Над крышей, над самым гребнем ее, фосфоресцировал лунный круг. Приглядевшись, рассмотрел за ним очертания трубы и вспомнил, что до темноты там сияло рисованное солнце.
— Сам понимаю, что все это чудачеством попахивает, а удержаться не мог. Хотелось… Душа требовала пересилить мрак, поселившийся в доме. Сначала, по холоду еще, изнутри стены красками грел… А потом как-то само собой и наружу выплеснулось. Вот он всему свидетель, — рука Мити снова потянулась к голове Каштана, сидящего у его ног, и тот ответливо скульнул. — Да что свидетель, соучастник, скорее. Настроение мое, как погоду, чует. Только отвлекусь на что или задумаюсь — он мордой в колени тычется и в глаза заглядывает, хвостом повиливает — зовет к делу. А за кисть возьмусь — затихает сразу. Лежит себе в сторонке и смотрит. Казалось бы, что понимает? Ведь даже цветов не дано различать ему по природе собачьей, все серым видит. Но смотрит. И взгляд не пустой. Потом и Любушка стала посиживать рядом. Приехала она летом, неожиданно. У нас ничего еще с ней и не было оговорено. Когда сам из города уезжал, не хватило духу предложение сделать, в таежную глушь заманивать ее, горожанку. Жалел, конечно, потом. Но и в письмах не намекал. Сама догадалась. Мы с Каштаном как раз крыльцо наряжали, слышу: «Митя, Митя…» Оглянулся — глазам не поверил…
Митя легко взвалил на плечо оба весла и прошел меж сараями, выводя Серегу на тропу, сходящую к реке. Каштан, обогнав их, первым ступил на едва заметную дорожку, но, оскользнувшись, сошел на траву. Митя и Серега последовали за ним и вскоре вышли на широкий бревенчатый причал. На темной воде у причала покоились несколько лодок. У крайней Митя остановился.
— Вот эта Харитона Семеныча. На ней Любушка и приехала ко мне прошлым летом. Она в поселке расспрашивала, как добраться к нам, и столкнулась с Харитоном. Так он дело свое бросил и в обратный путь наладил. И сам на глаза мне не показался в тот день, будто по щучьему веленью все свершилось… — сказал Митя и как бы поставил точку в разночтении характера Харитона Семеныча.
Не возразил ничего и Серега, понимая состояние Мити, но и соглашаться с ним не спешил, слишком свежо было впечатление от хитростей магарычника. К тому же и сам Митя больше контрастировал лукавству крестного, нежели сглаживал его особым отношением своим. Да Сереге и не столь важно было выяснить сейчас доподлинное лицо Харитона Семеныча. При виде лодок и реки он вновь ощутил легкий озноб нетерпения: скорее, скорее в путь.
И он уже вполуха слушал последние напутствия Мити запоминая лишь главное: железнодорожный мост… От него шесть поворотов реки и слева над Парусом, песчаным откосом то есть, домик лесника дяди Никиты и Анастасии Меркуловны, или просто Меркуловны, его жены.
И когда наконец Митя, убедившись, что он уверенно обращается с мотором, оттолкнул лодку от причала, сказав извечное «с богом», Серега сделал на сумрачном плесе реки лихую восьмерку и, стараясь держаться на равном расстоянии от едва различимых, насупленных темью берегов, пустился вниз по течению.
Река была не бог весть какая великая — в треть, а то и в четверть ширины Дона в его среднем течении близ родной станицы Сереги. Ни сухопутные, ни водные службы не позаботились о любителях ночных прогулок: ни тебе бакенов, ни фонарей. Небесные ориентиры тоже скромно подремывали за тучами. И вскоре, чтобы не выскочить на берег, Сереге пришлось до минимума сбавить обороты мотора и, напряженно всматриваясь вперед, шестым чувством угадывать, когда река войдет в очередной поворот. На малых оборотах и течение слышней: стоит отклониться с его пути, как начинаешь ощущать легкую потугу с правого или левого борта. Значит, закосил, ровняй по стрежню. Конечно, в применении к этой незнакомке понятие «стрежень», пожалуй, громковато, с донским же не сравнить.
Всего с полчаса как-то пришлось подержать Сереге лодку под углом к течению «тихого», и рука «рулевая» хоть отвались.
С острова тогда возвращался он с Олей уже далеко после вечерней зари.
Плыли так же не спеша, на ощупь. Правда, причина малых оборотов тогда была совсем иная: хотелось продлить, растянуть часы-минуты, раздвинуть границы дня, вместившего в себя какой-то не поддающийся измерению отрезок времени…
То был седьмой день его солдатского отпуска, и, проходи он на глазах Яшки Синева, тот не преминул бы схохмить, окрестив его донскую неделю не иначе, как «семь дней, которые потрясли девичий мир». Но была и другая оценка этих дней, хоть и высказанная тоже впол-шутки, но так и в такую минуту, когда любая фантазия и гипербола лишь подтверждают состояние души… Они стояли на окрайке песчаного мыска — Адам и Ева, провожающие солнце, и Оля, прильнув к его груди, шепнула в порыве чувства: «Сережа, ты мой бог… С неба свалился… и в семь дней сотворил такой чудесный мир…».
Эти слова — о сотворении нового мира в душе — он в равной степени мог отнести и к ней самой, но в роли бога земного, с неба свалившегося, все-таки выступал он, Серега Кругов, достойный представитель крылатой пехвты…
Bсe как раз и началось с этого «достойного представительства». Так было отмечено их подразделение в приказе самого командующего округом, объявлявшего благодарность по итогам воинских учений. А он, ефрейтор Крутов, в числе других достойнейших из достойных, получил желанную солдатскую награду — десятисуточный отпуск. Надо ли говорить, каким орлом шествовал он по родной станице, сверкая значками и знаками, словно боевыми орденами! Какая решимость и отвага распирала его грудь! Конечно же он не усидел дома и получаса. Не терпелось однокашников повидать да и себя показать. На улице никого не встретил. Понятное дело: в знойный полдень всю праздношатающуюся публику надо искать у воды. В отдаленном уголке их компанейского пляжа сиротели на песке две девичьи фигурки. С обрыва трудно было различить, кто есть кто. Рыжеволосая, невысокая — пожалуй, Люська Комова, одноклассница. В другой, темноволосой, вытянутой, не угадывался никто из знакомых. Девчонки загорали, подставив уже шоколадные спины солнцу, и не могли видеть его появления. И тут-то решимость наконец нашла выход протяжным «Ого-го-о-о-о!», привлекая к себе внимание. Девушки подняли головы, и этого оказалось достаточно, чтобы Серега, не отдавая себе отчета, вдруг сделал шаг вперед и полетел к ним самым кратчайшим путем. Не помнилось, чтобы кто-то из ребят когда-либо не то чтобы прыгал (в воду еще куда ни шло!), а хотя бы предлагал на спор слететь с этой горы. Но шаг был сделан, и знакомо перехватило дух, на мгновение вырвав несколько «о-о-о» из Серегиного воинственного крика, и тело привычно сгруппировалось для встречи с землей, которая, щадя безрассудство, обернулась самой мягкой своей стороной — глубокой песчаной россыпью. Приземлившись по всем правилам, на сомкнутые ноги, Серега все-таки не устоял, завалился на песок, но тут же подхватился (ноги-руки, как ни странно, повиновались) и шутливо рапортовал опешившим девчонкам о своем прибытии.
Рыжеволосая оказалась действительно Люськой, и она с визгливым «Ой, Сережка, сумасшедший!» повисла у него на шее. Другая же, так и есть незнакомая, оставалась неподвижно стоять на коленях с распущенными по плечам волосами. В округленных испугом глазах ее Серега не нашел желанного восхищения. И когда Люська представляла их друг другу, Оля недоверчиво протянула руку. Но тон бесшабашности был задан, и Серегу понесло на хохмачество, словно в него сразу десяток Яшек Синевых вселились. Отпустив каскад солдатских прибауток, он испросилу дам соизволения с батюшкой-Доном пообщаться, виделся и пошел к воде, справедливо сознавая привлекательность своей атлетической выправки, которую, правда, пришлось поддерживать немалыми внутренними усилиями, потому что тело, охваченное знобкой дрожью, казалось ватным, непослушным. Заплывать далеко не стал, вялые руки почти не слушались, да и в левом боку что-то побаливало. Не прошел даром безумный полет. Но Серега тут же улыбнулся сам себе, мысленно отметив, что ради такой девушки, как Оля, можно не только с обрыва махнуть, и оглянулся на берег. Оля смотрела в его сторону, а Люська что-то быстро-быстро, с присущим ей темпераментом таратушки, говорила подруге. И Серега подумал, что это она выдает о нем полную информацию. И наверняка возводит все его малейшие достоинства в превосходные степени. И ему стало стыдновато перед Олей за свое невольное ухарство.
В школе Люська долгое время была в него влюблена, даже несколько писем в армию прислала, может, что и сейчас в ней живет. Но не только поэтому она может петь хвалу ему. Люська вообще обо всех говорила только хорошее. Она никогда не помнила обид и вряд ли кого сама могла обидеть. Да Серега и не обижал ее. Разве что не мог в свое время ответить на чувство…
Вот и в этот раз он болтал с Люськой, из кожи лез выплескивая остроумие, в общем, как выразился бы старшина, выкаблучивал языком и распускал хвост павлиний!.. Но все это снова предназначалось не для нее. Люська же была лишь незаменимым катализатором, побудителем его бурного красноречия. Она с готовностью реагировала на любую шутку, как завороженная глядела ему в рот. Даже когда в ответ на ее предложение поступать к ним в РИСИ (Ростовский инженерно-строительный институт) Серега, играя словами, сострил, что рисовод из него вряд ли получится, хотя кашу рисовую он любит сильнее самого заядлого китайца, Люська хохотала, не обращая внимания на сдержанную улыбку своей подруги.
Нет, Люська вовсе не была какой-то дурносмешкой. Просто ей было радостно вдруг встретить его среди лета, говорить с ним. И в освещении этой радости все казалось многозначительным, интересным, веселым… Серега если и не все до конца понимал в ее отношении к себе, то уж по-доброму почувствовал это искреннее расположение и благодарен был ей за все сразу: и за этот заразительный, безудержный смех, и за влюбленные взгляды, и за Олю, бог весть как попавшую к ней в подруги и приехавшую погостить. В глубине души, в чем не очень-то хотелось самому себе сознаваться, Серега ловил себя на мысли, что он и с обрыва прыгнул не потому, что Люську узнал, а скорее наоборот — что не узнал никого в ее подруге…
А для Люськи было достаточно и просто на глаза появиться и отрапортовать что-нибудь в том же роде…
Славная, добрая Люська, снова тебе отводилась роль свидетеля, роль третьего, вначале очень-очень нужного, а потом и в той же степени лишнего…
Так и случилось у них в эти семь дней сотворения. Ходили всюду втроем, развлекались, казалось, поровну. Но руки двоих почаще соприкасались невзначай, взгляды двоих подольше задерживались друг, на друге… На танцах все это проявлялось с достаточной определенностью, тем более что в отношении Оли ему приходилось выдерживать солидную конкуренцию парней.
На третий или четвертый день Серега прибег к помощи магнитофона. Как бы извиняясь за вчерашнее невимание к Люське, с полчаса отплясывал с ней веселые ритмы прямо на пляже. Оля с интересом наблюдала за ними, не умея или не желая вот так запросто включаться в веселье. Но ее участие в веселых дурачествах и не входило в планы Сереги. Доплясав до определенного момента, он увлек Люську в реку, оставив Олю наедине с магнитофоном, который несколько минут кряду твердил ей голосом Лемешева-Ленского одну-единственную фразу: «Я люблю вас, Ольга…». В тот же вечер во время танца Оля вдруг спросила: «Сережа, а вы не устали нас развлекать?» И он понял, что старания Лемешева тоже сошли всего лишь за шутку…
Признаться, Серега и сам уже порядочно злился на себя за безудержное хохмачество, но все никак не мог избавиться от Яшкиных интонаций. С одной стороны, уже привык поддерживать взятый тон, с другой, — смеясь над всем и вся, а больше над собой, у человека, как это ни странно, все меньше шансов оказаться в смешном положении. Хохмачество, бравада стали маской, под которой он истинное чувство хоронил… Да истинное ли оно? Вырвался из «мужского монастыря», увидел первую красивую девушку — и короткое замыкание. Ну что он для нее? Таких вздыхателей у нее пол-Ростова. Да и солдатскому чувству вера невелика. Ребята вон с тоски, бывало, девчонкам с журнальной обложки или газетного снимка чуть ли не всем взводом пишут, если у кого связь с землячкой оборвалась или же не было таковой. Об артистках кино и говорить не приходится. Сам таит фотооткрытку до сих пор. Лично он письменных объяснений и предложений «заочницам» не посылал, но от имени и по сердечному поручению дружков-приятелей случалось говорить стихом и прозой. И хотя фильм «Семь невест ефрейтора Збруева» заставил всех их друг над другом и каждого над собой посмеяться вволю, но писать все равно продолжали. И ведь надеялись на что-то, чудаки. Да разве в этом «что-то» дело? Надежда и стремление души, пусть в неизвестность, пусть неуклюже и наивно, а скрашивало, разряжало быт солдатский. Особенно у тех, кто был вдали от городов-поселков. И что теперь гадать — истинно, не истинно… Не под венец же собрался. Сознайся уж, что перетрусил…
И все-таки в следующий раз магнитофон, оставленный наедине с Олей, заговорил его голосом, доверяя стихи, еще не ведомые миру. Стихи сами по себе, быть может, и не стихи вовсе. Но ведь и правда, не всему же миру они предназначались. Зато каким всесильным чувствовал себя, когда писал их ночью. Как верила дуща что не понять ее нельзя… И дрожь во всем теле, как после прыжка. Но уже по иной причине, как утверждение истинное. И когда перед рассветом начитывал на магнитофон, голос его звучал убежденно. Не умоляюще, не просяще — исповедально. Не декламируя, а выдыхая слова. И голос, сам голос — его волнение, интонация дыхание, паузы-точки, паузы-переосмысления — говорил, пожалуй, куда больше слов…
Оля встретила его продолжительным взглядом, без тени улыбки и недоумения, которые, казалось, постоянно таились в ее глазах, когда она смотрела на него. И Серега почувствовал, что не сможет уже больше острить, дурачиться, зубоскалить. Дрожь, похожая на ту, что была после прыжка, и на ту, что жила в нем этой ночью, объединились в ознобную слабость, и он молча опустился на горячий песок.
Люська, метнув взглядом с одного на другого, тоже что-то почувствовала и поняла, потому как вдруг засобиралась, заторопилась. Ей надо было куда-то бежать, что-то делать…
Люська, чуткая Люська… Как обиженную сестру, любил и жалел ее Серега в ту минуту…
Но Оля не позволила Люське уйти одной. «Что-то жарко сегодня», — сказала она и тоже стала собираться. Серега согласился, хоть самого-то пробирал нервный озноб. Лишь дома почувствовал он в полную меру, как обессилел, и, с волнением воскрешая в памяти Олин взгляд, забылся тревожным прерывистым сном, в котором ему надо было сделать что-то важное-важное, но этому мешали всякие невероятные обстоятельства. И он просыпался, будто выныривал из глубины, но, осознав, что так и не завершил свое важное, снова соскальзывал в глубь сна…
В этот вечер они не задержались на танцплощадке. Оля сама предложила пройти к Дону, как только Люську пригласили танцевать. У воды сняла босоножки и шла молча по влажному песку, чему-то улыбаясь. Серега тожe молчал, двойственно переживая эти томливые минуты. Ему хотелось, чтобы они тянулись как можно дольшe, а он бы все шел и шел рядом с ней и смотрел на нее… И видел открытый лоб, овал щеки, уголок губ с верхней припухлой, чуть привздернутой к маленькому носу. И всю сразу: от текучих, сливающихся с сумерками волос до выблескивающих, как две играющие плотвицы, ступней. И в то же время он маялся сомнением: ведь надо что-то говорить, Оля, наверно, ждет… Но ничего подходящего, созвучного этим минутам не приходило ему в голову. Разве что песню запеть. Протяжную и тихую, как вечерняя река… Он даже начал перебирать в уме песни. Не названия их, а первые или какие помнились фразы мысленно пропевал. Но память, словно магнитофон с чужой сумбурной записью, выдавала определенно не то. Серега и не подозревал, что так безнадежно напичкан громкими строевыми и крикливыми эстрадными песнями. Иные из последних, пожалуй, их песнями-то не назовешь. В них мысли и чувства кот наплакал, зато много шуму и слезливых завываний. Вчера еще он, не задумываясь и не без удовольствия, вытанцовывал под их звучание и даже подпевал, а сейчас вот они назойливо вертелись на уме, раздражая своей пустотой и надуманностью, заслоняя собой ту единственную, которая никак не вспоминалась или которую он просто еще не знал…
А Оля обернулась и просто попросила: «Почитай что-нибудь, Сережа».
И он, словно этого только и ждал, выдохнул из себя:
Не много лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры.
Струи Арагвы и Куры…
Серега мало стихов знал наизусть. Даже свои юношеские сочинения помнил лишь день-другой. Но «Мцыри» Лермонтова мог читать с любой строки до последней точки. На то были особые причины. Так уж случилось, что по воле армейских будней пришлось им малой группой около месяца зимовать не только вдали от шума городского, но и вообще от всякого жилого. Забросили их на объект по тревоге, так что о культурно-массовой программе никто подумать не успел. Шахматы, шашки соорудили из подручных средств. А книжка была всего одна. Тоненькая брошюрка с гравюрным изображение мятежного юноши на обложке. И ту Яшка в последний момент перед отлетом стащил у ротного дневального.
Сначала ее читали по очереди, всяк себе в свободное от караула время. Потом Серега как-то начал читать вслух. И все слушали, будто слышали впервые И уже сами просили его в следующий досужий час воскресить исповедальный монолог… И всякий, раз, когда он читал, наступало протяжное раздумье. Даже Яшка смирел. А потом и разговор затевался. Не обязательно о прочитанном. Жил в поэме дух, неистребимый временем, который в школьную пору так и остался для многих джинном, упрятанным в бутылку.
Обычно в солдатской компании разговор откровенный, да еще о самом-самом, — явление редкое. Чаще шутки-прибаутки, подначки, жуткие истории, небылицы всякие. А тут и повод — поэтическое обнажение души человеческой, и обстановка — вынужденная затерянность в пространстве и времени располагали.
Случалось ему на посту, вышагивая по периметру объекта, уже по памяти озвучивать морозную тишину ритмичными выдохами стихов. И время, казалось, прибавляло шагу, и тишина не тяготила одиночеством. Конечно, не положено это, и в другом месте могло бы кончиться «губой» или нарядом вне очереди, но в том глухом углу лишь мирное зверье приближалось подивиться на неведомых «медведей» с мехом вовнутрь. Часовые в тулупах, как ожившие ненецкие чумы, двигались, похрустывая снегом.
С тех пор поэма вросла, впиталась, переселилась в душу и читалась как что-то свое, прикипевшее к сердцу. Его страсть, его убеждение. Стих, казалось, терял свою форму, свой физический размер. И слова-строки выходили из него не как солдаты, чеканящие шаг рифм, а волнами-выдохами фраз… Местами голос его будто перекручивался волнением, пропадал. И он отворачивался, приподнимая лицо, чтобы влага, подступавшая к глазам, вдруг не пролилась через край. И пауза, пока он справлялся с голосом, была схожа с кричащим молчанием… Другие стихи читать так Серега не мог. Вернее, не пробовал. Разве что те, высказанные Оле с помощью магнитофона.
Поэма прозвучала как объяснение. Да так, пожалуй, было. А Оля выслушала — как приняла объяснение это… И после молчание уже не приводило Серегу в смущение.
Танцплощадку обошли стороной и Люську ждали на лавочке у ее дома. Она пришла не одна, и это сгладило их вину. От поездки на остров встречать рассвет Люська сразу же отказалась, сославшись на какие-то срочные домашние дела. Да они и не уговаривали её…
Перед рассветом Серега метнул в Люськину веранду виноградной ягодиной, и, следом за глухим звуком стекла, там послышались шорохи, поскрипывание и постукивание раскладушек. Серега приготовился терпеливо ждать целую вечность, но Оля неожиданно появилась перед ним в полном снаряжении, едва ли не побив армейские нормы сборов. Должно быть, с вечера собралась и спала одетой, как они когда-то в ожидании первой тревоги… Поверх спортивного костюма на ней была наброшена длиннополая вязаная кофта, в руке — увесистая сумка, которую он тут же прибавил к своей ноше. Особое впечатление произвели на Серегу тщательно зашнурованные кеды. Для медлительной, рассудительной, слегка манерной Оли, какой он ее успел узнать, это было несомненное достижение.
Впрочем, начинался день, в котором многое было не так, как обычно. Они наново открывались друг другу и самим себе…
Люська конечно же не улежала в постели. Укутавшись с головой в простыню, босая, выбежала она к калитке следом за Олей и как ни в чем не бывало громким шепотом напутствовала Серегу: «Смотри, не утопь мне ее». И пока они не свернули за угол, Люська белым привидением маячила у калитки. Они оба сознавали, что обрекают Люську на острое одиночество, но в ту минуту ни словом не обмолвились об этом и только прибавили шагу, с облегчением отмечая, как чувство вины перед ней постепенно уменьшается, высвечиваясь, прорастая благодарностью. Они будут много-много говорить о ней на острове, Серега — о школьном, Оля — о студенческом. И Люська со всех сторон предстанет добрейшим ангелом-хранителем, словно ей на роду было написано появиться на свет именно для того, чтобы подарить им этот август, этот день, этот остров…
К реке шли теми же улочками и проулками, какими возвращались вечером, и так же молчали, словно этот путь стал для них ритуальным маршрутом. Позже об этих минутах Оля скажет, вернее прошепчет: «Сначала мне казалось, что ты умеешь только много и смешно говорить… Но ты так хорошо молчишь, что мне кажется я слышу все-все твои мысли…»
Молчание это было и впрямь состоянием необыкновенным. Думалось о многом, мимолетно и светло.
Верилось, что и притихшая рядом душа чувствуе созвучно и соразмерно твоему…
В лодке это состояние обрело иные оттенки. Оля, кутаясь в кофту, сидела в каких-то полутора метрах к нему лицом, но сумерки сначала как бы отдаляли ее, потом с каждой минутой черты ее проявлялись все ясней и ясней, и Сереге казалось, что расстояние между ними неудержимо сокращается и вот-вот настанет момент, когда она будет совсем-совсем близко… И рука его невольно сообщала двигателю все больше и больше оборотов, и лодка все ускоряла свой бег, стремительно приближаясь к темнеющему вдали острову. И все было в сговоре с его желанием: и могучее движение воды, и торжественное восхождение света, и непрерывная песня мотора, утверждающего на пределе своих возможностей ликующее «да-а-а!».
Уже совсем рассвело, когда Серега заглушил мотор и лодка, мягко прошуршав дном о песок, причалила на отмели. Оля, сидевшая неподвижно, покачнулась и привстала, озираясь. До песчанной косы острова оставалось еще с десяток метров воды, и Серега, быстро разувшись, спрыгнул за борт. Оля стояла в нерешительности, и он сделал наконец эти долгожданные два шага и “догнал” ее и не просто коснулся, а подхватил на руки и приподнял над водой. Испуганно ойкнув от неожиданности, Оля обхватила его шею руками и прижалась всем телом. Впервые так близко увидел ее глаза. В их взгляде не было ни протеста, ни испуга. Одно удивление, как вопрос и ответ, переполняло их…
Но еще ближе, еще притягательнее были губы ее. Несколько мгновений он весь был охвачен мыслью только о них… Он знал, что теперь обязательно коснется их, и все же не решался сделать последнее движение. Вот и сторожевой взгляд погас: Оля закрыла глаза и как-то вся расслабилась, потяжелела… И Серега, боясь уронить ее, еще крепче прижал к груди, и губы сами собой встретились, и он поспешно зажмурился, словно свет погасил.
Прошло несколько тягучих, настороженных мгновений, прежде чем ее губы ответили и согласно шевельнулись, а руки ожили на плечах, на шее, на затылке… Лаская, они словно раскачивали, раскручивали голову, и она пошла, пошла плавными кругами, а за ней и все тело, немея, теряло вес… И Люськино шутливое предостережение неотвратимо сбывалось: они стремительно тонули на мелководье…
Пожалуй, Серега не мог бы с полной определенностью сказать, сколь долго тянулось это хмельное погружение. Но когда вновь ощутил под ногами зыбучее дно, тело отозвалось литой усталостью, и он с радостным ужасом подумал, что уже не в силах сделать эти несколько шагов к суше, и покачнулся, с трудом извлекая ноги, увязшие в песке.
Оля открыла глаза. Затуманенный взгляд был приветом ему и одобрением. Но тут же глаза ее оживились, и она о возгласом «Ой, солнце!» подалась вперед, легко соскользнула с рук, ухнула обутыми ногами в воду, еще раз при этом ойкнув, и побежала к острову с веселым повизгиванием, выдергивая ноги из воды, точно обжигалась о нее, как о крапиву. Серега остался стоять у лодки, справляясь с радостным волнением, и навсегда запомнил Олю бегущей к солнцу, которое только-только полнолико выяснилось из-за орозовелой кромки горизонта.
Начинался день. Так хорошо начинался.
Достигнув суши, Оля заплясала на песке, выкрикивая ликующее: «Земля! Земля! Солнце! Солнце!» Это было так непохоже на нее, степенную и медлительную, что у Сереги даже промелькнуло сомнение — уж не Люська ли объявилась на острове и выплескивает радость свою пробуждающемуся миру… Но это была Оля, какой ему еще не доводилось видеть ее за летучие шесть дней и вечеров. Впрочем, он и в себе ощутил незнакомое чувство уверенности. Раньше, когда ему случалось целовать девчонку, он долго потом не мог встречаться с ее взглядом, словно совершил что-то постыдное, запретное. На Олю же смотрел во все глаза, и каждый возглас ее отдавался в сердце счастливым эхом, и ему самому хотелось прыгать рядом с ней и кричать во всю мочь. И в то же время он был преисполнен могучей степенной силы, удерживающей его от простого ребячества. Перекинув через плечо причальную цепь, под бурлацкое «Эй-да-да, эй-да!» Серега выволок на сушу довольно тяжелую для одного шлюпку и, переводя дух почувствовал себя небывало легко и освобожденно, будто ступил на землю, где нет сомнений и условностей где словом и действием выражают лишь то, что думают и чувствуют, где тебе радуются так же открыто, как радуешься и ты…
Остров откровения — извечная мечта душ чувствительных и влюбленных. Утопия для будничного людского общежития. Праздник любящих, умеющих пребывать на своих иллюзорных островах и среди неспокойного, нервного моря житейского…
Им повезло обрести этот остров в пространстве и времени.
А все было очень просто…
Перво-наперво они осмотрели свой «владения» и, к великой радости, обнаружили, что остров воистину необитаем. Будничный день уберег его от людского нашествия, зато следы прошлых выходных в виде консервных банок, бутылок, обрывков газет и пробок то и дело попадались им на глаза, и они терпеливо хоронили мусор в землю, помня, что свою планету нужно приводить в порядок.
Следующим ритуальным явлением был костер. Хоть солнце уже пригревало, обещая знойный день, отказать себе в созерцании живого огня, в запахе дыма и печеной картошке было просто невозможно. И потом, костер «а двоих всегда что-либо значит. Пожалуй, у каждого таежного костра Серега вспоминал именно этот, островной. В Олиной жизни оказалось до обидного мало костров. Дворовые ребячьи, пионерские в лагере, дачные — когда мусор жгли… И ни разу самой ей не довелось дать жизнь большому огню. С каким почтительным вниманием слушала она нехитрые наставления Сереги о кострах, как торжественно, затаив дыхание, подносила горящую спичку к маленькому шалашику-запалу, и какая детская радость озарила ее лицо, когда он дымнул, потрескивая, и вошел в первый рост огневой.
Эта чистая радость-удивление, радость-открытие, восхищение, еще много раз будет озарять ее лицо в этот день. И когда они в туземном одеянии за какой-то десяток минут обходили «свою планету» или совершали вокруг нее «мореплавание» и Оля впервые самостоятельно управляла лодкой, и когда налаживали солнечные часы, будто собирались пробыть здесь вечность, или пытали счастья в рыбном промысле…
Правда, рыболовное счастье им как раз и не улыбалось. Зато сами они только этим и занимались: встретятся взглядами — и улыбка во все лицо. Беспричинная, говорят, улыбка. Какая же беспричинная, если он — милый сердцу человек — во веки веков был главной причиной всех радостей. И уж конечно глазам не до поплавков в ту минуту. Сладкая неодолимая сила влечет друг к другу. Не заметишь, как захлопнется желанный капкан объятий, и только розовый-розовый свет в зажмуренных глазах. Очнутся, лески распутают, и до следующей улыбки беспричинной… Верхняя Олина губа еще больше припухла, петушком смотрит. После каждого поцелуя Оля трогает ее пальцами и делает смешливо-испуганные глаза. И такая она при этом вся на себя вчерашнюю не похожая, что Сереге кажется, и не она вовсе была. И что именно эту Олю — улыбчивую, доверчивую, с нескрываемым восхищением взирающую на все вокруг и на него, Серегу, словно он заново преподносит ей весь этот вольный мир, — именно такую Олю он знал всю жизнь. И ни разу за весь день не омрачилась душа тенью сомнения: какой-то будет она завтра… У влюбленности счастливейшее свойство — безоглядность. В том и слабость ее, сила могучая.
В последний, раз, когда зычный голос сирены проходящей мимо «Ракеты» застиг их в объятиях друг друга, они уже не стали распутывать лески. Упали на песок, хохоча от смущения, и в синеве небесной спрятали взгляды свои от десятков любопытствующих глаз. Небо было знойно-пустынным, и, глядя на него, снова легко представить себя уединенными.
Оказывается, какое это увлекательное занятие — лежать на песке, распахнув руки, открыв объятие миру всему. И душа, расширяясь, принимает в себя его весь без остатка. И только сам он не в силах вместить беспредельную радость твою…
Радоваться миру и себе в нем — какая это окрыляющая и обессиливающая работа сердца.
Так и не распутав, он снял тогда лески с временных удилищ, и лежат они теперь где-то в его школьном письменном столе. В то время не задумывался о них вот сейчас, через год, вспомнились, и даже с каким-то подтекстом.
И «кругосветка» их не обошлась без приключений. Туча средь ясного дня подкралась незаметно. Шла она с низовьев Дона по-над руслом и была не обычной дождевой развалюхой, а громоздилась многоэтажно.
Пока Серега с Олей завороженно любовались невиданным зрелищем, лодку снесло. А когда опомнились — туча уж тут как тут.
Налегли на весла, да туча проворнее оказалась, накрыла зловещей тенью и осыпала желудевым градом в самый момент, когда они уже пристали к острову и выволакивали лодку на сушу. В считанные минуты ясный день взялся сумраком. Шумливо вскипела вода на отмели. Зарябил, заколебался, словно ожил, песок. Холодом обожгло незащищенные тела.
Упрятав Олю под опрокинутую лодку, Серега еще несколько мгновений с каким-то неистовым восторгом принимал на себя леденящие ухлесты града, по обычаю считая до тринадцати, при этом громко выкрикивал числа и почти не слышал своего голоса. Была у старшины такая приговорка: «Хочешь черта в себе испугать, посчитай не спеша до его дюжины и дерни за кольцо…» И, досчитав, оглушенный и продрогший, Серега нырнул в укрытие и сразу одним взглядом увидел всю Олю.
Она лежала на боку, зябко прижав руки и ноги к груди, и казалась совсем маленькой и беззащитной. В волосах Оли светлела запутавшаяся нерастаявшая градина, и вид ее нежной жалостью отозвался в Сереге… Вот и Олю хлестал, студил град, а он не сумел вовремя защитить… Серега прилег рядом. И она доверчиво распрямилась вдоль его тела, оделяя грудь, живот, бедра знобкой, дрожью. Лишь дыхание ее теплом прикоснулось к шее, невольно вызывая озноб. Градина была теперь у самых глаз, и Серега снял ее губами и, ощутив ее холод и пресный вкус, перенес ее к Олиным губам. В смешанном дыхании она быстро растаяла, и Серега почувствовал, как все тело постепенно полнится текучим теплом, словно в растопленной ими градине заключалась великая тайна холода и они разгадали ее…
Барабанная дробь града по днищу лодки сменилась мягким убаюкивающим шумом ливня. Стало совсем тепло и уютно. А приливы волнующего тепла и нежности следовали один за другим, раскаляя тело до жара, до пронизывающей остроты зыбучим томлением. И вдруг — как ослепляющая ясность — прозрение: не было и не может быть в жизни его человека ближе, роднее, желаннее Оли… И все-все самое бесценное, самое сущее — в ней, только для нее, только с ней. И он уже не думает об этом, а громко шепчет… И слышит ответное. Отрывистое. Кричащее.
Что-то рушится, пронизывает то ли сладостью, то ли болью…
А потом тихо-тихо. Ни дождя. Ни шепота. Видения какие-то странные: многоцветные, расплывчатые, знакомые и невероятные… И легкость летучая во всем теле. Сон наяву или явь во сне…
Очнулся от шороха. Открыл глаза. Оля в неудобной позе пытается надеть купальник. Взгляды встретились. Оля переполошно скрестила руки на груди: «Отвернись». Но он, пребывая во власти видений и прозрения своего, потянулся к ней, и она подалась навстречу…
Когда они все же выбрались из своего убежища, мир предстал таким же распахнутым и ясным, словно и не было никаких градобойных туч и ливней. Разве что дышалось вольней от свежести, смирившей зной, и солнце прошло свои дневные высоты. Да и они сами были в этом мире уже немножко не те…
Возвратили к жизни расстрелянный градом и размытый ливнем костер, просушили одежды, набросились на еду и говорили, говорили и не могли наговориться… Их словно прорвало. Оказалось, так много не сказано о себе, не оговорено, не спрошено, что, случалось, говорили одновременно или перебивали друг друга встречными вопросами, а потом хохотали над собой…
Но вот солнце скатилось к горизонту, и они, притихшие, стоя провожали его. Здесь-то и назвала Оля его богом своим. А он вдруг впервые за этот огромный-огромный день почувствовал, как уходит его всемогущество, и, словно пытаясь удержать его, так крепко обнял Олю, прижимаясь грудью к ее спине, что она неожиданно воскликнула: «Ой, Сережа, я сердцем слышу твое…» И тогда он и сам ощутил кожей груди тихое биение… То ли свое, то ли ее…
Потом они долго сидели у костра, незаметно утопая в сумерках. И чем круче замешивались сумерки, тем теснее прижимались они друг к другу и ярче разводили огонь. Но костер был бессилен вернуть день. И всё же они не стали его гасить. И, отплывая, все оглядывались. И когда свет костра, приглушенный темнотой и расстоянием до огонька свечи, вдруг совсем пропал, они знали, что он еще горит. Но этого сознания для Сереги оказалось мало, и он, ни слова не говоря, развернул лодку в крутом вираже и вновь повел ее к острову. И лишь услышав Олино «горит» и увидев зыбкое свечение островной тьмы, Серега так же молча, но уже по размашистой дуге, вернулся на прежний курс и больше не оглядывался и не сбавлял скорости, с холодком в душе отмечая, как приближается, разгораясь, огромное кострище полуночной станицы.
Вначале холодок этот осознавался как следствие предстоящей разлуки. Утром Оля уезжала домой в Ростов, да и его солдатские каникулы упирались в дорогу. В общем, это было так, хотя и не совсем. Ведь впереди у них еще целый день. Да какой день — сутки, а то и больше. Само собой разумеется, что он проводит Олю до Ростова, до порога дома ее… «Как можно не радоваться этому, не жить ожиданием нового дня?» — сам себя спрашивал Серега, но ощущение душевной смуты не проходило и влекло за собой странные неотвязчивые мысли, которые и потом будут являться ему не раз.
Серега смотрел на Олю, вернее на ее силуэт, темневший все в тех же полутора метрах, что и утром, и ощущение неминуемой потери не покидало его. С каждой минутой это расстояние меж ними как бы увеличивалось, как утрачивались черты ее с заходом солнца… И теперь, сколько ни добавляй оборотов своему «Вихрю», не приблизиться к ней ни на сантиметр… как мог это делать он в любое мгновение там, на острове, в дне ушедшем…
Конечно, и сейчас он может дотянуться до нее рукой, обнять и посадить рядом с собой. Но не делает этого. И не потому, что не хочет. Элементарные правила безопасности при вождении лодки с мотором запрещают это… Условность? Да. И теперь подобных условстей будет все больше и больше. Условность, что она идет сейчас на целую ночь к Люське и до утра он не увидит ее, будто и не было ее никогда…
И самая огромная и неодолимая для них условность — предстоящая разлука, которую ни обойти, ни объехать…
Он смотрел теперь на все с высоты своего прозрения: 0ля — самый близкий, самый дорогой, самый желанный человек для него… И там, на острове, все его чувства и ощущения были в ладу и согласии с действительностью. Что будет завтра? Послезавтра? Через месяц? Через год? ¦
На рассвете он вновь метнется во вчерашний день. Каждая деталь острова вызовет в душе радостное восклицание: «Было!» И душа выплеснет признание — небу, солнцу и миру всему… И вместе с тем он поймет, что одному-то как раз и не следовало туда возвращаться… На следующий день «Ракета» понесла их стремительно вниз по течению, и Серега невольно посетовал на бездумную торопливость подводных крыльев. В считанные минуты достигли они острова. С ветровой палубы хорошо был виден песчаный мыс. Оля узнала его и обернулась к Сереге с радостно-вопросительным взглядом. Он подтверждающе кивнул ей и обнял за плечи. «Смотри, костер наш!» — Оля указала рукой на темное пятно кострища. «Ой, а это что?!» — тут же воскликнула она, различив на песке шагающие метровые буквы, выложенные крупной речной галькой. «Я люблю тебя!!!» Серега ничего не ответил, лишь сильнее стиснул Олины плечи. А она неотрывно смотрела на песчаную страницу, пока ту не сменила зеленая, на которой уже без букв и восклицательных знаков их души читали и перечитывали такую простую и такую необыкновенную историю одного дня, кажущуюся уже невероятной, и только руки его и ее плечи удерживали, подтверждали реальность острова, его рассвета и заката, ливня, града и полного крутого солнца в прокаленном синевой небе. И сказанных слов. И прозвучавшего смеха. И молчания, молчания, молчания. И тишины. И глубины взглядов. И смешанных дыханий. И ласковых рук. И восторга тел.
Ольга резко повернулась, не обращая внимания на стоящих рядом людей, уткнулась лицом в Серегину шею.
Пожалуй, это было одно из последних мгновений, когда он чувствовал себя всемогущим.
Удар был несильным, упругим. Нос лодки стал забирать куда-то вверх, и Сереге показалось, что сейчас его запрокинет назад, и он инстинктивно сжался и заглушил мотор. Подавшись еще вперед и вверх, как на горку, лодка замерла, слегка покачиваясь. Серега осторожно извлек из кармана куртки круглый фонарь и, осветив нос лодки, привстал. Но не успел он распрямить ноги и как следует оглядеться, лодка, кренясь, стала сползать набок по упружистым осклизлым веткам павшего в воду дерева, в крону которого и угодил он впотьмах. Как завороженный следил он за сползающим носом лодки и едва не свалился за борт, когда лодка, освободившись, хлюпнула носом о воду и сильно закачалась на плаву. Серега, потеряв равновесие, упал на сиденье и вцепился обеими руками за борта. В воду же плюхнулся фонарь. Несколько мгновений перед глазами был только угасающий желтый кругляшок тонущего фонаря, а потом тьма сомкнулась и стала вовсе непроглядной. Лодку разворачивало. Затихал плеск потревоженных ветвей. Смыкалась и тишина в жутковатое безмолвие…
Серега не шевелился, – ощущая, как постепенно им овладевает цепенящее чувство одиночества, затерянности, подобное тому, которое пришлось испытать еще в школьном турпоходе, когда он один среди ночи отправился купаться в море. Не то чтоб на спор, а просто себя проверить хотелось…
Отплыл чуть от берега и лег на спину. Справа — в полсотне метров — берег, хоть и невидимый почти, но ощущение опоры, уверенности, жизни. Слева— подумать страшно: вода, вода… на сотни верст, аж до самой Турции, то есть практически до бесконечности — бездна и тьма… Любая неведомая тварь может тебя схватить, и поминай как звали. Да что там схватить — достаточно прикоснуться. Левый бок онемел, будто растворился: ни кожи, ни мышц, ни ребер не ощущаешь… Одно только обнаженное, беззащитное сердце испуганно гухает в бездну и, как во сне, опоры не находит и все больше проваливается куда-то. Руки и ноги стали невольно подгребать к берегу, который обозначился из темноты шорохом пляжной гальки, а затем и Борькиным хриплым, кричащим шепотом: «Сере-ога!» Сердце радостно скакнуло на зов, однако Серега не откликнулся, выдерживая марку бесстрашного испытателя. Но Борька, видно, натолкнулся на его одежду и не думал уходить. Шепот повторился. Зная, что его друг теперь не отстанет, и радуясь этому, Серега как можно недовольнее подал голос: «Чего тебе?» — «Ты что там делаешь?»— «Раков ловлю, не видишь?» — «Не вижу». — «Так они ж черные-е…» — «А-а», — протянул Борька, как всегда с запозданием поняв, что его разыгрывают…
Воспоминания о друге детства вывели из минутного оцепенения, и Сереге даже почудилось, что он слышит шорох его шагов на берегу и что вот-вот, в самую неожиданную минуту, Борька окликнет его и спросит как ни в чем не бывало: «Ты что тут делаешь?» А он, Серега, непременно съязвит ему в ответ что-нибудь вроде тех же раков. И он уже стал придумывать, что бы такое заковыристое сморозить Борьке на этот раз… Но вместо Борькиного «Сере-о-га-а» тьма выдавила натужное, приглушенное «ы-ы-ы-у-о-оо!», словно кто-то звал на помощь или хотел испугать.
Ознобом охватило спину, и Серега невольно сжал рукоятку ножа, напряженно прислушиваясь. Он не успел понять, откуда исходило это утробное мычание, уж не из воды ли? А может, зверек какой зевнул спросонья и завалился на другой бок. Но звук больше не повторился, и Серега, стараясь не шуметь, перевел дыхание и смахнул со лба холодную росу пота…
От испуга он как бы наново прозрел. Пояснее проступили берега, а меж ними едва различимым прогалом угадывалась река. Только теперь почему-то холмистый берег оказался по правую руку. И тут Серега наконец сообразил, что его лодка дрейфует углом кормы вперед, и вспомнил о моторе.
Мотор откликнулся сразу. Сначала сердитым завывающим рычанием, а затем спокойным, неторопливым стрекотом отогнал он все подступившие было страхи ночные и подтолкнул, повлек лодку дальше по бегучей дороге реки. И Серега добром помянул Митю и его любовь к технике. Но вместо улыбчивого Мити память почему-то воскресила хитроватое, с прищуром лицо Харитона Семеныча, и оно не показалось ему неприятным. Напротив, он резонно подумал, что должен быть благодарен Харитону Семенычу уже за то, что тот на Митю указал. Вот Борька, пожалуй, тут же навязался бы ремонтировать «захлебывающийся мотор», приняв все за чистую монету. И с Митей он бы нашел общий язык именно в сфере техники. Здесь его интересы и увлечения не знали границ. Он бы забросал Митю рацпредложениями по техническому перевооружению моторки. Какую-нибудь штативную мачту с парусом предложил, целлофановый купол от непогоды, звуковую и цветовую сигнализацию непременно. А о прожекторе завел бы разговор в первую очередь Борька не позволил бы пускаться в ночное плавание по незнакомой реке – без освещения. Что стоило одолжить у «стрижа» фару с аккумулятором, приспособить ее на носу лодки, и рассекай себе тьму и воды на самом полном…
Серега представил себе эту картину и с улыбкой подумал, что у него тоже нередко «умная мысля приходит опосля». Фразу эту долдонил сегодня Иван Баракин, проигрывая ему в шахматы партию за партией. Теперь вот Серега словно сам себе проиграл. И ему стыдно стало перед Борькой, на техническом иждивении которого частенько приходилось бывать. Ведь даже с «Вихрем» больше возился друг, нежели он сам, хоть и купил мотор на свои трудовые. Борька себе такой poскоши позволить не мог — обувку-одежку покупал; но зато все техуходы и ремонты, которые нередко следовали один за другим, проводил собственноручно. Серега не ревновал, ему больше нравилось владеть мотором в движении, к чему, кстати, технарь Борька относился довольно равнодушно, а вернее сказать, побаивался, потому что терялся, когда любимая техника вдруг сдвигала его с места. Он был врожденным бортмехаником (Серега его так и звал — «Борькмеханик»).
Все прояснилось летом после девятого класса, когда они работали в станичном совхозе помощниками комбайнеров. Борька буквально не отходил от комбайна: все подмазывал, подкручивал, разбирал-собирал. Умаял своего комбайнера, добродушного дядьку, вопросами и предложениями. Тот терпеливо разъяснял ему, полностью доверяя уход за машиной, но воздерживался доверять управление ею.
Позже, когда Борька поступит в машиностроительный институт, Серега ему напишет из армии: «Ты нашел себя под комбайном». Самому же Сереге еще предстояло «искать себя». До сих пор вот ищет. К технике он, в общем, тоже относился уважительно, с интересом, ухватив общий принцип действия узлов и механизмов того же комбайна, Серега не копался в нем без надобности, теряя интерес к деталям, но любил «порулить». И убрал-таки свой гектар хлеба.
Зато к деталям человеческих отношений и характеров испытывал тягу. Он мог часами просиживать в компании взрослых, не издавая ни звука, и слушать, о чем они говорят. И поражаться: как люди похожи друг на друга и насколько они разные.
О каждом однокласснике, учителе, товарище по службе он мог бы многое сказать, в то же время дивясь, как порой емко и точно выражает суть человека и отношение к нему одно-единственное слово, пожалованное ему в кличку или прозвище. Об учителях что говорить — их «звания» передаются из поколения в поколение. Сереге больше памятны армейские, рожденные у него на глазах.
Своего командира роты, например, Сомова они звали коротко и ясно: «Мужчина!» Произносилось это с неизменным оттенком восхищения и почитания. Рослый, стройный, мужественный… Все превосходные эпитеты безошибочно ладились к нему. И не только к внешности. В роте он был прежде всего лучшим солдатом-десантником. Все, чему учили их, он знал и умел лучше других и выполнял не просто отлично, а с естественной легкостью человека, влюбленного в свое дело. Спокойный и уравновешенный, размышляющий, как обыкновенный учитель, в часы занятий и отдыха, он строжал до суровости перед строем, был взрывной и стремительный в бою, в учебном, конечно… Однако, когда на тебя мчатся «живые» танки и земля, как испуганная лошадь, вздрагивает под тобой от щедрой пиротехники, это уже далеко не кино. С непривычки чумеешь будто. Сжимаешься весь в недвижимость и, кажется, ничто не способно тебя разжать в человека, пока стоит вокруг этот гул, лязг и грохот. Но отрывистый, пронзительный голос Сомова игловым импульсом отыскивает в твоем сознании именно ту точку, от которой все в тебе приходит в движение и ты почти автоматически, с какой-то неведомой ранее неистовостью следуешь точно его приказу. И казалось в ту минуту, прикажи он обломать черту рога, ты исполнишь это не задумываясь появись только бесенок на горизонте…
Ну как с таким командиром не станешь «достойным пpeдcтaвитeлeм?»
Лейтенант, комвзвода, был тоже, по оценке ребят «мужик ничего, свойский». Но уже не то… Он явно и не всегда умело подражал Сомову, а это хоть и понималось и прощалось ребятами, но не поощрялось. В общем, «художественная самодеятельность», как снисходительно выразился однажды Яшка по этому поводу, и «звание» приклеилось в сокращенном виде — «худсам».
Неуязвимее других оказался старшина, хотя с ним-то как раз у каждого было связано больше всего неудобств и конфликтных ситуаций армейской службы. Каких только кличек-ярлыков не лепили ему гораздые на выдумки ротные «Теркины», все не держались больше дня. Но каждый, пожалуй, увез домой последнее слово, сказанное о нем при расставании. Сомов и комвзвода простились перед строем, а старшина вышел проводить до автобуса, навсегда увозящего их из части. И когда они расселись по местам и водитель запустил мотор, старшина совсем не по-уставному, без единой металлинки в голосе сказал им: «Дай бог вас больше в форме не видеть, ребята. Не поминайте лихом!» — и, спрыгнув с подножки, взял под козырек. Автобус тронулся, все оглянулись на старшину, и кто-то из ребят растроганно обронил: «Человек!» Серега не смог ничего добавить к сказанному, он глотал слезы…
Самостоятельно с первой публичной оценкой личности Серега выступил еще в восьмом классе. Правда, вся публика состояла лишь из самой оцениваемой личности, но все же это был качественный скачок, очередная ступенька прозрения. Накануне экзамена по математике Борька застал его над старым, отцовским еще, учебником «Психологии». «Псих энд псих», — прокомментировал он это событие «по-английски». Но Серега не среагировал на язвительность.
— Борька, знаешь кто ты? — спросил он таинственно.
— Кто? — сторожась подначки, переспросил друг.
— Ты необыкновенная личность! — произнес Серега в раздумье, как открытие.
Но Серега, не дав ему и слова сказать, стал обосновывать свою гипотезу, расцвечивая друга перьями всех достоинств. И чем больше и вдохновеннее он говорил, тем подозрительнее щурилось Борькино конопушное лицо. В конце концов, желая упредить розыгрыш, друг перебил его:
— Ты лучше все это Люське пропой, а то она не знает, что рядом с нею живет герой нашего времени, и все на тебя лупатится…
— А что, идея! Пошли! — воскликнул Серега, все еще находясь на волне своего прозрения, и встал, чтобы идти к Люське, которая жила через три дома, по соседству с Борькой.
Но Борька, сразу посерьезнев, суетливо «тормознул на все подошвы»:
— Ладно, ладно тебе, психолог. Ты вот лучше скажи мне: хочешь гармонически развивать личность?
— Учись играть на гармони, да? – уже соскальзывая на хохму, отреагировал Серега, потому что Борька заговорил еще серьезнее и высокопарнее его.
— Не-ет, пошли… пошли в «грузию»! — вдруг оживившись, сказал Борька.
— А я туда и так еду, мать обещала достать путевку в альплагерь.
— Да нет. — Борька сник.— Я говорю в «грузию» — от слова грузить. Вагоны разгружать.
Серега растерянно смотрел на друга и чувствовал себя не совсем уютно — где-то внутри него довольно явственно похрюкивал свиненок: об альплагере он ничего еще не говорил другу.
— А может, вовсе и не будет путевки или мама две достанет, — пытался он еще оправдаться, но свиненок все хрюкал, потому как вторая путевка ничего не решала: Серега отлично знал, что Борька собирается в свою «грузию» отнюдь не за гармоническим развитием… — Так бы прямо и говорил, что грузить — наконец нашел он верный ход. — На Кавказ мы и без путевок поспеем — турпоход же намечается в конце лета, — заключил Серега облегченно, и свиненок умолк. А Борька взахлеб затараторил:
— Представляешь, придем осенью в школу: плечи — во! — Следовал красноречивый жест руками в стороны. — Грудь — во! — Руки соответственно сошлись впереди. — Ну и карман, само собой, поправим…
Это уже выражение Борькиного отца, вольного плотника, который после каждого крупного дела столь же крупно гулял, а протрезвившись однажды утром, брался за топор и, сказав свое «надо бы карманы поправить» уходил со двора.
Карман они, конечно, поправили. Для Борьки это было существенно, хоть он и не показывал виду. Сереге же — спортивного интереса ради, ну и с Борькой за компанию. Мать даже настаивала на путевке: мол, успеешь, наработаешься. Она, фельдшерица, много лишнего о человеческих слабостях знала и частенько волновалась попусту — не надорвись, не простудись.
Отец, будучи преподавателем физики, подходил к этому вопросу философски.
— Аксиома, — говорил он, — что человека в общественном смысле породил труд. Труд изначально самый примитивный и жизненно необходимый. И как в эмбриональном цикле человеческий зародыш проходит эволюционные стадии общего развития жизни, так и, рождаясь общественно, каждый из нас, кем бы ни стремился быть, обязан обрести как можно больше навыков того изначального труда, который передние конечности в руки преобразил! Труда охотника, старателя, землекопа, строителя, подельщика… О грузчике и говорить не приходится. Переноска тяжестей — занятие пожалуй, самое древнее. И всех богатырей-силачей мира, легендарных и сущих, история может с чистой совестью приписывать к профсоюзу грузчиков. Сколько тяжестей им поднимать пришлось!
Отец не назидал, а размышлял вслух. Обычно их беседы проходили за шахматами. С Борькой и Серегой он играл одновременно на двух досках.
— К тому же, — продолжал он, — в каждой профессии есть свои подножия и вершины, фундаменты и крыши. И я не верю в инженера-конструктора, руки которого не познали труда рабочего, не признаю доктора, не способного выполнить работу медсестры и санитара, не представляю себе генерала, не хлебнувшего солдатских тягот.
— А учителя? — спросил дотошный Борька.
Отец призадумался, как над трудным ходом.
— Да, ученик, пожалуй… Только не примерный, в целлофановом смысле этого слова, а разный… И прежде всего — пытливый и благородный. Все мы ученики от рождения: задаем вопросы, нам отвечают. Вскоре мы сами начинаем разрешать свои вопросы. И как только появляется в нас потребность отвечать на вопросы других — рождается учитель. Вот в тебе, Боря, учитель, по всему видать, уже наклюнулся. А некоторые из присутствующих, — отец выразительно посмотрел на сына, — начинают свою педагогику в жизни с подзатыльников, хотя подобного опыта на себе никогда не испытывали.
Отец имел в виду случай, происшедший накануне. Сереге подарили фотоаппарат, и он отснял свою первую в жизни пленку. Хлопотно готовился проявлять ее, утемняя чулан. А когда вернулся в комнату, взревел от негодования: младший брат, второклассник, разглядывал на свету извлеченную из аппарата пленку и недоумевал: «А где же карточки?» Ответом ему и был подзатыльник.
Отец был прирожденным учителем, отдающим всего себя другим, будь то ученики, дети или даже случайные собеседники по рыбалке или грибной охоте. И пребывал в хорошем расположении духа, если ему удавалось приоткрыть человеку какую-то истину либо самому распознать его глазами еще неведомую грань бытия. Даже играя с ребятами в шахматы, он больше радовался их победам, чем огорчался от своего поражения.
В игре друзья были столь же неодинаковы, как и в жизни. Борька играл цепко, дорожа каждым ходом… Добившись минимального преимущества в начале игры, седлал его и с нудной настойчивостью оберегал до конца партии, словно боролся за решающее очко для гроссмейстерского балла. Играть с ним было трудно, изнурительно, да и сам он вставал из-за доски, точно машину угля разгрузил. Обычно отец успевал сыграть с сыном три-четыре раза, прежде чем завершалась партия с его другом.
Серега играл легко, увлеченно, совсем не думая об очке. Все его страсти поглощал процесс игры, ее драматургия. Особенно обожал выкручиваться из безвыходных положений, в которые, надо сказать, попадал довольно частенько, потому что в вихре излюбленных атак жертвовал фигуры напропалую. Меж собой друзья играли всегда результативно, почти без ничьих. Серега либо ловил друга на приманку жертвы и стремительно взламывал его оборону, добираясь до короля, либо терял свое войско перед «крепостным валом»… Борьку отец называл солидно — мастером изнурительной обороны, Серегу — гусаром за эффективные, да не всегда обдуманные жертвы. Сам, предпочитая играть в умеренно комбинационном стиле, искренне уважал в своих юных противниках индивидуальности, радуясь им. Пожалуй, именно понятие об индивидуальности, непохожести составляло стержень его педагогической да и житейской философии.
— Быть на кого-то похожим, какая ерундистика, — говорил он почти возмущенно. — Будь сам собой, проживи свою жизнь, и тебе, и миру, многообразию его от этого больше пользы будет. Даже Эйнштейн второй не нужен… Он все сказал, что мог, что должен был сказать. Но продолжение его, вторую ступень его интеллекта, так сказать, миром просим.
К Серегиным метаниям он относился терпимо, даже уважительно, сдерживая естественное беспокойство матери. Особенно когда сын, окончив школу «рядом с медалью», решил сразу не поступать в институт, а прежде осмотреться как следует в мире профессий. Устроился на консервный завод. Вначале разнорабочим, потом, после краткого обучения, в слесари-наладчики перешел. Через полгода в военкомате предложили допризывнику Крутову приобрести шоферскую специальность. Возражать не стал, окончил курсы и, не воспользовавшись второй попыткой абитуриента, до самой армии работал шофером.
Мать, конечно, высказывала свое отношение. С житейской простотой, в которой ударным доводом было — «как у людей», она давала советы, словно порошки и таблетки прописывала, зная лишь принцип действия лекарства, но не вникая в его мудреный химический состав. Отец же в своих размышлениях любил исходить из химической формулы бытия. Серега вначале недоумевал и горячился, когда родители, высказав по его поводу совершенно противоположные мнения, вроде бы соглашались друг с другом… И только со временем понял, что оба заботливо оберегали его самостоятельность в выборе жизненного пути, предоставляя ему самому сказать последнее слово.
Правда, мать иногда не выдерживала благородного нейтралитета и в сердцах высказывала ему с отцом:
— А ну вас, умники, поступайте как знаете. Только потом не бегайте к докторам и мамам, когда очень больно будет…
Серега отшутился тогда:
— Мне-то хорошо, не надо в разные стороны бежать: у меня мама доктор «Ай-болит!».
— А что, и была бы доктором, если б ты в свое время не появился, — в запальчивости обронила мать, имея в виду свой так и не оконченный институт.
— Ты что, мама, сожалеешь? — удивленно спросил Серега.
Мать смутилась, сразу утратив воинственный пыл. Поспешно подошла к сидящему сыну, прижала его голову к груди:
— Что ты, что ты, родной мой. Разве можно так думать. Я к тому, что причина большая была у меня… А кто тебя держит? Мне кажется, ты немножко растерялся…
Так одним жестом-порывом и вселила в него свою особую правоту.
Отец не мог себе позволить таких нежностей, но, сознавая их благотворную необходимость, любил повторять:
— Слушай мать (что означало: чувствуй любовь и тревогу материнскую). Мы с тобой теоретики: я — замшелый, ты — зеленый. А ее сердце — великий практик…
Отец обычно, как и приличествует мужчине, держал себя спокойно, выдержанно. И только однажды дрогнул его голос. Провожая Серегу в армию, он сказал на прощание:
— Пусть всегда раскрывается над тобой порашют,— и спрятал лицо в объятиях сына.
Во время прыжка, сближаясь в свободном падении с землей, Серега вспоминал эти слова, как родительское благословение, воспринимая полногрудый хлопучий вздох распахнувшегося над головой купола.
Остаток водного пути Серега провел в радостном ожидании чего-то хорошего, что непременно с ним должно произойти. И это ощущение нарастало, вбирая в себя все удачливое.
Теперь Серега безошибочно укладывался в русло реки, и это подкрепляло уверенность в удаче, и он принимал как награду и первые проблески звезд в подросшем небе, и появление долгожданного моста в оправе входных фонарей, и белеющий огромным парусом откос (с огоньком и собачьим лаем) за шестым поворотом реки.
А главная причина все же была. Временами на носу лодки, где темнел брезентовый чехол для моторчика, Сереге чудилась притихшая Оля и будто бы как в первый раз плывут они на свой остров, но он уже заранее знает — все-все будет так, как было…
К причалу Серега подошел, осторожничая, на веслах. Причал здесь тоже оказался бревенчатым, только скромнее по размеру, и на привязи подле него дремала одна-единственная лодка. Мотор у лодки был зачехлен, весла лежали вдоль бортов, и Серега последовал примеру — укрыл мотор, привязал лодку к причальной скобе. На звяк цепи собака прибавила голосу, и он стал заливисто забирать ввысь. Изредка к нему присоединялся другой — глуховатый, потише, поспокойней, видно, и постарше. По ступенькам, вырытым в откосе и скрепленным хворостяными плетеньками, Серега поднялся к избе лесника. Собаки неожиданно смолкли, а женский голос окликнул с крыльца:
— Кто будет?
— Добрый вечер, привет вам от Сосновых Мити и Любы, — поспешил отозваться Серега, не зная, как себя представлять.
— А-а, спасибо-спасибо за приветы… Да вы проходите, там не затворено, — зарадовалась, оживилась женщина. — Собачек не бойтесь, они у нас даже с волками дружат, а человека и подавно привечают. Злых не держим.
И в самом деле, пока Серега проходил через двор, поднимался на крыльцо, никто на него не тявкнул, не проворчал даже. Собаки неподвижно темнели, в стороне от крыльца, справедливо считая свое оповестительное дело сделанным. И Серега невольно помянул Митиного «братца» четвероногого:
— Им тоже привет от Каштана.
— О, тут и Каштан и Каштанка сразу. И еще один сын-братец на железной у Игната. Щенками они все были лобастенькие, кругленькие, в маму коричневые, ну вылитые каштанчики. Думаем, если каштаны в тайге не растут, то пусть хоть они бегают… А с ними и слово приживется.
В прихожей, куда они вошли, — пар коромыслом. Посреди комнаты на лавке протянулось глубокое цинковое корыто со стиральной доской и замоченным бельем. Рядом на полу с отжатым бельем эмалированный таз. На шестке, исходил паром ведерный чугунок, видно только изъятый из печи для стиральных нужд. Керосиновая лампа, люстрой висевшая над потолком, наполняла комнату ровным матовым светом.
Женщина запричитала, винясь перед гостем за домашний разор, но при этом успела вытереть о передник и подать ему испарно-розовую крепкую руку, сказав «здравствуйте, поближе» и представившись полным именем — Настасьей Меркуловной; улыбнуться приветливо всем румянощеким от пара и работы лицом; усадить гостя за стол и мимоходом накрыть сковородкой чугунок, чтоб не «дымил»; поставить перед гостем кувшин с топленым молоком, глиняную кружку и миску с пирожками и ватрушками, такими же приветливо разрумяненными и пышущими гостеприимством, как и сама хозяйка. На вид ей с трудом можно было дать за пятьдесят: и взгляд, и движения, и голос даже в столь поздний час, по всему видать, хлопотливого дня хранили утраченную свежесть, радушие доброго человека. Разве что волосы, по-летнему подхваченные цветастой косынкой, взялись уже несдуваемым пеплом времени да морщины иглились изо всех живых уголков открытого русского лица.
— Ну, как там крестник наш, Акимка, хорошо сосет? — неожиданно спросила Меркуловна, присаживаясь к столу.
Серега смутился, вспыхнул, воочию представив себе Любушку, кормящую сына, и вспомнил свое тайное любование ею в те короткие минуты, когда она встречала его, накрывала на стол, держала полотенце.
Но в просветленном взгляде Меркуловны было столько пытливо-материнского ожидания добрых вестей, что Сереге уже впору было смущаться за свое смущение, и он ответил в тон вопросу:
— Орет хорошо, когда есть просит. И чмокает на весь дом.
Меркуловна закивала радостно и рассказала, как она впервые услыхала голос Акимки с реки, когда Митя вез домой свою семью. «Пуще мотора орал малый». Сама из материнских рук приняла, в избу внесла, и он окрячал тут все углы, с десяток лет не слыхавшие младенческого плача. Потом, расспросив Серегу, кто он откуда и куда путь держит, на своих разговор перевела. Их у нее шестеро: три сына, три дочки. Все разлетелись. Ближняя самая — младшая из дочек, Валя, в поселке в быткомбинате швеей работает. Хорошо работает, в почете ходит. Депутатка даже. Остальные по городам расселились. Витя, второй сын, офицером служит на Дальнем Востоке. Старший, Егор, так тот вообще за границей. Как специалист по машинам он там с женой вместе.
— Спасибо хоть сына оставили, спит вон, — Меркуловна кивнула на горницу, — скоро в интернат справлять надо на учебу.
Из горницы послышался далеко не детский всхрап и невнятное бормотание. Меркуловна перехватила вопроситеный взгляд Сереги.
— А это мой хозяин во сне воюет. Никита Васильевич. Как выпьет, так и воюет. Война-то и живых не пощадила: если кого пуля не ранила, так памятью не обошла. А мой и пулей меченный. В Одессу вот к сыну Саше летал. — Голос Меркуловны сразу как-то притих, взгляд опечалился. — Нынче посеред дня объявился. Сослуживец его с соседнего участка и подвез его с поселка. А я, грешница, к выходному-то дню и стряпню и стирку затеяла. Сколько раз говорено: не хватайся баба за два ухвата, коль силенок маловато. Да нашему брату умом наперед не закажешь. Топчемся себе, хлопот наваливаем без огляду. Думала, управлюсь, а тут они в самый аккурат подоспели. Встречай, хозяйка, гостей. Гость у нас в тайге всегда праздник. Выпили, конешно. Да не с радости…
Меркуловна вдруг умолкла и засмотрелась на окно. Стекла запотели, и капли влаги, сползая вниз, разлиновали их на матовые полоски, меж которых сквозила темная синь…
— Сколько вам ходков будет? — спросила она, снова переводя погрустневший взгляд на Серегу.
— В сентябре двадцать два исполнится.
— Вот-вот, я и смотрю, одногодки вы с Сашей, — сказала с грустинкой и вновь задумалась о чем-то своем. — Не знаю, стоит ли говорить… Беда с ним приключилась, в тюрьме он. Прошлым летом как из армии пришел, шофером на поселке устроился. Все ладно складывалось: и работал с охоткой, и свадьбу загадывали на Октябрьскую. Я одной самогонки флягу выгнала… Невестины родичи подарков на тыщу закупили. Дружил он с одной еще в школе. Пока в армии был, переписывались, верно ждала. Верой, кстати ее и зовут. За неделю до свадьбы все и случилось: под Сашин самосвал пьяный угодил… Саша клянется-божится, будто бы тот сам бросился спьяну. Он его в больницу отвез и в милицию на себя заявил… Свидетелей не нашлось, а человек тот помер. Присудили Саше два года. Какая уж тут свадьба-женитьба. Вера после приговора прямо в суде разрыдалась. Клятвы кричала — люблю, ждать буду. Да, видно, выкричала тогда ж всю любовь и терпелку. Знамо дело, отцу с матерью горе, а ей, невесте каково… Так и вышло, что виноватых вроде нет, а закон править надо. Упрятали голубя нашего за решетку, да с тем беда не кончилась. Не сдержала Вера клятв, с другим в прошлом месяце расписалась и укатила из дому подальше. Не осуждаю я ее по-бабьи, хоть и понять не могу: зачем клятвы кричала, зачем надежду в душу вколачивала? Ведь и ждать-то осталось совсем ничего — досрочно освободить его должны за примерное поведение… Не злодей же он какой. С каждым может случиться, — от сумы да от тюрьмы не зарекайся… Не утерпела или постыдилась теперь судьбу свою связывать с судимым. Саше вроде обо всем честно написала. Нашла время, когда честность свою проявлять, глупая. Ему освобождаться, а он взбунтовался: «Раз она так — не хочу освобождаться». Нарушил что-то там, нагрубил и нам поганое письмо прислал. Вот отец и летал на свидание. Старшая дочка, Мария, в Горловке она живет, на Донбассе, тоже подъезжала. Беседовали, успокаивали, насилу уговорили. Начальство там с понятием отнеслось, обещали не задерживать. Да сюда, пожалуй, не вернется. У Марии в Донбассе будет устраиваться от стыда подальше.
Приметив, что гость так и не притронулся ни к молоку, ни к пирожкам, Меркуловна всполошилась:
— Ой; что ж это я вас только бедами своими чую!..
Подхватилась из-за стола — и к печке.
— Сейчас я вам глазунью слажу.
Серега было начал отговаривать, мол, в путь ему пора, дорогу просил объяснить. Но Меркуловна уже угольков из печки под таганец нагребла, пучок лучины на них бросила, и враз затеяля бойкий костерок. Минуты не прошло, сало на сковородке заговорило, а хозяйка гостя успокаивать:
— До Игната от нас и часу ходьбы не будет. На лошадке и того быстрей. Без провожатого потемну, конечно, и приплутать не мудрено, да Лысуха дорогу хорошо знает, не оскандалится.
Из застекленного посудного буфета достала розовый графинчик и две граненые стопки. Внутри графина в прозрачной жидкости утонул по самый гребешок цветастый стеклянный петух. Пока Серега, дивясь, разглядывал его, на столе появилась яичница, а к ней и разносол всякий.
Меркуловна взялась за графинчик.
— Если не погребуете — домашнего производства. Тот самый «свадебный», год как допиваем в горькую…
Серега не стал возражать, понимая минуту. Меркуловна налила в стопки. Голова петуха вынырнула на поверхность и, уменьшенная, стала чужой туловищу.
— Я и сама сегодня стоко передумала, словно самые тяжкие дни заново пережила, — сказала Меркуловна, поднимая стопку. — Хряпкаю бельем по доске, а перед глазами мой последух-горемыка… Пусть у вас все будет хорошо, — и потянулась к Серегиной стопке, чокнулась.
— Пусть у Саши все будет хорошо, — сказал ответно Серега, чувствуя, как ему самому при этом становится тревожно.
— Спасибо на добром слове, — голосом, скользнувшим по слезе, поблагодарила Меркуловна и со вздохом выпила рюмку «горькой свадебной».
Самогонка была на совесть — почти без привкуса, крепкая, перехватывающая дух. И Серега невольно взялся за вилку, хотя и не прошла еще сытость от Любушкиных угощений. А Меркуловна закусила огурцом, пожевала хлеба и совсем доверительно, как своему, повела рассказ о житье-бытье.
— Как беда с Сашей приключилась, я всю самогонку в лесу закопала, чтоб не дай бог батька с горя не запил. В молодости от ней, клятой, едва не сгорел. Сами мы из-под Курска. Там после войны иной раз хлеба куска не найдешь во всей деревне, а бутылка первача сыщется… Мне шестнадцать только подошло, когда родных прям в хате бомбой убило. Я у подружки была. В один момент бездомной сиротой стала. А тут немцы нагрянули. Быть бы мне, одинокой, в рабах германских, коли б не Федор, добрая душа. Сам хилый, хворый — ни на войну, ни на работу не брали его. Точно святой какой жил тихо-смирно при отце с матерью. Он-то и принял меня за жену без росписи и венчания. Не по любви, конечно. Время-то какое лихое было. Кто кусок протянул, пригрел углом и добрым словом, тот и родной. Нажили Егорку. Федор перед концом войны, простудился крепко, слег и помер. Снова осиротела. Свекор, не в пример сыну, здоровый бугай был и лютовал. Свою колотил почем зря и до меня руки тянул. Ласки его не принимала, так он с кулаками подступал. Отбивалась как могла, по соседям хоронилась. А тут и мой ясный сокол подоспел.
Меркуловна просияла лицом и оглянулась на горницу.
— Приехал прямо с Москвы, с парада Победы. В новеньком диагоналевом мундире, при медалях и орденах, рослый, могучий. Герой. У баб всех глаза разгорелись. Они ему улыбочки да приманочки. Мне-то куда было надеяться? И без меня вдов полсела — побогаче, посправней. И девок опять же целый воз подоспел, за четыре-то года. Выбирай — не хочу, И все же меня приглядел. Раз-другой кочетом подступал… А как до по-любовностей дело дошло, я смелости набралась и говорю — только чтоб по закону… В общем, окрутила мужика. Расписались, свадьбу, какую могли, справили. Стали жить-поживать, как в сказке, поется, да детей наживать. За ними дело не стало. К Егорке общий прибавился — Виктор, победитель значит. Тогда победой все было помечено — и настоящее и будущее. Мужики кажный день чарки за нее поднимали. Выпьют и припоминают, где, что и с кем было… Таких ужасов наговорят, что по ночам подушки своей пужаешься. А то и слезу пустят: дружков своих побитых жалеючи. Кто ж их осудит за это, понимали. На своих живых нарадоваться не могли. А вдовам каково?
Мой в ту пору у плотников хороводил. Работы от темна до темна хватало — выбиралась деревня из погребов и землянок. Какой хозяин работников без угощенья отпустит? Душу заложит, а поллитру из-под земли достанет. Она и впрямь из земли. Бурак-то не зря с бутылкой схож. Сколько их из пустого в порожнее перелито, кто б знал. А самогонка — девка разгульная. Подогреет, расшевелит, подпетушит, все заботы в трын-траву свалит — гуляй, вольный казак. Гулял и мой сокол. Я тогда Машенькой ходила. Жду-пожду, нет благоверного. Ночь на дворе, дети спят давно, а батька где-сь плутает. Не стерпела — в розыск подалась. Бабы шепнули, куда ноги вострить. Да и у самой в уме примета была. Прямиком к Нюрке Селиховой. А в хате у ей и света уж нетути. Одна лампадка под образами теплит. Я к дверям. Закутано изнутри. Здукаю. Не отзываются. Откутай, кричу, Нюрка-паразитка, у тебя мой мужик. Зашебуршались, но голоса не кажут. Эха лихость во мне взыграла. Ухватила дрын какой-то да по окнам. Тут уж Нюрка не стерпела — завопила на меня. Знамо дело, где ж в ту пору стеклом разживешься! Я ж ей три шибки поспела высадить. А тут и Никитушка мой, переполошный, выскочил. В одном сапоге, другой под мышкой. Ты что, говорит, шумишь-буянишь, я ж ей комод ладнаю. А-а, мать-перемать, говорю, при божьем-то свете?! Знаю, какой ты комод ладнаешь, такой-то и этакий. И на него с дрыном. А он дрын перехватил, отбросил подальше и только сказал: «Не дури». И повел домой.
Опосля-то я своим бабьим умом пораскинула, что к чему и почему. Нюрка, конечно, баба видная, ядреная. Однако ж и у нас бока не плетень — берись, не наколисся. Знать, не в этом дело. Мужик что, ухайдокается за день, ему роздых нужон — и душе и телу. Заявится на порог, а ты ему «бу-бу-бу». Того не хватает, то не справлено. Дома ворчушки да постирушки… А у той же Нюрки — ласки да пирушки. Выбирай, мужик! Зазвала комод ладнать, а заодно и свое наладила…
Не озлилась я. Сиротство, должно, научило людскую доброту в цене держать. А он у меня ласковый, душевный… Больше приветить стала.
В горнице заскрипела кровать, послышались сонные вздохи, покашливание. Простучали голые пятки по полу, и в проходе возник заспанный мужчина в голубой майке и в черных трусах.
— А вот и Никита Васильевич, легок на помине, — приветливо, не меняя повествовательной интонации, представила Меркуловна хозяина. И уже к нему: — А
у нас гости, Сережа из геологов. Привет нам от Любы и Мити привез. Крестник здоров, орет хорошо.
Щурясь на свет, Никита Васильевич не совсем осознанным взглядом скользнул по Сереге, кивнул ему и, глянув на свои голые ноги, молча развернулся в горницу. Снова объявился уже в серых полотняных брюках, но в той же майке. Подошел к Сереге, протянул руку:
— Молокоедов.
Потом сел на лавку, отирая луцо ладонями. Недавняя высокая боксовая стрижка придавала его полуседой голове задиристый мальчишеский вид. Затылок неестественно белел над загорелой шеей, уши топырком. Ни плечами, ни ростом не шел хозяин в богатыри, но в сухом жилистом теле угадывались крепость и сила рабочего человека.
— А я тут припомнила, как мы жизнь нашу начинали. Как ухажерке твоей окна считала, — без тени смущения, как о чем-то обыденном, давно отболевшем, известила Меркуловна, любовно поглядывая на мужа.
Серега же, находясь под впечатлением ее рассказа, с выходом Никиты Васильевича замер в неловкой позе и, конфузливо потирая нос, косился в его сторонуз как отреагирует? Тот молчал, в хмельном раздумье скрестив руки на коленях. Но ответил вполне трезво и серьезно, как на исповеди:
— Что было, то было… По молодости ошибку давал…
К разговору не был расположен со сна и похмелья. Добавив к сказанному: «Извиняйте меня», поднялся с лавки и простучал пятками до двери. Там сунул ноги в галоши и, прихлопывая ими, вышел в сенцы. Со двора, послышалось радостное повизгивание собак.
— Мается. Давненько так нагружаться не приходилось. Ну, говорят, телу маета, душе облегченье. Сладко ли было ему, герою войны, отцу шестерых детей по тюремным свиданкам шляться? Сам-то он золотой человек. И на руки, и на душу. А уж дети: папочка, папочка. Кажный май слетаются день рожденья его и победу отмечать. Нынче самый уронистый май случился — ни Сашка, ни Егорки не было. Горевал отец, у них с Егором любовь особая. Как-то на общем празднике старший сказал братьям и сестрам: «Меня целуйте и благодарите, шо я вам такого батьку хорошего выбрал». Что тут поднялось. Ребята повскакивали с мест, облепили Егора, чуть не с ног его свалили. А потом все вместе бросились отца качать…
Меркуловна потянулась краем косынки к повлажневшим глазам. У Сереги тоже предательски защемило в носу.
— Вот и пошутил навроде Егорка, да много в том правды. Опосля войны все папок своих в солдатской одежке выглядывали. Искал и он своего. Ему три года исполнилось, когда Никита зашел к нам на огонек. Играл с Егоркой, про войну рассказывал. Как засобирался уходить, тот ему и говорит: «Ты куда, папка? Война кончилась, и я тебя больше не отпущу…» Оседлал колени его и сидел, пока не заснул. Никита в тот вечер и остался.
В сеяцах скрипнула дверь, вернулся Никита Васильевич.
— Может, опохмелишься с нами, отец? А то мы петушку голову подсушили, скоро и до хвоста доберемся,— кивнула Меркуловна на графинчик.
Никита Васильевич отрицательно помотал головой:
— И без того горит, охолонуть бы чем…
— Кваску испей, — предложила Меркуловна, поднимаясь с места. Подошла к деревянной дежке, откинула рядно и зачерпнула кваса железным ковшом. Держа ковш чуть подрагивающими руками, Никита Васильевич, постанывая, с прихлебом осушил его до дна и благодарно кивнул. — Полегшало? — участливо спросила Меркуловна.
— Полегшало, Сюша, полегшало. Вы меня извиняйте, пойду передохну.
— Передохни, отец, передохни. А я Сереже Лысуху под седло справлю, на станцию надо.
— Справь, Сюша. А вы Гнату кланяйтесь. Скажите, буду у него скоро.
Поднялся из-за стола и Серега.
Судьбу дома своего Меркуловна досказывала на дворе, где седлали Лысуху. Лошадь, пофыркивая оборачивалась на Серегу, точно выражала недовольство, переступала с ноги на ногу.
Меркуловна сунула ему в руки краюху хлеба:
— На, дай-ка ей, пусть почует доброту твою. Серега протянул к губам животного мягкую краюху.
Губы сначала недоверчиво фр-рыкнули, потом, почуяр» хлеб, потянулись к нему, обдавая руку влажным теплом. Знакомство состоялось.
— Тут мы, можно сказать, чудом оказались. По щучьему веленью, — продолжала Меркуловна. — Вроде и обживаться стали. Хату новую подняли, не шибко дворец, однако своя крыша. Я работала на ферме дояркой, грамоты получала. Голодновато было,правда. Разор кругом — ни доски, ни полена, ни сахару, ни ситцу… Так ведь ясное дело, война-пожируха погуляла. Не роптали, силились. И жили б, как другие. Но тут в селе Никитин дядька объявился. Это все его хозяйство, — обвела руками двор, проступающий из темноты,— заразил моего рассказами о Сибири. Там, говорит, ни Мамай, ни Гитлер не ходил, все в целости — лес, река, зверье-рыба, гриб-ягода. И предложил подворьями меняться. Самого-то на старости к родным местам потянуло. Загорелся Никита, совета у меня пытает. А я спужалась: кто ж, говорю, в Сибирь по своей воле едет? Никита посмеялся и говорит уже серьезно: «Поехали, Сюша, не то, чую, сопьюсь я тут… Да и тебе старый козел житья не дает…» Это он о первом свекоре. Тот и впрямь сказился на старости. Зло берет, что зуб неймет, так он языком лягнуть норовит. Спьяну болтнул, быд-то бы Егорка вовсе не от Федора, а от него… И всякое такое. Отнять грозился… Посумерничали мы с Никитой день-другой да и снялись всем табором. Третий десяток пошел с той поры. Не жалкуем вроде, не сбрехал дядька — богатый край. Народу, правда, маловато. Зато кажный человек со всех сторон виден. А то была в тэй-то Горловке — людей возле дома одного словно в огороде морковок понатыкано. Рубль разменяй — всем по копейке не хватит. Не то что поздравствоваться, в лицо не всякому заглянуть поспеешь. Тут же у нас человеку — полный рубль внимания. И поговорить, и уважить. От внимания к другому тебя ж не убудет. Ты ему, он тебе. Был рубль — два стало… Ой, погодь, я Гнату гостинцев передам.
Меркуловна вернулась в избу. Серега остался наедине с Лысухой, дожевывающей хлеб. Погладил по шее зануздал, подобрал поводья на холке, вставил ногу в стремя, взялся за луку седла. Лошадь не проявила беспокойства. Вскочил в седло. Шагнула раз-другой и снова застыла на месте. «Ну, для таких-то скакунов и мы казаки», — порадовался Серега мирному нраву Лысухи. Словно подслушав его мысли, вышедшая на крыльцо Меркуловна одобрительно воскликнула:
— Гарный казак. А то нонче молодые попривыкли на этих жужжалках бегать и у коня путают хвост с гривой…
В багажную сумку седла она пристроила белый сверток.
— Катерина, царство ей небесное, знатной стряпухой была. Я тесто по ее уроку затеваю, и Гнату как бы от нее гостинец будет. Два лета бобылюет. На вид здоровской старухой была. Шустра, непоседлива. Всех обхлопочет, обласкает… Гнат душой на нее не нарадуется, бывала. Щебетухой звал. Прошлой весной стала дрова с поленницы брать. Три полешка взяла, за четвертым потянулась, охнула и села на месте. С тем и ушла навеки. Сердце отказало. Добрым людям, видать, раздала его, а себе не хватило… Как родные они нам. Самые ближние соседи. Они тут с войны. Фамилия Нехода, а вон куда с Полтавщины зашли. Летось ездил Гнат на родину. Там Катеринина сестра у них. Звала переезжать. Пожил неделю и вернулся. Не могу, говорит, от Кати далеко. Тут вы меня рядком и поховайте…
Лошадь, подергивая вольно отпущенное поводье, уверенно шагала неширокой просекой, изредка отфыркиваясь, все же недовольная этой неурочной прогулкой, и Серега извинительно поглаживал ее теплую шею, стараясь сидеть как можно спокойнее, приноравливаясь к ее шагу, и даже замирал на вдохе, словно этим уменьшал свой вес, когда Лысуха одолевала одной ей ведомую неровность дороги.
Серега с трудом представлял себе, как бы он один, шел здесь в темноте по невидимой, незнакомой дороге и от этого проникался еще большей благодарностью к умному животному, безропотно и осторожно несущему его. Вернее, то была даже не благодарность, а обостренное сочувственное ощущение живого существа, и не просто его теплокровности, разумности, но и в чем-то — продолжение добра и радушия его хозяев. Им, конечно, и адресована Серегина признательность. А с животными у человека особые отношения. Мы проникаемся сочувствием к ним нередко лишь тогда, когда сами испытываем потребность в сострадании, когда тревожно и одиноко на душе.
Серега по себе знает. С детства запомнилось. Как-то поколотили его ребята. Спрятался в сарае больше от обиды, чем от боли, и жаловался в слезах своему коту Барсу, которого сам же накануне отхлестал прутом за то, что тот стащил весь улов рыбы и отобедал в одиночестве. Кот, конечно, помнил Серегины хлысты, но зла не держал и, великодушно принимая ласки, терся головой о его ладони и мурлыкал, тем сразу и прощая свои обиды, и сочувствуя обидам Серегиным…
Та же березка, что встретилась ему после крика Степаныча… Будто руки навстречу протянула.
После беседы с Меркуловной настроение его не то чтобы ухудшилось, упало, оно скорее усложнилось. Яркие краски Митиной судьбы, переполнившие его на реке, вызывали милые сердцу островные видения. Но и теперь эти краски не обесцветились. Напротив, они как бы утвердились временем, что вобрала в себя живая судьба семьи Молокоедовых.
Не угасли, а устоялись. И беды и радости отцвечены более спокойно, уравновешенно, обыденно, но с той же глубиной и основательностью, которых достигают острая боль и распахнутая радость.
Пожалуй, с самого отрочества Серега любил, когда посреди затяжного «пустосмеха» и бездумья, которые сплошь и рядом случаются в свойских компаниях, ему вдруг портили настроение. Да, да, именно портили. Мишура бездумной веселости враз осыпалась, и ранимая душа после первых «обидных» минут обретала удивительное состояние — обостренно, объемно и материально ощушать весь обозримый для нее мир и болеть за него. С возрастом горизонты и заботы этого мира раздвигались. И он прятался от всех, пуще огня боясь машинально-заботливого вопроса: «Что с тобой?» Редко какого задумавшегося человека не застанет врасплох этот гвоздящий вопрос. В детстве он звучит обычно: «Кто тебя обидел?» Во взрослую пору: «Кто вам испортил настроение?», «Что случилось?»
От Меркуловны какая ж обида! Разве что за Сашку. Крутой узел его судьбы вошел в Серегу безмолвным криком. Только Сашку роковой случай разъединил с любимой, а он вот сам отправился в «добровольную ссылку»…
Серега зоговорил, и лошадь не выразила никакого беспокойства, а только попрядала ушами, свыкаясь, должно быть, с новым голосом и новыми именами, которые он произносит. И продолжая кивать, как бы соглашаясь и выражая сочувствие.
…Оля не любила писать длинные письма, и за три последних армейских месяца Серега получил целую пачку открыток. Они приходили в конвертах и в большинстве своем являли собой добротные репродукции, картин. Да разве ж в солдатском общежитии что утаишь? Яшка Синев в тянучие вечера последних недел службы частенько предлагал: «Айда в твою «третьяковку», Серега». Яшка был родом из Коломны, но считал себя коренным москвичей и заводился с пол-оборота, если кто позволял сомневаться в его столичном происхождении. Настоящую Третьяковку считал «своей», бывая там не раз, и, надо отдать ему должное, не впустую. По Серегиным открыткам мог прочитать целую лекцию, и нередко вокруг них собиралась свободная от нарядов братва. Хоть Яшка знал все представленные в открытках полотна назубок, но иногда машинально заглядывал на оборотную сторону и вместе с названием картины, конечно, вылавливал из письма какие-нибудь интимные детали. Но тут он был на высоте и не допускал комментариев.
А между тем в Яшкину трагикомическую ситуацию на личном фронте была посвящена вся рота. После августовского отпуска он вел бурную переписку сразу с тремя девчонками, и явно не на беспочвенной основе. Красавцем Яшку не назовешь. Однако Яшка нисколько не страдал от своей внешности, потому как исповедовал железный принцип: «Мужчина должен быть не красивым, а решительным». И, видно, перестарался, следуя ему на практике.
Было непривычно видеть Яшку всерьез задумчивым и даже растерянным, когда оставались считанные дни до возвращения домой. Разложив перед собой три фотокарточки с пылкими дарственными подписями, он подолгу разглядывал их, вслух живописуя достоинства каждой, и апеллировал к ребятам: «Какая больше нравится?» Когда очередь дошла до Сереги, он ответил: «Четвертая». Яшка с недоумением глянул на него а, сообразив, сказал: «Покажь».
Не любил Серега распространяться о своих чувствах, но лишний раз посмотреть на Олю было приятно, и он извлек из тайного нагрудного кармана снимок, который сам выбрал из вороха фотографий, показанных Олей, и назвал его «неожиданным». Объектив застал Олю врасплох. Ее окликнули в минуту отрешения. Она оглянулась. Правая щека вышла из-за ровно спадающих волос, а левая осталась прикрытой их волной, осевшей на плече… В глазах — удивление…
— Хороша-а, ничего не скажешь, — со взодох протянул Яшка, а кто-то из ребят подначил его:
— Такая одна всех твоих стоит.
— Потому и стоит, что одна-а, — неожиданно согласился с ним Синев и спросил у Сереги: — Сам снимал?
— Да нет, — замялся тот.
— А на кого ж это она так загадочно смотрит?
Не подозревая, Синев затронул одну из болезненных тем. Серега и сам нет-нет, а задумывался над этим. И мучил себя неразрешимым вопросом: имеет ли он право перехватывать взгляд, предназначенный не ему? Но вспоминался остров, и все сомнения улетучивались сами собой.
Впрочем, вскоре все разрешилось довольно просто: Оля и его одарила подобным взглядом, и автор снимка предстал перед ним…
О дне возвращения из армии Серега не сообщал никому. Решил явиться сюрпризом, как и положено десантнику, хоть и уволенному в запас. В Ростов прибыл воскресным утром. Прямо с вокзала позвонил Оле. Трубку подняла мать и ответила, что весь день Оли не будет. Допытываться, где она, не посчитал возможным, потому как еще не был представлен ей. Чтобы не объявляться у тетки своей раньше времени, вещи сдал в камеру хранения и отправился в общежитие к Люське. На его счастье, та оказалась на месте, но встретила как-то странно. Обрадовалась, конечно, в щеку чмокнула. Но все как-то вяло, без присущего ей энтузиазма, не то что летом на пляже. А когда про Олю спросил, вовсе сникла. На дачу, говорит, с компанией собиралась.
— А как же ты? — спросил.
— А ты? — ответила.
— Я сейчас двину туда…
— А я воздержусь. Счастливо повеселиться…
От встречи с Люськой остался осадок, но он списал ее странности на ревность. А в этом деле какой из него помощник, и потому поспешил ретироваться без объяснений, поглощенный одной мыслью, одним нестерпимым желанием — поскорее увидеть Олю.
Дачу нашел без особого труда. В августе они с Олей перед отъездом были здесь. Вспомнилось, как смутил он ее тогда. Пораженный роскошью двухэтажного дачного особняка из пяти комнат с камином, телевизором и коврово-гарнитурным оформлением, спросил, где работает отец. «Строитель он», — скромно ответила Оля. А Серега не удержался, от восклицания: «Сразу видно, хор-роший строитель!»
У дачной калитки, несмотря на пасмурный ноябрьский день, вызывающе поблескивали две новенькие «Лады». Ярко-синяя и красная. Синий цвет сразу же вызвал у Сереги необъяснимый внутренний протест. Он неприязненно покосился на машину и вдруг застыл на месте. Со стороны могло показаться, что его настиг приступ. Правая рука метнулась к груди. Так хватаются за сердце. А глаза неподвижно уставились в одну точку… И этой точкой был встречный взгляд Оли, такой знакомый и любимый…
В машине, на самом видном для сидящего за рулем месте, был вмонтирован «неожиданный» снимок, только значительно большего размера, чем тот, что хранился у Сереги в нагрудном кармане.
Как и положено при сердечном приступе, Серега постоял, осторожно переводя дыхание… И сразу по-иному осветились Люськины странности. Она оставалась верной себе: болела чужой болью и говорила о людях только хорошее или не говорила ничего…
Из дачи послышался многоголосый приглушенный смех, и Серега невольно оглянулся. Серый пейзаж поселка был бесприютно пустынен, и только из одной трубы валил бойкий дымок. Ветер подхватывал его, сносил в сторону, и создавалось впечатление, что пройдет еще минута — и дача, как неуклюжий пароход, тронется в неведомое плавание, а он, Серега, как безбилетный, останется на берегу… Мысленно досчитав до тринадцати, Серега дернул за кольцо калитки.
Открывая дверь в гостиную, где кипело застолье, он услышал фразу: «А вот и третий». Говорящий, долговязый парень с мелкими чертами лица, но с пышной кучерявой шевелюрой, стоял в театральной позе и, первым увидев Серегу, находчиво сделал выразительный жест в его сторону. Все обернулись и прыснули неудержимым смехом. Маленькая пухленькая девица в зеленом лягушачьем платье провизжала: «Марик, ты гений, гений!» — и повисла на нем, пытаясь раскрашенными губами дотянуться до его лица. Но Марик застыл в триумфальной позе, довольно смешно выпучив глаза, и не обращал на нее никакого внимания, упиваясь произведенным эффектом. Бородатый очкарик, казалось, задохнулся смехом и, отстукивая вилкой по столу, с трудом выхихикивал: «Двадцать копеек… двадцать копеек…» Спрятав лицо в ладонях, смеялась его соседка с длинными выбеленными волосами. Запрокинув русую голову и держась обеими руками за бока, хохотал и третий парень.
И только Оля, обернувшись через левое плечо, смотрела на Серегу как с фотографии.
После встречи с Люськой, совершая долгий путь в дачный пригород, Серега еще наивно надеялся, что Оля, как хозяйка дачи, может оказаться свободной от пары, что собралась студенческая компания, чуть ли не девичник. После встречи с синей «Ладой» от наивных надежд остались жалкие воспоминания, но и те превратились в ничто, стоило ему переступить порог. Неумолимое «три на три» не оставляло иллюзий. И теперь в висках стучало одно-единственное: «Кто он — «синий»?»
Оля, сообразив наконец, что произошло, встала из-за стола и подошла к Сереге.
— Снова с неба? — сказала, глядя прямо в глаза, и улыбнулась почти как ни в чем не бывало. — Раздевайся…
Серега снял бушлат, сдернул с головы берет и оглянулся по сторонам, не зная куда деть их.
Ему бы с Олей к вешалке в коридор выйти. Хоть на несколько мгновений побыть с глазу на глаз. Не маскируясь, сказать долгожданное «здравствуй!». Успокоить друг друга коротким поцелуем или просто взглядом радостным.
Но оба чуть растерялись. Чуть промедлили. Чуть поспешили отвести глаза.
Оля, приняв одежду, подтолкнула Серегу к столу.
— Знакомьтесь, это Сережа, — сказала она, обращаясь ко всем, а сама вышла в коридор.
Компания еще не остыла от приступа смеха: вздыхала, всхлипывала, охала.
— Ну, старик, ты в самый раз угодил, хи-хи. Тебе тоже — двадцать копеек, — с умилительной слезой в голосе выговаривал очкарик, подавая Сереге вялую руку. И пока Серега обходил всех, тот следовал за ним, пытаясь изложить суть анекдота, финал которого ему невольно пришлось так усилить своим появлением. Но, выговорив пару слов, очкарик принимался хихикать, и поэтому Серега ничего не понял. Да и не до анекдота было ему. Сам не зная зачем, он вдруг стал представляться всем «Сер-регой», и впервые привычная для него форма имени звучала коряво и резко, царапая горло рычащими «р-р», которые он всякий раз усиливал.
Ни лиц, ни имен девчат он не запомнил. Но в каждого из парней впивался взглядом-вопросом и с излишним чувством клещил им руки, совсем не мужские, и если с зачатками мозолей, то разве что от шершавой ручки «дипломата».
Оля вернулась в комнату, когда он прорычал свое имя последнему из компании — русоволосому, церемонно назвавшемуся Валерием. Он был, пожалуй, старше всех здесь.
По тому, как растерянно метнулся взгляд русого от него к Оле и обратно, Сереге все стало ясно. И он мысленно прокричал себе: «Он… он «синий»… Глаза даже под цвет…» — и, уже не сдерживая себя, с отчаянием стиснул узкую длиннопалую ладонь.
Валерий вздрогнул и отшатнулся. Краска залила его бледное заостренное лицо.
— 3-зачем ж-же так… Я… Я м-музыкант, — заикаясь, тихо сказал он и посмотрел осуждающе.
Сереге стало совсем худо.
— Простите, я не знал… Я не хотел…
Оля, почуяв неладное, поспешила к ним. Взяв Серегу под руку, она развернула его лицом ко всем и объявила:
— А Сережа знает «Мцыри» наизусть. Давайте хорошо его попросим.
Эх, Олюшка, Олюшка, как ты поспешила!
— О-о! Это очень современно! Ор-ригинально! «Старик, я слышал много раз…» — всхлипнул очкарик.
Серега едва сдержался, чтобы не вырваться из рук Оли, не оттолкнуть ее, так неожиданно и остро жигануло его это нелепое представление. Он даже глаза закрыл. Но считать было некогда… Стиснув зубы, он едва перевел дух и заговорил как можно медленнее:
— Что вы, что вы… Какие «Мцыри»… За сто три дня и сто три ночи можно не только поэму забыть… У меня сейчас даже с таблицей умножения туговато. Например, никак не разрешу проблему, что получится, если умножить два на два… или три на три…
Очкарик, пожалуй, первый почуял, что в воздухе пахнет грозой.
— Внимание, внимание! — возопил он. — Прошу всех сесть.
Стали рассаживаться. Нашлось место и Сереге рядом с Олей, которая недоуменно поглядывала на него и, кажется, начинала понимать свой промах, потому что красные пятна, словно отблески горящего камина, отразились на ее лице.
— Уважаемые мусульмане и мусульманки! — снова завопил очкарик, воздев к небу руки. — Факир Сэр-йога еще трезв, и номер отменяется. Выступа-ает все тот же несравненный Марк ибн Шехеризад, способный и за одну ночь выдать всю тысячу истин с цветными картинками…
Марик с готовностью вскочил и степенно раскланялся.
— Братья мусульмане! — в тон очкарику, старательно понижая голос до жидкого баса, начал он. — Прежде чем приоткрыть очередную страницу черной магии, позвольте совершить обряд причащения, ибо, как сказано в Коране на тысяча надцатой странице: «Бойся трезвого!»
— Штраф! Штраф! — завизжала девица в зеленом. Серега, конечно, понимал, что ему как всякому инородному телу надо либо испаряться, либо растворяться. Компанейцы вели себя вполне по-джентльменски, в то же время не упуская возмождость набирать баллы за его счет. Обижаться на них было больше чем глупо, и он решил подыграть. Жаль, Яшки нет рядом. Уж с ним бы они показали этим умникам, куда раки в самоволку ходят…
— Слушаюсь и повинуюсь, — сказал он довольно созвучным тоном, поднимаясь с места и обводя всех взглядом. Две пары вполне заинтересованно, на грани смеха, взирали на него, и только в глазах «синего» и Оли сквозила откровенная настороженность.
— Но дозвольте мне по-христиански чашу свою испить.
Решительным жестом он взял со стола вазу с печеньем и опрокинул ее содержимое прямо на скатерть. Чаша была готова. Дотянулся до ополовиненной бутылтки с водкой и слил остаток ее в вазу. Над столом прошелестел возглас одобрения. Затем Серега, не давая никому опомниться, накрошил в водку хлеба, вынул из салата столовую ложку и со словами «причащается раб божий» стал хлебать.
Подобного сам он еще не вытворял и даже не видывал, но от всезнающего Яшки слышал, что это впечатляет.
Яшка не врал: впечатление он произвел «потрясное» (возглас девицы в зеленом). Но весь фокус заключался в том, чтобы процесс разжевывания происходил неторопливо, с обязательной улыбкой смакователя. Серега не ведал, что творилось у него на лице, но внутри он ощущал себя препротивно, под стать своему душевному смятению. Но, кажется, даже рад был тому. Точно наказывал себя и за то, что явился сюда незванно, и за то, что затеял эту изуверскую процедуру…
Однако клин клином не вышибался и противность на противность не подчинялась математическим законам — не перекрещивались минусы в плюс. Отступать было некуда. И он все-таки испил,- вернее исхлебал, чашу свою до дна и нашел в себе силы окинуть присутствующих победным взором. На Олю было невозможно смотреть — открытая форма страдания на лице. Остальные тоже будто по пол-лимона откусили. Очкарик, правда, пытался вынести высшую оценку и не своим голосом прохрипел: «Двадцать копеек»… Но Серега оборвал его:
— Па-апрашу абсолютного силянса!
Последнее слово — Яшкин фокус: на французском оно означает «тишину», а действует на других по смыслу как раз в силу своей непонятливости…
Компания безмолвствовала, а Серега уже знал, как поставить последнюю точку. Когда он провозглашал свой «силянс», его качнуло вперед, и, прислонившись бедром к ножке стола, он ощутил в кармане забытый взрыв-пакет, который выклянчил перед отъездом у пиротехника, чтобы отсалютовать где-нибудь на берегу Дона встречу с Олей. Что ж, встреча, какая-никакая, а состоялась и «висевшее ружье» должно выстрелить.
— Дым из ушей! Последний раз в сезоне! Слабонервных просим удалиться, — провозгласил Серега и обратился к очкарику: — Па-апрашу сигарету.
Тот с поспешностью выхватил из кармана пачку и протянул через стол. Серега не без труда извлек из нее сигарету и, стараясь идти медленно, пошире расставляя ноги, направился к камину. Чувствуя себя бутылкой, по самую пробку наполненной чем-то тошнотворным, Серега не стал склоняться к огню, опасаясь естественного исхода, а присел у камина, незаметно вынув из кармана «игровую артиллерию». Дальше — дело техники. Все внимание зрителей отвлек на сигарету, показательно ткнув ее в раскаленный уголь. Одновременно поджег бикфордов шнур взрывпакета и скрытно поставил его у ног на жестяной лист прикаминья. Распрямился, сделал вид, что глубоко затягивается и глотает дым. Отыскав глаза Оли, начал громко считать…
В тайну счета до тринадцати была посвящена лишь Оля. Тогда был град… Сейчас грянет гром. Салют в ее честь… Все, что он говорит и делает сегодня, — для нее, ради нее. Правда, в честь или в месть — сразу не разберешь. Но именно в эти мгновения, когда он открыл счет и смотрел ей в глаза, он вдруг обрел восторженное ощущение своего всемогущества — над ней ли? Над собой ли? Она глядела на него так, словно не только в комнате, но и на всей, на всей земле не было больше ни единой души, достойной внимания…
Кольцо было сдернуто раньше, и дьявол не усидел до рокового числа… Гром грянул оглушительнее, чем мог предположить сам устроитель фокуса. Сказалось закрытое помещение. Серегу подхлестнуло взрывной волной, обволокло дымом. Послышались девичьи взвизгивания, грохот опрокинутого стула, лязг посуды.
Когда дым разбежался по углам и соседним комнатам, открылась довольно веселая картина. Несравненный факир Марк ибн… в самой глупой позе сидел на полу у ног своей дамы. Очкарик, опираясь левой рукой о тарелку с салатом, указательным пальцем правой суматошно скреб изнутри окуляр очков. Искусственная блондинка, испуганно съежившись, пряталась за его спиной. Зажав уши ладонями и зажмурившись, замерла на своем месте Оля. Изумленно таращил глаза «синий» Валера…
Как ни в чем не бывало Серега надавил на пусковую кнопку магнитофона, стоящего на тумбочке, и громко объявив: «Кавалеры приглашают дам», с трудом оторвал от стула девицу в зеленом. Она встала перед ним, но, как испорченная заводная кукла, лишь дергала руками не в такт музыке и не могла сдвинуться с места…
Первой захохотала Оля. За ней охнул, схватившись за бока, «синий».
Да, в Олину компанию он вломился с шумом и грохотом. И если у кого и была какая спесь по отношению к нему, то на первых порах ее начисто сбило натуральной взрывной волной. Но самих спесивцев отнюдь не повергло в смятение. Кавээновские мальчики, они довольно ловко умели добывать свои «двадцать копеек» и сохранять хорошую мину при любой игре.
Вот и тогда, поднимаясь с пола, устланного ковром, опомнившийся Марик еще бодрее обычного завопил:
— О коллега! О достойнейший Сэр-Йога! Вы доставили мне истинное удовольствие. Я чувствовал себя как на ковре-самолете.
— А я был явно не в своей тарелке, — вставил очкарик. Аристократическим жестом, словно снимая перчатку, он демонстративно обтирал салфеткой майонез с пальцев левой руки.
И дивиденды от нового прилива смеха, если и не полностью, то львиной долей переметнулись уже к ним. А бурный дебют незначительными пешечными жертвами был искусно переведен в спокойное русло изнурительной для Сереги позиционной борьбы, для которой у него уже явно не хватало пороху. Весь его запас в буквальном и фигуральном смысле он израсходовал са этот фейерверк, но заработал лишь вступительный балл, вернее контрамарку, разовый входной билет…
— Ну, теперь никто не сможет сказать, что мы не нюхали пороху, — продолжал подчинять себе ситуацию Марик. — И можно слегка проветрить наши апартаменты.
Противник великодушно делал нейтральный выжидательный ход, и Серега с готовностью принял его. Тем более что пора была начинать игру на другой, главной для него, доске. Впрочем, партия эта грозила закончиться всего в несколько ходов. У соперника могла оказаться беспроигрышная домашняя заготовка. И к тому же «синий» явно предпочитал играть белыми…
Несколько помявшись, он сделал первый ход: предложил Сереге выйти на свежий воздух покурить. Конечно, за первый ход можно было принять и Серегино рукопожатие, только сам он считал его очень неудачным, дурным даже, тогда как фотография в «Ладе» не вызывала сомнений.
Они вышли в сад. Уже вечерело, но было еще достаточно светло, чтобы видеть, как мелко подрагивали истинно музыкальные пальцы «синего», когда он протягивал пачку с сигаретами.
— Спасибо, я не курю, — отказался Серега и добавил: — Это я фокуса ради… Дым из ушей…
— А я с вашего позволения…
Серега согласно кивнул, хотя запах табачного дыма как раз был далеко не в его пользу. Его прилично мутило, и он бы с удовольствием подышал свежим воздухом безо всяких приятных собеседников, а еще лучше — окунул бы голову вон в ту бочку с дождевой водой…
«Синий» прикурил от газовой зажигалки и несколько раз жадно затянулся, тактично выпуская дым в противоположную от Сереги сторону. Весь он был такой убийственно вежливый, предупредительный, чистенький, будто накрахмаленный, что казалось, вырос из собственного хрупкого, холеного пальца. И Серега с грустью» подумал, что драться он, конечно, не умеет и не будет. Да к тому же у них совершенно разные весовые категории. И что, отмаявшись затяжками, он обязательно затеет так называемый «мужской разговор». А ему, Сереге, надо будет поглощать ушами весь этот словесный дым. Да еще чувствовать себя кругом виноватым.
Докурив сигарету, «синий» тщательно погасил ее о кирпичную стену и оглянулся по сторонам в поисках урны. Но таковой рядом не оказалось, и он неожиданно швырнул окурок в бочку, до краев наполненную водой.
«У-у, чертов пожарник, замутил-таки», — с досадой подумал Серега.
А «синий», нервно массируя руку, наконец заговорил:
— Сережа, понимаете, мы дружим с Ольгой уже более семи лет. — Он запнулся, сообразив, что дал маху. — Вернее, я знаю ее так давно… Я близко знаком с ее родителями… Я учил ее музыке. Ну, это не столь важно.
Он снова замолчал, нервничая, что неудачно начал.
— Вы же, насколько мне известно, познакомились с Ольгой этим летом. Точнее, в августе. Верно? — «Синий» впился в него пытливым взглядом.
Серега хмуро молчал.
Не дождавшись ответа, «синий» с опаской зыркнул на дверь и спросил приниженным трагическим голосом:
— У вас с ней что-нибудь было?
Вот когда Серега пожалел, что у них действительно различные весовые категории. Он только сжал кулаки и готов был заорать во всю глотку прямо в заостренное личико «синего», в его пытливо ввинчивающиеся в душу глаза: «Было! Все было! Было, есть и будет!!!»
Но послышались шаги, и с веранды сбежала Оля.
— Вот вы где? Сережа, тебе обязательно надо хорошенько поесть, — просто сказала она и, заметив, что «синий» усиленно мнет руку, всполошилась: — Что, Валерий Аркадьевич, болит? Может, смажете йодом?
«Синий» вспыхнул, обиженно дернулся, спрятал большую руку в карман пиджака и выпетушил грудь.
Сереге эта маленькая сценка определенно пришлась шо душе, и он спустил на тормозах свое негодование.
«Хм… Аркадьевич… смажете… Это уже что-то значит», — отметил он про себя, а вслух сказал, почти пропел облегченно-бодряческим голосом:
— Поесть — это всегда-а можно. Это даже очень хор-ро-шо-о — хор-рошенько поесть. А то мы, солдатушки-ребятушки, целу ночку не емши, мы, служивые, целый день не спамши…
И, пропев это, Серега, расстегивая на ходу китель, направился к бочке. Одним движением, через голову, сорвал с себя китель прямо с майкой и бросил их на яблоневую ветку. Заглянул в воду. Брезгливым щелчком сбил с ее поверхности окурок. Взялся руками за края бочки. Хохотнул, довольный. И, сказав-пропев: «Кончил дело — ныряй смело», ухнул головой в воду по самую грудь, задрав ноги вверх. Подрыгал ногами, побулькал, выпуская воздух, и замер, прислонившись к стене. Дождался, когда две знакомые руки стали робко теребить его за штанину. Подождал еще. К знакомым нежным рукам присоединились еще две более решительные, но такие же слабые. Посопротивлялся немного, а потом одним махом, оттолкнувшись ногами от стены, а руками от бочки, выскочил из воды, обдавая холодными брызгами и хохотом своих «спасителей»…
— Сережка, сумасшедший, простудишься! — почти как Люська, радостно и тревожно воскликнула Оля и метнулась на веранду. Тут же вернулась с огромным, в полпростыни, полотенцем, накинула его на Серегины плечи и двумя руками стала растирать ему спину. Хохоча и отфыркиваясь, Серега одним концом полотенца осушал себе лицо, другим надраивал грудь, которая сразу же взялась малиновой испариной.
— Ненормальные… Варварство какое-то… Детский сад… — ворчал Валерий Аркадьевич, механически продолжая стряхивать со своего светлого костюма давно впитавшуюся в ткань воду. В пятнистом костюме он напоминал тощего рассерженного гепарда, угодившего задом в муравейную кучу: рычал, отряхивался, но не двигался с места, ни на минуту не позволяя себе оставлять Олю наедине с Серегой.
Так втроем они вернулись в гостиную, которая оказалась пустой. Ни у Оли, ни у «синего» это обстоятельство не вызвало никакой реакции. Усадив Серегу за стол, Оля принялась потчевать его разными копченьями, соленьями, вареньями. И пороховой запах, который еще витал в комнате, вскоре заслонился ароматом деликатесов, от которых он давным-давно успел отвыкнуть. И первые минуты, по инерции купального возбуждения и голода, Серега с аппетитом уплетал все, что подкладывала в его тарелку щедрая Олина рука.
Валерий Аркадьевич, как вошел в комнату, сразу же прикрыл окно и отстранение сел в кресло у камина. Придвинувшись поближе к огню, он поворошил маленькой блестящей кочережкой догорающие поленья и стал поочередно обращать к жару полы пиджака и брюк. На глазах темные гепардовые пятна стали исчезать, и Сереге, с веселой улыбкой наблюдавшему за этой картиной, он уже казался неопасным и мирным. Огонь в несколько минут укротил в нем мультфильмовского хищника, но был бессилен снять с его лица бутафорию смертельно оскорбленного человека.
Вдруг из соседней комнаты сквозь притворенную дверь донесся приглушенный девичий смешок. Эхом перекликнулся с ним скрип то ли половиц, то ли дивана на втором этаже.
Кусок нежнейшей корейки каштановой колючкой перекрыл горло. Серега задохнулся, настигнутый внезапной догадкой: «Ведь если бы его не было здесь… Она бы… Оля… с этим».
Он отложил вилку в сторону и, чтобы не закричать, вцепился обеими руками в сиденье стула. Стул заскрипел. Оля подняла глаза. Их взгляды встретились. По инерции она еще сказала ему: «Ешь, ешь, чего ты…» Но взгляд ее тяжелел. Она тоже все слышала и поняла его мысли и чувства…
«Оля, Олюшка, как же так?! Как же так?!» — кричал, молил, вопрошал его взгляд. А голос, вырвавшись из удушья, ответил:
— Спасибо… Я, кажется, сыт…
Снова дурно пахнуло пороховой гарью, и все недавние Серегины облегчения, радости, промелькнувшие надежды враз осыпались, точно пепел с потухших углей. Жалким и никчемным представилось ему все, что он успел тут натворить. Вот именно — дым из ушей… Пляска на собственных похоронах.
И его уже не обнадеживал оскорбленный вид «синегo». Их треугольник вновь ощетинился непримиримыми жалами углов.
Партия зашла в тупик… И теперь только сама Оля могла привести ее к логическому завершению.
И она сделала два решающих хода.
Первый, когда рассаживались по машинам.
Серега сел на заднее сиденье синей «Лады». Валерий Аркадьевич помог Оле закрыть дачу и разместился за рулем. Оля обежала машину. Валерий Аркадьевич предупредительно приоткрыл переднюю дверцу. Серега весь сжался, чувствуя себя ничтожно малым. И когда Оля распахнула ту дверцу, все в нем рухнуло, и он, обессиленный, утонул в мягком сиденье, как в сугробе… Но Оля не села рядом с водителем, а лишь положила там хозяйственную сумку и захлопнула дверцу. И от ее хлопка, как от выстрела, вздрогнули и опали плечи Валерия Аркадьевича, А Оля уже дергала за ручку вторую дверцу и никак не могла открыть ее. И никто из сидящих внутри мишины не в силах был ей помочь. Потом до Сереги наконец дошло, что замок дверцы застопорен, и он вялой, непослушной рукой потянулся к резиновой кнопке и не сразу сумел извлечь ее из углубления. Оля села в машину, и новый хлопок дверцы вскинул и опустил-плечи Валерия Аркадьевича.
«Поехали», — сказала Оля. И Валерий Аркадьевич встрепенулся, задвигался, но как-то сумбурно, суматошно, словно перепутал вдруг свои руки и ноги. И они никак не могли разыскать положенные им педали и рычаги. Наконец машина дернулась и, словно заикаясь, скачками одолевая первые метры, пустилась вдогонку за умчавшейся красной «Ладой».
Серега неотрывно смотрел на Олино фото, боясь взглянуть на живую, сидящую рядом, веря и не веря в реальность происходящего.
Второй и, пожалуй, финальный ход был сделан у Олиного дома. Она уже покидала машину, когда Валерий Аркадьевич, не оборачиваясь, спросил у Сереги: «А вам куда, молодой человек?»
Оля ответила за него:
— Нет, нет. Сережа — мой гость, он к нам. Спасибо, Валерий Аркадьевич. Спокойной ночи, — и потянула за рукав опешившего Серегу.
Пока они шли к подъезду, машина, затаясь, безмолвствовала, и Сереге подумалось, что будет совсем весело, если «синий» на правах друга семьи, учителя музыки или еще бог знает кого пойдет за ними по пятам и вся дачная кутерьма перекинется в дом, где его, Серегу, совсем не знают, не ждут и, быть может, знать вовсе не желают. И тут никакие фокусы: ни дым из ушей, ни стойки на ушах — не помогут. И лучше бы не объявляться сейчас, да еще в солдатском облачении. Хоть он и не стыдился никогда до этого формы, а, наоборот, вполне объемно чувствовал себя в ней «достойным представителем», но ведь кому безразлично, как на него посмотрят другие…
Как-то еще в начале службы стоял в оцеплении у шоссе, временно перекрывая съезд на проселочную дорогу, проходящую мимо стрельбища. Накрапывал мелкий ноябрьский дождь. По трассе, дразня вольной озабоченностью, шмыгали влево и вправо машины, и никому из сидящих в них не было дела до одинокой солдатской фигуры, пристывшей к пустынной обочине и всем своим видом подчеркивающей бесприютность осеннего пейзажа. Со стороны глянуть — какая тоскливая картина! А он чувствовал себя бодро, приподнято даже. Ни холодная морось, зудливо окропляющая лицо и залетающая за шиворот, ни одинокость долгостояния не угнетали его. Было хорошо сознавать в себе неистощимость внутреннего противодействия всяким мелким испытаниям…
И вдруг этот взгляд из новенького «Москвича»… Девушка, сидевшая рядом с водителем, своим ровесником, долго и пристально смотрела на Серегу, пока они ехали мимо него, и даже оглянулась. И было в том взгляде столько сочувствия и жалости, что Сереге вдруг и вправду стало неуютно и одиноко…
— Может, не надо сегодня? Может, я пойду, Олюшка? — приостановился Серега перед самым входом в подъезд.
Оля внимательно заглянула ему в глаза и вдруг положила обе руки на его плечи:
— А я ведь тоже умею считать до ста трех… Ну, здравствуй, — сказала она нежно и потянулась к его губам.
Неистово взвыл мотор «Лады». Раз, другой. Серега пытался было прервать поцелуй, но Оля крепко обнимала его за шею и не выпускала. «Снова «синий», должно быть, ноги перепутал», — совсем не весело подумал он.
Наконец машина отъехала, и Оля расслабила объятия. Но Сереге самому уже не хотелось размыкать их.
— Не сердись за это показательное выступление, хороший мой, — сказала Оля минуту спустя, виновато улыбаясь. — Но он все верить не хотел… Нафантазировали они с мамой бог знает чего, да только меня спросить забыли. Он ведь мой почти пеленочный «жених». Сколько насмешек от девчат и ребят вытерпеть пришлось. Спасибо Люсе, что украла меня летом, пока он на гастролях был… Валерий Аркадьевич, конечно, по-своему добрый человек, много сделал для меня… И мне очень неприятно, что приходится вот так. Но что же делать, если взрослый, а как ребенок…
Серега не сердился, но ему тоже было не по себе от этой нарочитой открытости и оттого, что его предчувствия относительно предстоящей встречи недалеки от реальности.
Дверь в квартиру Оля открыла своим ключом. Просторную прихожую освещало экзотическое бра, сработанное под старинный уличный фонарь. Приглушенный свет представил взору Сереги с полдюжины дверей, причем ни одна из них ни по форме, ни по отделке не повторялась. Центральная дверь, наполовину застекленная матовым рельефным стеклом, была распахнута. Из комнаты доносился знакомый дикторский голос.
— Раздевайся, — почему-то шепотом скомандовала Оля. И подала ему свое пальто. Серега, заражаясь ее таинственностью, быстро повесил пальто в широкий шкаф-вешалку и рядом пристроил свои бушлат с беретом. Покосился на огромное трюмо, с удовлетворением поймал в нем свое довольно бравое отражение.
— Мама, встречай гостей! — громко позвала Оля и ободряюще подмигнула Сереге.
Из глубины комнаты, перекрывая телевизионные звуки, донеслось певучее «иду-у, иду-у» и уже ближе:
— Почему так рано? Еще и «Время» не кончилось,— игриво проворковал женский голос, и в прихожую выплыла дородная женщина в цветастом кимано, которое, несмотря на богатый колорит, все же проигрывало в яркости пламенеющему факелу ее высокой прически. Не давая матери опомниться, Оля обняла ее за плечи и подвела к Сереге:
— Знакомься, мамочка, это Сережа. Я тебе о нем рассказывала…
И та, автоматически повинуясь дочери, еще сохраняя улыбку на лице, протянула руку, назвалась Ларисой Анатольевной и уже угасающим голосом, утратившим игривость и воркующие нотки, растерянно пробормотала:
— Очень приятно, очень прия… — И, как бы не доверяя своим глазам, блуждающим движением руки пошарила по стене и включила верхний свет. Еще ярче вспыхнуло пламя ее прически, с которой совсем не вязались растерянные голубые глаза, метавшие вопрошающие взгляды то на дочь, то на гостя: — А где же… где же…
— Валерий Аркадьевич любезно подвез нас к дому, велел тебе кланяться и отбыл домой, — как ни в чем не бывало известила Оля и, не давая матери прийти в себя, добавила как решенное: — А Сережа сегодня ночует у нас, потому что автобус в его станицу идет только утром.
— Как у нас?! Но папа же в командировке…
— Вот и отлично. Сегодня можешь спать спокойно — нас будет охранять настоящий гвардеец. — Оля сделала жест рукой в сторону Серегиных знаков армейской доблести, — не в пример нашему папочке, офицеру-заочнику.
Лариса Анатольевна послушно последовала взглядом на китель, но мало что поняла и снова уставилась на дочь, которая, не сбавляя темпа, продолжала развивать свою мысль:
— Так, Сережа расположится в моей комнате, а я лягу в большой на диване… А чего ж мы стоим? Гостю нужны тапочки.
Лариса Анатольевна склонилась к обувному ящику, размещенному под вешалкой, и вынула из него черные кожаные тапочки, отороченные задиристо-белым мехом.
— Что ты, что ты, мама! Эти же только Валерию Аркадьевичу впору. Давай-ка папины шлепанцы. Он ведь у нас все-таки мужчина, — бросила Оля, все больше входя в роль распорядителя.
Но Лариса Анатольевна стояла неподвижно с черными тапочками в руках, отказываясь что-либо понимать, и Оля сама подала Сереге широкие коричневые шлепанцы:
— Вот тебе «ни шагу назад», переобувайся и марш в ванную, — тоном, не допускающим возражений, приказала она. — Мама, принеси пожалуйста, свежее полотенце.
Лариса Анатольевна, не издав ни звука, как была с тапочками в руках, так и отправилась в комнату, откуда явилась недавно. Оля скрылась в смежной. В прихожую вернулись одновременно, держа в руках по матерчатому свертку.
— Я тут папе халат ко дню рождения купила… Думаю, что Сереже подойдет…
— Но у папы же летом день рожденья, — недоуменно заметила Лариса Анатольевна.
— Тем лучше, успею какой-нибудь другой подарок купить, не моргнув глазом отреагировала Оля, взяла из рук матери полотенце и подтолкнула Серегу в ванную. В беспяточных шлепанцах действительно шагать можно было только вперед, и Серега покорно двинулся в заданном направлении.
Плотно прикрыв за собой дверь, Оля пустила в ванну шумную струю воды и оглянулась на Серегу. Лицо ее беззвучно смеялось. Глаза слезились. Губы подрагивали. Она не удержалась и прыснула в ладони:
— Ой, не могу… Все! Бросаю строительный, иду в артистки… Если б ты знал, как тяжко было сдержать хохот, глядя на вас с мамой.
Серега перевел взгляд на зеркало и не мог не согласиться с ней: от бравого вида остался один мундир.
— Ладно, как ты там поешь: начал дело — ныряй смело, — отсмеявшись, сказала Оля, плеснула в воду из пузатой пластмассовой бутылки темно-зеленую струю шампуня, чмокнула Серегу в губы и, уходя, воинственно вскинула голову и продекламировала: — Пока солдаты ходят в бани, заменим их на поле брани.
Выход из ванной да еще в халате, которого Серега сроду не имел чести носить, стоил ему, прямо скажем, усилий немалых. Но Оля была начеку и тут же сопроводила его в свою комнату, где тахта уже светлела свежими простынями. Разместив свое тщательно сложенное обмундирование на стуле, Серега выпрямился перед Олей в ожидании дальнейших распоряжений, без которых он и в самом деле не мог тут сделать ни шагу.
Предстояло еще вечернее чаепитие на кухне. Кухня оказалась пуста. Серега облегченно вздохнул и принялся было уплетать бутерброд. Но «факельное шествие» продолжалось — со страдальческим выражением на лице в кухне объявилась Лариса Анатольевна. Челюсти у Сереги сразу сомкнулись капканом, а спина стала выгибаться, как по команде «смирно».
Лариса Анатольевна потопталась возле газовой плиты, заглянула зачем-то в холодильник, переставила с места на место кастрюли и замерла посреди кухни, рассеянно глядя на гостя.
Под ее взглядом Серега весь напрягся, перенес руки со стола на колени, готовый в любое мгновение вскочить.
Одна только Оля не теряла присутствия духа и даже умудрялась шутить:
— Мамочка, под твоим генеральским взором Сережа ни к чему не притронется. — Она подошла к Ларисе Анатольевне, обняла ее за плечи. — Тебе нездоровится? Иди отдыхай, я скоро зайду к тебе.
— Да, да, у меня, кажется, разболелась голова, — подтвердила Лариса Анатольевич и руку поднесла ко лбу.
«Немудрено под таким-то огнем», — мелькнула у Сереги ехидная мысль, и он подумал, что все это «синий» его под ребро шпорит, если он на женщину… на Олину маму так позволяет себе… А ведь он и в самом деле, глядя на нее, все время думал о «синем». Наверно, потому, что Лариса Анатольевна тоже думала только о Валерии Аркадьевиче и не пыталась этого вовсе скрывать. Именно он, Валерий Аркадьевич, своим отсутствием держал их в воинствующем неприязненном напряжении.
Поняв это, Серега заставил себя расслабиться и миролюбиво, извиняюще даже, пожелал Ларисе Анатольевне «спокойной ночи», когда она в сопровождении Оли покинула кухню. Только вряд ли пожелание это возымело хоть какое-нибудь действие.
— Ты прости, что я тебя вот так, без подготовки, — виновато сказала Оля, возврагясь в кухню, — не хотелось одной начинать. Маме трудно будет смириться с потереей любимчика своего. Столько с ним связано! Мне иногда казалось, что они и про меня забывают за своими беседами. И во всем-то они согласны друг с другом, и все-то им любопытно знать о знаменитостях, о знакомых… Под его влиянием она такой театралкой завзятой стала, ни одной премьеры или концерта не пропускает. Только и слышишь: «Валерий Аркадьевич, Валерий Аркадьевич». Даже гулюшку эту на даче разрешила сего участием. А ты подумал…
— Подумал.
— Нет, мой хороший, после острова никого другого, кроме тебя, рядом с собой представить не могу…
Оля проводила его до самой постели.
— Спи спокойно, — сказала она, взбивая подушку.— Моя «подруженька» хорошо знает тебя… Столько слов я ей нашептала о тебе за сто три ночи, столько снов разделили на двоих…
Поцеловала нежно и ушла.
Серега погасил свет. Постоял в темноте. Но отсветы уличных фонарей быстро разбавили ее до лунного полумрака. На стенах у Оли в комнате были развешаны сухие листья, картонные вырезки, ветви, причудливые коряжки, шишки, маски, и в полутьме они придали комнате сказочную таинственность. Серега порадовался им, ведь здесь были свидетели донского августа, и снял халат, а вместе с ним и добрую половину напряжения. А подушка ласково, как Олины руки, приняла голову, и он благодарно потерся о нее щекой, но не ощутил гладкости: отросшая щетина шершанула по материи, и Сереге невольно вспомнилось солдатское шутливое присловье — одно из нравоучений старшины: «Своим небритым подбородком мешал ты спать стране родной»… Раз пришла шутка, значит, вновь он обрел себя.
Из ванной доносился отдаленный шум и плеск воды. И Серега, волнуясь, представил себе вытянутое Олино тело, мерцающее под водой. И вдруг сделал почти детское открытие, что ванна с водой — это река в лодке! И речные видения властно потянули к себе…
Проснулся от легкого прикосновения. В лунном полумраке комнаты на вытянутую руку от него стояла Оля в светлом коротком халатике, с распущенными по плечам волосами. Оля склонилась над ним, и волосы, щекоча, коснулись его лица и потекли по щекам, по шее на плечи и грудь… Их было так много и они ласкали его так долго, что все разбуженное тело приливной нежностью отозвалось…
И словно остров вернулся вольной вольницей, миром на двоих, протяжной громкой тишиной…
«Ольга! Ольга!» — раздалось вдруг, и все враз отхлынуло, пропало. Оля встрепенулась, прислушалась. «Ольга, где ты?!» Щелкали выключатели, хлопали двери.
— Ну, держись, кажется, грянул гром… — шепнула Оля и, поспешно набросив халат, вышла из комнаты.
Сколько прошло времени: десять, двадцать, тридцать секунд? Серега не мог бы ответить. Опомнился уже одетым. Хоть сейчас в строй, если б не эти «ни шагу назад»…
А в прихожей завязывался «бой», и отнюдь не учебный…
— Что случилось, мама?
— Как что случилось? Она еще спрашивает! Что ты там делаешь среди ночи в таком виде, бесстыдница! Что вообще тут происходит?
Серега вышел под самый вихрь вопросов и восклицаний. Ларису Анатольевну было не узнать. Пламя прически словно ветром обдало, побагровело лицо, глаза стекленели непониманием, неприятием, слепым гневом. Вид одетого Сереги несколько сбил ее с толку, но не унял. И Лариса Анатольевна полыхнула в него:
— А вам, молодой человек, как не стыдно?.. Врываетесь в чужой дом… Чему вас в армии учили?!
— Мама!
— Что мама, что мама?! Вот будешь сама мама, да еще с такой дочкой, тогда хлебнешь! Как ты теперь Валерию Аркадьевичу в глаза посмотришь, что ему скажешь?
— Я ему давно все сказала…
— Что? Что ты сказала?!
— Все…
— Я сейчас же позвоню ему… я…
— Звони, только на часы посмотри сначала… У него ведь режим, — с негодующим спокойствием отрезала Оля.
Лариса Анатольевна, метнувшаяся было к телефону, остановилась. Но аппарат зазвонил сам. Лариса Анатольевна, вздрогнув, подняла трубку, и Серега только тогда заметил, что телефон тоже красный. «Горим-горим, хоть пожарную вызывай», — мелькнула невеселая мысль.
Но в огонь продолжали подливать масло.
— Валерий Аркадьевич?! Вы? Не можете уснуть? Какое тут уснешь. Тут бог знает что творится. Да, да, да… Здесь они… Оба. При полном параде… Что? Взрывы? Какие взрывы? Прямо на даче? — Лариса Анатольевна метнула суровый взгляд на Серегу, и он с грустью подумал, что «синий», видно, и в самом деле находится в глубоком шоке, если так бездарно его «закладывает». И ему вспомнилось, как искренне хохотал «синий», держась за бока, после фокуса с громом и грохотом… А Лариса Анатольевна все продолжала дублировать «ужасающую» информацию: — Водку с хлебом? Ложкой? В бочку нырял?! Да что же это такое… Да как же это… Не-ет, я этого так не оставлю…
Сереге сделалось совсем-совсем грустно. Тому, что происходило здесь, он не находил в себе ни объяснения, ни осуждения… Разгневанная Лариса Анатольевна, наверно, в чем-то по-своему права. Ведь не может человек так извергаться ни с того ни с сего… Но все ставилось с ног на голову…
В душе разрасталась досада, отдаваясь в висках пульсирующим недоумением: «Почему? Зачем? Для чего?» Как могут быть рядом тишина… Олины руки… все самое-самое… И этот визгливый крик предельно оскорбленного человека? Крик, от которого чувствуешь себя едва ли не преступником за самые светлые поступки сердца… К тому же на крике в его сознание проникали одни лишь команды. Но когда криком пытались его в чем-то убедить, он терялся. Вернее, терял всякую надежду, что с этим человеком он может о чем-то договориться, и повышенные тона, словно ультразвуки, оставались за пределами его восприятия.
Он коснулся плеча Оли, и она оглянулась.
— Олюшка, я пойду… Пусть мама успокоится…
— Куда? Нет, погоди, — остановила она его, не совсем верно поняв. — Мама, если ты сейчас же не прекратишь эту истерику, мы уйдем, — голос Оли обрел непримиримую суровость, и это лишь усуглубляло ситуацию. Серега чувствовал, что любое его слово, любой жест, а в целом — присутствие не воспримется Ларисой Анатольевной так, как должно. И потому молчал, зная только одно, что ему как можно скорее надо уйти…
На Олину угрозу Лариса Анатольевна ответила почти с трагической непримиримостью:
— Я буду бороться!
Олина решительность надломилась, и она, беспомощно прижав руки к горлу, сказала тихо, почти шепотом:
— Опомнись, мама… С кем? За что? Мы любим друг друга… И ты просто успокойся…
Что-то страдальческое и осмысленное промелькнуло в глазах Ларисы Анатольевны. Она ничего не ответила. Правая рука, державшая телефонную трубку, несколько наигранным, как показалось Сереге, жестом прислонила ее к груди, напротив сердца. Но когда Лариса Анатольевна, закатив глаза, попятилась, он бросился к ней и придержал под локоть. Обморок оказался скорее символическим или же раздражение против Сереги было столь велико, что Лариса Анатольевна, сразу очнувшись, воскликнула: — Уберите руки!..
…Серега шел по ночному городу на вокзал, чтобы наконец приехать домой. Накрапывал мелкий дождь. Асфальт слюденел под светом фонарей. А сами фонари глазели сквозь голые кроны лип огненными пауками, плетущими из смоченных дождем ветвей причудливые световые тенета. Серега невольно засматривался на них, щуря то правый, то левый глаз, отчего «пауки» начинали шевелиться, точно собирались поведать что-то важное для него или же загадать загадку, как это в сказках водится. Только загадка ему и без того загадана, и он несет ее в себе через весь город, теребя душу неотвязным вопросом: «Как быть?»
Размышляя о происшедшем, Серега все время брал за основу главный довод, высказанный Олей — «Мы любим друг друга», — и он легко отвергал всевозможные претензии противной стороны и даже возмущался ее слепотой… Но это однозначное решение не приносило ни облегчения, ни ясности. И он снова и снова возвращался к истокам вопроса, пока не припомнил случая со своей старшей сестрой. Она дружила с одним из лучших футболистов станицы, Серегиным кумиром, и дело близилось к свадьбе, но сестра вдруг все перерешила и вышла за другого… Как возмущался тогда он, Серега. Чуть ли не предательницей клеймил сестру. Мама тоже горячилась, выговаривая дочери. Один только отец, хоть и встретил это событие без особого восторга, однако оставался до конца верным своему принципу: «Каждый вправе сам собирать свои ягоды и шишки…»
Вспомнив сестру, вернее, свое отношение к ее поступку, он вдруг невольно оказался на месте… Ларисы Анатольевны. А с этого места даже их всеобъяснимый довод, к тому же высказанный едва ли не задним числом, терял свою универсальную силу…
А ведь Лариса Анатольевна — Олина мама! Серега даже остановился, пораженный открытием, точно это ему ранее не было известно. Неприязнь к «синему», о котором так демонстративно пеклась Лариса Анатольевна, помешала ему сразу сердцем постичь эту простую истину и взять ее за основу. И вот теперь как прозрение она настигла его посреди улицы и по-иному осветила все происшедшее…
Дойдя до вокзала, он позвонит Оле и скажет: «Лариса Анатольевна твоя мать, и я буду ей вечно благодарен за тебя…»
…Совсем рядом прогрохотал поезд, отвлекая Серегу от раздумий, и он не сразу сообразил, где находится… Только что перед ним был ростовский вокзал, он говорил по телефону с Олей и вдруг…
Лысуха настороженно фур-рыкнула, и все стало на свои места. Меж поредевших елей показался огонек и очертания строений. Потянуло легким запахом мазута. Лошадь осторожно вышла на железнодорожное полотно.
— Чи цэ ты, Мыкита Васыльович? — окликнул мягкий певучий мужской голос.
Нехода, вытянув небритую кадыкскую шею, чуть подался левым ухом к окошку. И тотчас до слуха Сереги донеслось знакомое подвывающее «ы-ы-ы-у-у-о-о!», которое, там, на реке, он едва не принял за глас потусторонний.
— Минут через тринадцать будэ у нас. Це вин на Лешем повороте гукае. Там эхо голосистое, наче леший дражнится. Ось машинисты и забавят, шоб не дремалось, — пояснил Нехода, и видя, что Серега засобирался, пододвинул к нему тарелку с ломтями сотового меда, — йишь, йишь, поспеем ще…
Серега был сыт, что называется, под самую завязочку, но так ладно и душевно было ему в обществе Неходы, так симпатичны были ему и певучая украинская речь, и весь облик этого открытого бесхитростного человека, что он просто не мог отказаться от угощения. Серега, сладко жмурясь, долго жевал соты, запивая остывшим «узварчиком», и слушал Неходу, который с не меньшим наслаждением продолжал рассказ о Лешем повороте. И глаза его совсем утонули в смешливом прищуре, когда он говорил о случае с одним новичком-машинистом, принявшим эхо гудка своего же паровоза (тогда еще одноколейка была) за сигнал встречного. Остановив состав, он несколько минут перегукивался с «лешим», пока не уразумел, в чем дело.
Отсмеявшись, Нехода, не взглянув на часы, сказал: «Ну, пора», встал из-за стола, привычным движением, не глядя, снял с гвоздя черный дерматиновый чехол с флажками, с лавки прихватил лупастый фонарь, сутулясь, плечом подтолкнул дверь и пропал в темноте сеней. Натягивая на ходу штормовку, Серега поспешил за ним.
Ночь, все так же дышавшая прохладной сыростью, после яркой комнатной лампы показалась все такой же непроглядной. И Серега невольно порадовался темноте, словно она сама по себе растягивала время и увеличивала шансы поспеть на Узловую к сроку. Но через минуту, когда они стояли у рельсов и наблюдали, как с севера по черным горбам леса наплывает, не разрастаясь, бледное световое облако, было видно, что тьма уже дрогнула и свет приближающегося поезда не одинок: четко проступили контуры всех построек, обозначились одинокие деревья, и сами рельсы уже не терялись в трех шагах, а протяжным санным следом тянулись к лесу, что темными увалами охватывал полустанок.
Нехода распределил роли:
— Я буду держать желтый, як положено, а красным в твою сторону казать… Ты ж голосуй, наче на шляху… Должны зрозуметь.
И встал в свете фонаря, подвешенного на постовом столбе.
Как ни тянул просительно руку, как ни махал своим беретом Серега, как ни указывал в его сторону красным флажком Нехода, уже за сотню метров было видно, что поезд не остановится, не притормозит. На полном ходу, обдав могучим металлическим грохотом и свежим древесным духом, промелькнули платформы и вагоны, заваленные лесинами,- и показал дразнящий язычок хвостовой фонарь. Машинист что-то отжестикулировал руками: похоже, извинялся, что не может взять, и сообщал о следом идущем.
— От досада-рассада, не уговорылы… Та ты не тужи, Сережа, слидом ще йде — той, мабуть, полэгше, ось и визьмэ…
На следующий Серега настроился со всей решимостью — последний шанс ведь. По всем благоприятным подсчетам с поправками, как говорится, на попутный и встречный ветры, в ближайшие полчаса надо было непременно «сидать на колэса». Да и промчавшийся лесовоз к тому же своим грохотом и стремительностью словно протаранил тьму, и теперь с каждой минутой неумолимо светлело. Свет, казалось, сочился из всех незримых пор ночи. И вместе с ним зарождалась тревога — не поспеть. Досадно было, что самая благоустроенная для передвижения часть его пути вдруг может стать ненадежной и свести на нет все усилия. Теперь не только его, Серегины.
Взявшись за безнадежное, казалось, дело, о котором никто его, собственно, не просил, не обязывал, он уже чувствовал себя ответственным за него той желанной ответственностью, что не допускает ни малейшего сомнения в нужности твоих действий, не порождает после первой же трудности вопроса «мне ли больше всех надо?», а заражает всего тебя единым стремлением исполнить его во что бы то ни стало, используя самую малую возможность, самый разъединственный шанс на успех. И с каждым новым человеком, встреченным на пути, ответственность эта нарастала. И он уже не представлял себе, как это можно не поспеть, не довести дело до заветного конца, если к нему так светло прикоснулись добрые души ребят, Мити, Любы, Меркуловны и Неходы, который вон места себе не находит, виновато топчется вокруг своего постового столба, переживая неудачу с лесовозом. Даже на друга своего четвероногого, сидящего в двух шагах, внимания не обращает. И пес, кровный брат и тезка Митиного Каштана, не вертится под ногами, как иная неразумная шавка, а лишь поскуливает, привставая с задних лап при каждом его приближении и поводя из стороны в сторону кудлатым хвостом. И, как бы подтверждая, что он все понимает, сочувствует им и возмущается вместе с ними, пес трубно пролаял в ответ на гудок приближающегося поезда и словно подал сигнал к действию. Серега, уже не деликатничая, выскочил на полотно и заплясал меж рельсов, размахивая руками из стороны в сторону, а Нехода энергично затряс красным флажком, указывая на него, не забывая, однако, службу — желтым сигналил «свободный путь». Он же первый догадался, что их необычную сигнализацию разгадали, и обрадованно и хлопотливо закричал:
— Тормозить, Сережа, тормозить, готовься!
Серега и сам уже отметил, как тепловоз, точно споткнувшись на ровном месте, дернулся и умерил свой стремительный бег. Освободив путь, Серега, озираясь, двинулся по ходу поезда, постепенно ускоряя шаг, загодя приноравливаясь к его скорости. И когда тепловоз, подхлестывая грохотом и скрежетом, нагнал его, он ухватясь за поручень, пробежал несколько метров и вспрыгнул на утопленную в стальном корпусе ступеньку. Сверху за шиворот штормовки подхватила его сильная рука и одним властным потягом втащила внутрь тепловоза вместе с его извинительной фразой: «Ох, братцы, ругайте, да не прогоняйте». Тут же помогавший ему внушительных габаритов мужчина, должно быть машинист, известил кого-то: «Есть!» — и скомандовал: «Отставить тормоз, Леша, полный вперед!» И только потом удостоил ответом вступительное слово Сереги:
— Спокойно, Борода, мы люди не мелочные. Что стряслось?
Серега, еще не отдышавшись, молча протянул радиограмму, ставшую ему своеобразным мандатом.
— Зазноба?
— Да не моя, товарища. Он в тайге, далеко. А ей бы очень надо сказать кое-что…
— Ну, раз надо, значит, скажешь, — отрезал мужчина, вернул радиограмму и, тесно повернувшись в узком проходе, шагнул к распахнутой дверце кабины. В том, что он был здесь за хозяина положения, Серега не сомневался. Как скомандовал, как говорил с ним, как прошел эти несколько шагов с развальцей и остановился у пульта, словно в рубке корабельной: не присел, не примостился, а врос в пол, который, казалось, даже покачнулся из стороны в сторону — то ли от его, Серегиной, усталости, то ли от внушительной флотской поступи машиниста. Серега и сам не из хилых телом, в роте одним из правофланговых ходил. Но рядом с машинистом, который был чуть повыше его, на два «чуть» пошире, погрудастей, поплечистей, ощутил себя неуютно маленьким, ослабленным. И только юношеская фигура Леши, напряжено застывшего у штурвала, немного уравновесила это ощущение. Но все равно Серега с первой минуты почувствовал свою подчиненность, зависимость, готов был исполнять команды с полуслова, не задавая лишних вопросов.
А машинист тем временем, бросив взгляд на хронометр, склонился над маршрутным листом:
—Та-ак, два сорок московских у нас натикало. График держим. Только станцию мы проходим после пассажира и потому минут на семь запаздываем к нему.
Семь минут в таком деле все равно что час, что сутки, то есть пустой номер… И Серега это прекрасно понимал, но не спешил отчаиваться. Было в тоне и во всем облике машиниста что-то обнадеживающее, чему он доверился сразу, и поэтому молча разместился на указанной ему откидной «сидушке» у левого обзорного окна.
Машинист не заставил себя ждать.
— А ну-ка, Леша, давай повеселее, здесь полотно не капризное, позволяет, — бросил он помощнику и оглянулся на Серегу. — Что вид пеньковый? Всю ночь вахтил?
— Да вроде того…
— Тогда отбой тебе. По сотне минут на оба глаза имеешь…
Сказал — приказал. А сам вновь к помощнику:
— Дуй Леша, как на первое свидание… И спеши, и оглядывайся. Или ты без оглядки летел? У меня, помню, с этим делом полный конфуз приключился. В назначенное время прибежал чуть ли не на час раньше, а потом, чем больше ждал, тем сильнее меня мандраж пробирал. И кончилось тем, что в кусты спрятался. А когда подружка моя заявилась — уже и духу не хватило из засады выбраться. Притаился, что называется, ни дохнуть, ни скрипнуть. Она в двух шагах ходит по тропке, на часики посматривает и напевает что-то не больно веселое. Надо бы мне хоть «ку-ку» сказать иль прокукарекать шутливо да выпорхнуть к ней, мол, так было задумано… А я пристыл себе на корточках и сижу, не шевелю ушами. Потом Лизка, так звали девчонку, то ли сопенье мое почуяла, то ли и впрямь какая телепатия имеется, в общем, остановилась напротив и разглядела… Взгляды наши встретились. Несколько секунд она молча таращилась на меня да вдруг как всхлипнет смехом: «Ой, мамочки мои, не могу, ой, умора!» — и бегом прочь к подружкам своим. Они ее поблизости где-то ждали. Слышу хохот. Это она, язва, им нажужжала про меня, мол, что я со страху… Ну, в общем, ясно что в кустах делают…
Долго я после этого девчат десятой дорогой обходил. Потом, помню, Лизка сама прощения просила. И обида вроде прошла. Да вместе с ней, видать, и все остальное. А когда в ухажерскую смелость вошел, то и сам стал помучивать их род. Что-то, должно быть, нехорошее осталось от той зряшной насмешки.
Машинист оглянулся на Серегу:
— Не спится, Борода? Оно и понятно, не за дровами едешь… Это ты верно делаешь, что едешь…
Помолчал, глядя вдаль светового тоннеля, который штолил в ослабевшей тьме прожектор тепловоза.
— Лена, значит… Это хорошо, — протянул он раздумчиво и снова взглянул на хронометр. — Добавь, Леша, не скупись.
Рука помощника, лежавшая на штурвале, дернулась вниз, а сам он, не отрывая глаз от дороги, привычно продублировал команду.
Тепловоз, несмотря на приличную скорость, шел устойчиво, без обычной паровозной натуги, лишь слегка покачиваясь из стороны в сторону. Видно, и впрямь полотно было не капризное, да и сам стальной конь, вобравший в себя силу многотысячных табунов, был ретив м свеж. Приглушенно ухали за спиной дизеля, отдаленно грохотал состав, время от времени попискивал прибор бдительности. Серега удивленно озирал кабину. Даже в неярком освещении была заметна ее парадная чистота: поблескивали металлические части приборов, лосьнилась заводская покраска стен, широкий обзор открывала застекленная панорама. Все это: чистота без оглушающего шума и грохота и машинист, стоящий в центре, расставив ноги, — напоминало скорее корабельную рубку, нежели ушедшие в прошлое локомотивы, которые еще в Серегином детстве проносились в горячечном беге мимо их станицы или же, могуче попыхивая, ненадолго коротили свой ход у станционного домика. Однажды, еще в дошкольную пору, Сереге случилось побывать в будке машиниста маневровой «овечки». Ничего, конечно, похожего, разве что те же рельсы впереди… Но сколько тогда было впечатлений и распирающего душу восторга! И дышащий жаром зев топки, и свистки-гудки, и таинственные рукоятки управления, и сами паровозники, пропитанные мазутом и угольной пылью… Вкус угольной пыли, правда, он познал тогда же, помогая кочегару подгребать уголь в тендере: наглотался ее, нанюхался вволю. Но в остальном паровоз так и остался непостижимой мечтой детства. И сейчас, подивившись комфорту новенького тепловоза, Серега неожиданно испытал ревнивое чувство за «овечку».
Еще раз окинув взглядом приборы, машинист совсем по-морскому скомандовал: «Так держать, Леша, и мы догоним день вчерашний!» И, уже повернувшись вполоборота к Сереге, сказал доверительно:
— Знал я одну Лену… С тех пор имя это для меня звучит непросто…
Помолчал, словно раздумывая, говорить или не говорить дальше, но зачин был сделан, и он продолжил:
— В Мурманск вернулся я тогда из очередной своей рыбной кругосветки. Без малого полгода океан пахали. Земля наяву снилась. Только замаячит на горизонте любая — чужая, необитаемая, — глаз к ней тянется. А когда к своему берегу пристали, что и говорить, голова кругом, ноги колесом, душа нараспашку. С последним бичом лобызаться полезешь. От кассы отваливали, что короли: весь мир наш! Деньга карман распирает, а самого — желание сделать что-либо из ряда вон, наградить себя за плавучие монастырские месяцы… Были ухари — по два, по три такси на свою персону заказывали, чтобы от порта к ресторану подкатить. На одной «Волге» сам восседает, весь из себя — «не подходи!». Другая машина шляпу его, драную-предраную обо все параллели и меридианы, везет. На третьей — чемоданишко с дырками, наклейками заграничными прикрытыми. И катит себе куражник по городу на автотройке… Таксисты понимали эти купеческие замашки, подыгрывали. Провезут с шиком, еще и посигналят, когда наш брат-пижон изволит выходить из машины. Ну и расчет, соответственно, царский.
Я, помню, тоже шиканул: купил огромный чемоданище — и в кондитерский магазин. Дай, думаю, племяшам праздник устрою. У меня их целый взвод. Бухнул чемодан на прилавок и говорю: ссыпайте сюда своих «мишек», «белок», «петушков». Продавщицы как ни в чем не бывало принялись отвешивать мне весь ассортимент сладостей, а заодно и колкостей: мол, подфартило какой-то, на, всю жизнь теперь усластится… И все такое прочее. Я не отнекиваюсь, петухом хожу. А когда потянул сладкий чемодан с прилавка, понял, что переиграл: в нем добрых пуда три весу. Не поскупились на леденцы, хохотушки. Фигуру мою, конечно, наперекосяк, однако фасон держу. Едва догужевал до камеры хранения. Перед отходом поезда в парикмахерскую забежал подфуфыриться. Забегал на минуту, а получилось… В общем, не один поезд потом без меня ушел и не скоро племяши дождались своих конфет и ракушек… Леша, встречный — прервал свой рассказ машинист.
Помощник подтвердил, что видит, и дал короткий сигнал. Встречный откликнулся нарастающим гудом. С жутковатым взрывом схлестнулись сирены, обдало грохотом, и некоторое время ничего другого не было слышно. Мелькнул последний вагон встречного, и Серега подумал, что через каких-нибудь полчаса он так же стремительно прогрохочет мимо поста Неходы, и ему представились неподвижная прямая фигура с флажком в руке и Каштан, такой же строгий и подтянутый, сидящий рядом. Серега невольно улыбнулся, вспомнив, как преображался лысоватый сутулый Нехода, когда надевал форменную фуражку, а уж с флажком на посту встречая поезд, стоял совсем по-гвардейски. И от этого воспоминания ему сделалось так же хорошо и покойно, как было в уютной избушке Неходы.
— Да-а… сел я, значит, в кресло, — заговорил снова машинист минуту спустя, как только сошла глухота. — Глянул в зеркала и сам себя не узнал: бородища не то что твоя, пионерская, — от уха и до уха… Девушка в белом халатике с улыбкой спрашивает: «Подстригать будем или?…» Рядом с ее чистым бледным личиком моя физиономия — заросли дремучие. И вмиг изменил я свое решение — дома во всей красе показаться. Говорю, только «или» и под самый корень. А девушка, словно поддразнивая меня, пытает: «И не жалко, заграничная небось?» Точно, говорю, три часа назад причалили. «Да, вижу», — сказала уже без улыбки и вдруг рукой по моей заросшей щеке провела. Легко так, ласково и добавила со вздохом: «Милую б хоть порадовал…»
И зачем только она это сделала! «Нет у меня никакой милой!» — хотелось крикнуть мне и руками зачем-то помахать. Для убедительности, что ли. Но я не мог шевельнуть ни языком, ни пальцем. Словно заклинило все во мне. Сижу как парализованный и таращусь на ее отражение в зеркале. Она машинку включила, к бороде поднесла и остановилась: не передумаю ли? У меня и впрямь сомнение шевельнулось. Но смолчал. Она опять вздохнула, коротко так, сожалеюще, а сама в глаза мне все смотрит. Не выдержал я взгляда этого, закрыл глаза. И как в сон угодил. Сколько снов таких виделось, пока борода отрастала… Боже мой, что за руки у нее. Колдовство какое-то. Даже машинка вроде присмирела. Одним урчащим звуком, почти не касаясь кожи, прошлась по лицу, и бороды как не бывало. Глянул в зеркало сквозь ресницы — был бородатым, стал просто небритым. Компресс. Мыльная пена. И бритвой, что голубиным перышком, провела по моей щетине…
Но зафуркал пульверизатор, и крепкий запах одеколона «В полет» вернул меня на грешную землю. Открыл я глаза. Девушка смотрит на меня грустно так и говорит с улыбкой: «Весь прейскурант мы с вами отработали». А я сижу, не шевелюсь, словно заново рожденный. Всю тоску-маету бродячую сняла она, да только новой, видать наградила…
Вышел из парикмахерской, а куда идти — не знаю. Пошел было на вокзал, да ноги неохотно идут. И сам будто на канат резиновый зачален: чем дальше отхожу, тем сильнее тяга обратная. Махнул рукой на все, была не была, развернулся на сто восемьдесят. И даже легче стало. Опомнился у порога парикмахерской. Но войти сробел. Только к вечеру снова в кресле ее очутился. «Лена, тебя ждут», — позвала кассирша, маленькая, седенькая старушка такая. Подошла Лена посмотрела на меня внимательно и, как в первый раз, легко провела рукой по щеке — мол, брить-то нечего. А во взгляде — и приветливость и огорчение. Что-то не так, чувствую. Попытался отшутиться: тик, говорю, у меня, доктор массажами велел лечиться. И подмигнул несколько раз правым глазом. Совсем неуклюже получилось. Лена взглядом построжела и говорит: «Ну, это мы быстро вылечим». Затянула меня потуже в салфетку, придавила голову к спинке кресла, ошпарила компрессом и такой массаж с «отбивными» закатила, что я сразу же засомневался: те ли это руки? Но терпел. Она, бедненькая, аж задохнулась. Откуда сил столько взялось к концу смены, отшлепала по всем правилам. Сижу, как свекла, красный, а Лена, едва дух переведя, спрашивает: «Ну что, жалобную книгу?» Нет, говорю, книгу предложений, пожалуйста. Пойдемте в кино…
Посмотрела она на меня и, ни слова не сказав, повернулась, ушла в подсобку. Посидел я, глядя на свое распрекрасное отражение в зеркале, да тоже подался прочь. Кассирша на редкость тактичной старушкой оказалась: ни словом не обмолвилась, хоть и видела-слышала все. Только вслед сказала добро: «Заходите еще к нам…»
И зашел, конечно. Утром с полным правом «ощетинившегося» человека заявился бриться. Лена встретила приветливо и только смотрела грустно и виновато. И руки ее снова были нежными, словно извинялись за вчерашнее. А извиняться-то мне надо было. Но я молчал, чтобы опять чего-нибудь не сморозить. Молча работала и Лена. Лишь в самом конце шепнула просительно: «Не приходите вечером, пожалуйста…» А как насчет предложения, спрашиваю. Ни к чему это, отвечает.
Легко сказать: «Не приходите, ни к чему это». А если свет действительно клином сошелся на этой худенькой девчонке? Если руки, пальцы, голос ее, взгляд приветливый и грустный преследовали меня днем и ночью…
Голос машиниста, заглушил гудок тепловоза: помощник извещал о прибытии на полустанок, посреди которого в позе и форме Неходы стояла женщина с флажком. Было совсем светло, и Серега без труда разглядел ее сосредоточенное лицо и вновь подумал о Неходе, о его жене Катерине, о которой так тепло, любовно говорила Меркуловна. Вот и в живых нет Катерины, и не видел ее Серега никогда, как не знает и этих двух Лен, но передалось тепло человеческое от людей, и ощутимо коснулись они его жизни.
— Как ни мучительно было сдерживать себя, — продолжал машинист минуту спустя, после того как полустанок оказался позади и они обменялись с помощником необходимой информацией, — но просьбу Лены я выполнил: в парикмахерскую вечером не пошел. За один сеанс она мой «тик» излечила. Но на улице подкараулил. Лена нисколько не удивилась нашей «случайной» встрече. Просто шла своей дорогой и меня не прогоняла. Слушала мою травиловку о нашей героической профессии, улыбалась даже разным небылицам. Но все как-то устало, невесело. И по-доброму вроде, только сдержанно, озабоченно. С час брели мы по улочкам безлюдным. Потом стояли у двухэтажного домишки. Вечер в белую ночь перешел. Воспользовавшись паузой, Лена руку протянула для прощания. Я задержал ее. А потом осмелел и за плечи к себе привлек. Не возмутилась, не оттолкнула, только сказала тихо, но твердо: «Погоди». А сама в глаза смотрит. И не отвожу я взгляда, потому как весь перед ней открытый-распахнутый… И ничего мне скрывать-таить, не от кого прятаться, не о чем сожалеть… Все отошло-отступило. Одна она — начало или конец счастья моего земного. Что скажет, как распорядится?
Она и говорит, медленно так, раздумчиво: «Вижу, хороший ты человек… Знаю, не обидишь дурным словом и благодарен за ласки мои будешь. Что притворяться — и ты мне нравишься. Но вот ведь в чем деле: далеко-далеко, на самом краю света, откуда ты и сам недавно вернулся, есть у тебя брат по этим вот полоскам, — и погладила рукой по моей тельняшке на груди. — С бородой ты был на него очень похож, и прости меня, если что-то вдруг показалось. Его одного я и жду…» Сказала и…
А, черт! Леша, спишь, что ли?! — вдруг резко вскрикнул машинист и весь подался вперед — Тормоз!
— Вижу! — коротко бросил в ответ помощник, уже сделав несколько быстрых движений руками: сбросил скорость, включил торможение, дал сигнал.
Тепловоз дернулся, Серегу по инерции качнуло вперед, он вскочил на ноги и увидел вдали на рельсах темную фигуру о двух головах, будто айболитовский «тяни-толкай» специально сбежал из сказки, чтобы преградить им путь. Состав скрежетал тормозами, тепловоз прерывисто гудел и мигал малозаметным теперь светом прожектора, а «тяни-толкай», не двигаясь с места, наплывал, распадаясь на двух лосей, стоящих головами в разные стороны. Не в силах что-либо еще предпринять, машинист в сердцах громыхнул кулаками по барьеру и по-флотски завязал в адрес зверей неразумных несколько словесных узлов, постигнув смысл которых, да еще в присутствии своей дамы, лось наверняка бы оскорбленно ощетинился гребенками рогов. Но гордый зверь спокойно взирал на мчавшуюся громадину, не ведая ни о нанесенном ему оскорблении, ни о том, что жизнь его теперь исчисляется десятками секунд.
Серега, содрогнувшись от мысли, что через несколько мгновений может произойти, метнулся к боковой створке окна, протиснулся в нее головой и рукой и замахал беретом, заулюлюкал, засвистел, закричал.
Трудно сказать, что больше возымело действие на лося, Серегино ли улюлюканье, скрежет тормозов или сам вид набегающего поезда, только зверь наконец шелохнулся и нехотя сошел с путей. За ним поспешила и комолая подруга.
Машинист на правах старшего еще раз, уже облегченно, выругался:
— Вот чертяки, тайги им мало. Пусть молят своих богов лесных, что не с «пассажиром» повстречались. Тому так тормозить не дозволено. Больше своих калек бы наделал, чем спас. А ты, Леша, круглый молодец: реакция отменная, быть тебе машинистом. Сегодня за вождение пятерка…
Помощник на похвалу не обмолвился ни словом, но заметно смутился и, натянув потуже фуражку, заострил взгляд на дороге. Состав медленно набирал скорость.
— Минут десять повесили на рога мы этому гордецу, — констатировал машинист. — Да не отчаивайся, Борода, еще можем поспеть, не на каждом же километре такое творится. А ты знатно орешь. Тепловоз пересилил. Не иначе, тебя сохатый пожалел, больно уж ты испугался, аж рыдал криком…
На шутку машиниста Серега тоже не ответил, лишь улыбнулся открыто, всем лицом. Довольный, что с лосями обошлось благополучно, он не успел подумать о потерянных минутах, которые в общем-то могут оказаться роковыми. Чувства, пережитые за эти десятки секунд, всколыхнули душу. Острая тревога за животных, радость избавления их от беды выплеснулись восхищением — с каким достоинством держался зверь перед лицом опасности… Как заслонял собой подругу… И сошел с места не от испуга, не от боязни за свою жизнь, а как бы уступая дорогу…
Плечи Сереги сами собой расправилась, рука потянулась к пуговицам распахнутой штормовки. И он уже не мог расслабленно опускаться на сиденье, а встал рядом с машинистом, словно в строю, невольно подтягиваясь, приноравливаясь к его богатырской стойке. Тот понял это как ожидание конца истории своей и, немного помолчав, продолжил:
— В общем, вынесла она мне свой приговор ласковый, выскользнула из рук и скрылась в подъезде. Ночь эта белая запомнилась… Так пусто было, что я даже не напился… На следующее утро сидел в ее кресле. Была она приветлива, как со школьным товарищем, но не больше. И распался мой отпуск на добрые утра и тягучую тоску от бритья до бритья. Провожать ее больше не решался. Один раз только, после бурных возлияний в теплой компании, набрался храбрости — подкараулил вечером возле дома. Но об этом лучше не вспоминать. До сих пор стыдно. Одной фразой меня тогда Лена отрезвила. Что, говорит, девятый вал нахальства — и мы у цели? Руки будто очугунели сразу. И не поднялись больше — ни обнимать, ни молить пощады. Ох и лютовал же я на себя. А ему, счастливцу, радиограмму даже отправить хотел, мол, счастливому — счастливого плаванья… Да вовремя одумался: медвежьей услугой могла б она обернуться. Душа ведь не океан, ее и замутить ненароком можно. Ему же и без моих завистливых пожеланий счастливым быть…
Раз пришел бриться, а Лены нет. «Давай, морячок, ко мне теперь, — зовет напарница ее. — Ленка своего законного пошла встречать. А потом на юг укатит, «где пальмы в Гаграх». А я, говорит, по всем статьям свободная…»
Отшутился как мог, выскочил из парикмахерской — и в порт. На пирсе толпа, оркестр играет. «Рыбака» встречают, как нас месяц назад. Лену сразу увидел. Стоит в сторонке от толпы в своем кремовом плащике. Без цветов. Не кричит, рукою не машет, а только смотрит куда-то вверх. По ее взгляду и его угадал. Бородатый брат мой… И правда, похож. К борту пристыл, на нее смотрит. Так они и встретились молча. Не бросились в объятия, а лишь тихо прислонились друг к другу. И понял я нутром всем, что не мой это причал. В тот же день укатил «с милого севера в сторону южную». А потом и с флота ушел. Невмоготу стало в море ходить, пока такая вот на берегу ждать не будет. Кажется, встретил, грех жаловаться. От моря, правда, так и отбился, на чугунный каботаж вот перешел. Сутки-другие ходим в таежное, так сказать, плавание — и к причалу. Но море, конечно, есть море: позовет, потянет, и несколько дней как больной ходишь… Наверное, потому, что море и Лену, как прислонилась она к суженому своему, я всегда вместе вспоминаю… Таких, может, одна на тысячу, потому тысячу раз и вспомнишь о ней, и жить хочется, себе и другим больше веришь…
Машинист взглянул на часы:
— Ну вот, Борода, так и не дал я тебе вздремнуть, ты уж извини, сам напомнил… Минут через двадцать будем на Узловой. Только на станцию нас вряд ли пустят раньше времени. С полверсты придется тебе своим ходом финишировать… Сдавай, Леша, вахту, разомнись.
Помощник уступил место за штурвалом, и, когда встал, распрямился, потягиваясь, растер лицо руками, как умылся, и ответил на заинтересованный взгляд Сереги смущенной улыбкой, мальчишка в нем проступил еще сильнее. Коротко бросив машинисту: «Пойду гляну», он вышел в машинное отделение, и Серега уважительно, с легкой завидкой подумал, что парень вот уже при деле, а сам он который год все разнорабочий, и конца тому и края пока не видать.
Но завидка эта не отозвалась в душе ни тревогой, ни грустными раздумьями о своей «неприкаянности». Скорее, он привычно порадовался человеку, ладно и уверенно ведущему свое дело. Такие люди сразу располагали к себе. Серега всегда тянулся к ним, подлаживаясь под их ритм и настроение, если приходилось вместе работать или с интересом наблюдать за ними, если оказывался рядом случайно. Всякая работа, к которой ему довелось прикладывать руки, обычно вспоминалась неотрывно с человеком, с его привычками и излюбленными словцами, кто так или иначе приобщал его к своему ремеслу. Серега справедливо считал, что ему везет на хороших, откровенных людей. Они как бы сами его находили, распознав в нем благодарного слушателя и ученика, нередко призывая в свидетели и даже в советчики по житейским вопросам, к пониманию которых он сам еще только интуитивно подходил. И доверие, открытость, бесхитростность людей невольно вызывали симпатию и к их профессии, будь то грузчик или комбайнер, слесарь или шофер, строитель или реставратор…
Перепробовав за свою недолгую трудовую биографию с полдюжины профессий, Серега не чувствовал себя ущемленно и растерянно. Его увлекала всякая работа, в которой он улавливал целесообразность и ощущал себя. И за каждую новую принимался с жадностью, как за нечитанную, манившую загадочным заголовком и толщиной непройденных страниц книгу. И как прочитанная книга, опробованная специальность вспомнилась с благодарностью, и при случае Серега с удовольствием и со знанием дела возвращался к ней, как сегодня вот к машине, к лодке и лошади. Но интерес поиска, новизна открытия утолялись, и его уже манила новая, неизведанная.
Жила в Сереге неистребимая жажда юности — побольше познать и увидеть, испытать себя в трудностях, обучить руки свои тому, что им еще не ведомо. И эта жажда не была самоцелью. Рядом с ней таилось предчувствие, что все, что он видит и слышит, чему учится и что делает, непременно в свое время сложится, сплавится в то единственное и главное, пока еще не осознанное, но что обязательно проявится в нем, выкристаллизуется в суть его призвания. И это неугасающее предчувствие составляло основу его спокойствия и уверенности в настоящем и завтрашнем дне. Тем более что опыт малых качественных скачков и прозрений в себе он испытывал уже давно. Начиная с самых первых, еще не осознанных, когда из букв рождалось слово, из слов — понятия из понятий — мысли, осознанные, как свои!
Или: была просто музыка, ласкающая слух и побуждающая к ритмичным движениям, и вдруг — душа откликнулась. Сначала чем-то взволнованная, потревоженная душа сама избирает мелодию, созвучную своему, состоянию, дивясь, такому чудесному совпадению…. Еще серия скачков и прозрений — и музыка уже ведет за собой, и человек проходит сквозь бурю страстей и бескрайнее поле раздумий, каких, быть может, ему и не доводилось испытать в жизни.
А прозрение острова? Сколько в нем сплелось-соединилось. Как озарило оно его жизнь. Такое только с солнцем и можно сравнить. Набегали, конечно, тучки, случались пятна и малые затменьица… Но оно все светит, ни разу не обернулось мрачной стороной, не повергло душу во тьму.
И этот свет во многом залог его веры, что радостным будет сплав призвания, потому что любую «разную работу» — самую расфизическую и самую «пыльную» — он никогда бы не назвал «черной», если видит в ней смысл и необходимость. Возможно, в том больше от юности, жаждущей трудностей и труда, нежели от характера. Но ведь каждый из молодости берет в большую жизнь лишь то, что под силу нести его натуре…
Серега, в отличие от своего закадычного друга Борьки, тяготел к многообразию. И в этом смысле десантная служба была, как говорится, попутным ветром. Десантник — воин на все руки: летит, бежит, ползет, преодолевает преграды, ведет огонь из всех видов оружия, владеет подрывным делом и рацией, водит машины, сходится в рукопашной, читает карту, ходит по азимуту, оказывает первую помощь раненому. Всего и неперечтешь, что должен уметь достойный представитель крылатой пехоты.
Но Сереге было мало забот, отпущенных на его долю службой, и он совал свой нос в кабину к летчикам, забирался под броню к танкистам, околачивался возле ракетчиков… Получал наряды вне очереди, но не мог сдержать своей любознательности.
И географией служба не обделила. Без красного словца от северной тундры до песков пустыни распахнула землю родную — смотри, люби, охраняй.
Вот и можно сказать, что нынешней весной высадился он десантом в самую романтическую профессию — геологию, в самый приключенческий край — таежный. Живет не жалуется. Снова пропустил абитуриентский шанс и вроде как не жалеет об этом. Нет, здесь у него, пожалуй, все в порядке, — все идет своим чередом, по плану и графику, так сказать.
Но что все-таки, что закралось непроходящей тревогой в августовские дни? Отчего беспричинная грусть зачастила к нему? И особенно в это бездельное времяпрепровождение на базе? Дожди? Нелетная погода? Только ли?.. Не случайно ведь он так стремительно ринулся в эту общем-то необязательную поездку…
Оля, конечно, Оля… Она ждала его к первому августа и уже не писала писем. Последняя открытка заканчивлась фразой: «Документы в приемной комиссии. Жду…»
— Готовсь, Борода, тормозим. На станцию не пускают, — окликнул машинист.
Не успел Серега отбежать и десятка шагов от застывшего перед семафором тепловоза, как навстречу ему из-за дальнего поворота, пронизав еловый борок, вырвался низкий дребезжащий звук. «Ух ты, точный, когда не просят», — проворчал Серега в адрес пассажирского поезда и хотел было прибавить хода. Однако ноги устало заплетались, скользя по раскисшей суглинистой тропе, и, оступившись, он, как сбитый с ног хоккеист, юзом проехал на четырех точках опоры, но тут же, подхватясь, продолжил свой неуклюжий бег, не обращая внимания на грязевые заплаты на коленях брюк. Лишь одна мысль промелькнула веселой досадой: «Теперь и ручку даме не пожмешь такими лапищами». И Серега на бегу стал машинально тереть правую ладонь о волглую ткань штормовки.
Меж тем лупоглазый тепловоз «пассажира» по-змеиному вытянул из-за поворота серо-зеленый вагоний хвост и застыл метрах в двухстах от бегущего. Да еще полпоезда до седьмого вагона… А времени — минута, не более. Добежать он, пожалуй, успеет, но увидеть Лену и сказать ей что-то внятное навряд ли… Разве что: «Любит… Страдает…»
С трудом сохраняя равновесие, Серега сошел наконец с неверной тропы и побежал меж рельсов. От налипшего гравия сапоги сразу же отяжелели вдвое, и он едва не выскочил из них. Пришлось бежать с притопом, стряхивая груз. И на каждый притоп в висках отдавалось: «Любит-страдает, любит-страдает…»
Вдоль состава объявились редкие людские фигурки. «Только бы поменьше, чтоб не путаться». У среднего вагона стояли трое. Серега различил лишь две железнодорожные формы и светлый плащ. И, сам себе не веря, — прибавил бегу. Светлый плащ, словно финишная лента, потянула его к себе, вплескивая в ноги остатки сил… Подбегая к тепловозу, он скорее выхрипел, нежели крикнул машинисту свое просительное: «Пого-ди-и!» Оглянулся на семафор и не успел осмыслить и порадоваться его красному свету, как тот, точно оборотень, моргнул и глянул уже пронзительно-зеленым глазом.
Боже,какие длиннющие эти вагоны… Какая чертовски неловкая эта хрумкающая, сыпучая беговая дорожка… И до чего же бессилен он хоть на долю секунды участить свое «любит-страдает…»
До светлого плаща оставалось вагона три, когда его заметили. Мужчина в малиновой фуражке что-то сказал женщине в плаще, и она обернулась и рванулась навстречу Сереге, вглядываясь в него. И чем ближе он подбегал к ней, тем замедленнее становились ее движения. И когда он, не добежав с десяток метров, окликнул ее вопросительным: «Лена?» — женщина совсем остановилась и закивала головой и затвердила едва различимое;
— Да… да… да…
Тугой звук тепловозной сирены как бы подтолкнул в спину, и Серега едва удержался на ногах, обрывая перед Леной свой бег. Сердце заполошно ухало под самым горлом.
— Степаныч далеко… Понимаете… Он не знает… Понимаете… — не совладав с дыханием, начал выталкивать из себя Серега, но Лена перебила его.
— Я знаю, знаю, — радостно воскликнула она, протягивая листок. — Вот телеграмма… Как он там?
Серега машинально взял телеграмму. Но читать не стал, не в силах оторваться от светло-голубых глаз… Как она вся потянулась вслед за своим вопросом выжидательным, молящим взглядом, усталым худым лицом, бледными дрожащими руками…
— Все хорошо… нормально, — не находя нужных слов, заговорил он, от волнения и одышки забыв даже свои заготовленные «любит-страдает».
Состав дернулся. Лена вздрогнула и, не оглядываясь, подняла левую руку и протянула ее к вагону, как бы умоляя его не шуметь и остановиться…
— Любит… Любит он вас очень… и мучается, — нашел наконец Серега нужные слова и почувствовал облегчение.
А Лена после этих слов сделалась еще меньше, руки и плечи ее опустились, глаза, утратив пытливость, как-то сразу потемнели.
— Напишите ему что-нибудь, — нашёлся Серега и, выхватив из нагрудного кармана авторучку, протянул ее вместе с листком телеграммы.
Лена взяла их невидящими глазами, огляделась по сторонам и, не найдя более подходящей опоры, прислонила листок к стене вагона, едва доставая до ее нижнего края. Что-то быстро написала, двигаясь следом за вагоном, и возвратила телеграмму и ручку Сереге.
— Вам пора, — тихо сказал ей дежурный по станции, шагая рядом с подножкой седьмого вагона, на которой уже стояла проводница и тревожно-выжидательно смотрела на них.
Лена кивнула. То ли Сереге на прощание, то ли им в знак подтверждения, что поняла их, и сделала шаг за проплывающей мимо подножкой, но потом вдруг порывисто метнулась к Сереге, обняла его за шею и вместе с поцелуем дохнула в небритую щеку шепотное «спасибо». И после, уже не оглядываясь, догнала подножку и с помощью проводницы и дежурного неловко вскарабкалась на нее, встав на нижнюю ступеньку сначала коленями и только с них — в полный рост.
Серегу качало как после испытаний на центрифуге, которую ребята меж собой называли по-домашнему «сепаратором», потому что она, образно выражаясь, и в самом деле служила для отделения «сливок» — особо выносливых — из их общей солдатской массы. Только Серега, хоть и попал в разряд этих самых «сливок», если честно признаться, чувствовал себя после центрифуги довольно простоквашно… Но надо было поражать мишени, метать в цель гранату, отвечать на каверзные вопросы, исполнять разные вводные команды. И они делали все, что от них требовалось.
Подумав об этом, он невольно внутренне подобрался и сразу ощутил твердость в ногах.
Последний вагон пассажирского поезда покинул пределы станции, и семафор вновь насторожился красным глазом, извещая свое «ходу нет». Серега развернул телеграмму. Адресовалась она довольно оригинально: «Лене из седьмого вагона». Далее указывались временные координаты поезда и текст: «Прохоров в поиске, прибыть не может. На встречу выехал коллектор Сергей Крутов». Миша был верен себе — сделал все, что мог. Даже должность его поинтеллигентнее обозвал.
Серега перевернул листок, и в глаза одной фразой бросились три слова: «ЛЮБЛЮ ЖДУ ЛЕНА», выведенные крупным округлым почерком без точек и запятых.
— Ясней, пожалуй, не скажешь, — заметил подошедший дежурный и спросил: — Через Неходу добирались?
Cepeга кивнул. Говорить ему не хотелось, да он и не мог.
Мимо них медленно, проходил станцию его, Серегин, экспресс. Из бокового окна выглядывал сосредоточенный Леша. Серега сцепил руки над головой и потряс ими в благодарном приветствии. Леша, узнав его, заулыбался и помахал ответно.
«Эх, не тот морячок попался тогда Степанычу в поезде. Этот бы живо развернул его на сто восемьдесят градусов», — с восхищением подумал Серега о машинисте и только сейчас спохватился, что не знает даже имени его. А ведь он и сегодня сделал для Прохорова, пожалуй, больше, чем мог. Вернее, чем положено было, по графику…
Да разве для Прохорова одного?
Провожая благодарным взглядом свой экспресс, неудержимо катящий в «сторону южную», Серега вдруг запоздало подумал, что ведь именно там, за тысячами верст, и его любят и ждут…
Все эти стремительные полсуток он, конечно, ни на минуту не забывал об Оле, был мысленно с нею в прошлом-настоящем,-будущём. Только пространственные устремления его ограничивались Узловой, словно сама Оля ждала его там. И он спешил к ней на пределе возможного. И вот примчался, стоит посреди пустеющей таежной станции, где два поезда, как две неведомые друг другу судьбы, встретились на мгновенье и разошлись – в разные стороны, обострив в нем нестерпимое желание видеть Олю и никогда не разлучаться с ней.
А состав все тянулся и тянулся, заметно ускоряя свой бег и тем как бы подталкивая, поторапливая его, Серегу, на какое-то единственное решение. Но он продолжал неподвижно стоять, глядя на мелькающие колеса и чувствуя, как холодок сомнений зазмеился в его растревоженное сердце: а довольно ли того объяснения, тех доводов, которые Оля получила в июльском письме? «В строительный поступать раздумал, бросить экспедицию в разгар сезона не могу: здесь очень интересно и нелегко…»
Да, да, конечно же именно это подспудно тревожит его все последние дни. И он словно пишет Оле огромное-огромное письмо, которое не уместится ни в одном конверте, каким бы мелким почерком ни было оно написано… А буквы сами по себе выходили крупные, заглавные, как в этой ответной «телеграмме» или даже как те, что на песке… Все августовские дни страницы этого воображаемого письма были мучительно безмолвны… И первой строкой, пожалуй, легла радиограмма Прохорову, а потом — «пошло, когда поехало»… И в письме этом не просто оправдание таежной задержки, но и суть, осознанная правота, убежденность его весеннего броска в тайгу…
Сменив форму на непривычный гражданский костюм, в Ростов тогда Серега вернулся уже на третий или четвертый день — не отдыхалось в родной станице. Тетя Зина, старшая отцова сестра, обрадовалась «мужскому пополнению». При ней зимовал внук-подросток, родители которого работали за Полярным кругом. «Ты на него хоть влиять будешь, а то без мужской руки их поступки с умом вразлад ходят», — обнадежилась тетя Зина.
Племянник Гошка обрадовался по-своему. «Дядь Сереж, да объясни ты ей, — кивал на бабушку, — что хоккей — это не только синяки, но и сила! здоровье! характер!» Последние слова Гошка для убедительности выкрикивал. Неустоявшийся голосок его звенел, вбивая восклицательные знаки, точно гвозди. Такое крылатое убеждение он явно перенял от своего дворового тренера-энтузиаста. Но тот, к сожалению, не был авторитетом для бабушки, потому что сам «возился с шайбой, как маленький!»
Серега без оговорок взял Гошкину сторону, не забыв, однако, на правах старшего поинтересоваться учебой. В этом деле племянник был твердый середняк, отличника из него не делали, и жизнь протекала спокойно. Нередко Оля сразу после занятий забегала к ним и устраивала Гошке-инспекторскую проверку домашних заданий. Гошка боготворил Олю и старался во всю. Получив от неё «добро» на хоккей, он с независимым видом шествовал мимо бабушки облаченный в игровые доспехи.
Дяде и самому впору было браться за клюшку с шайбой — с первых дней «гражданка» стала испытывать характер его на сжатие и разрыв.
Не имея ничего против будущей Олиной профессии, Серега пошел в строители. Направили подсобным рабочим в бригаду отделочников из «фасадстроя». «Там мастера что надо, — пояснил пожилой мужчина в отделе кадров, — быстро всем премудростям обучат». — И подмигнул почему-то.
Словосочленение «фасадстрой» показалось Сереге странноватым, даже веселым, заряженным ироническим смыслом — мол, наше дело с лица припудрить, подкрасить, а остальное… Однако служба такая существовала. В официальные, торжественные моменты ее исполнители брали на себя ответственность за «лицо города», а в будни позволяли себе шутливо именоваться «косметиками» и «парикмахерами». Народ в бригаде был разновозрастный и разношерстный. Были и мастера реставраторам сродни, руки которых не грех и золотыми назвать. Были и подмастерья, ну те, что «от и до», без огонька и полета, и вовсе подсобники — «подай-принеси», — как он, Серега. За несколько лет бригада устоялась, отлетали разве что одни подсобники. И на Серегу тоже здесь смотрели как на временное явление, сразу же окрестив «студентом». Он и сам не скрывал того, проявляя повышенный интерес ко всему, что и как делалось в бригаде.
Зима для строителя, конечно, не сезон. Для фасадников тем более. Отделывали больше «внутренности», работы хватало. Меж тем и о приработке не забывали. Левые рейсы в бригаде называли культурно «шефской помощью». И Серега вначале принял это за чистую монету. В первый же месяц ему довелось с подмастерьем Сан Санычем, говорливым мужиком средних, а точнее — неопределенных лет, обновлять одной старушке кухню-комнату. Целый рабочий день, даже с прихватом, ухлопали они на это, но Серега был доволен, видя сияющее лицо хозяйки, которая, казалось не знала, как отблагодарить их, и все приговаривала: «Теперь и умереть не стыдно в чистом…» Только на улице его приподнятое настроение вдруг обратилось, в свою противоположность: Сан Саныч жестом мэтра-благодетеля протянул ему десять рублей.
— Да вы что? — изумился Серега.
— А что? Мало? Так ведь еще ж шефу двадцатняк отваливать. — Сан Саныч суетливо пошарил по карманам и добавил к десятке три рубля. — Это, конечно, мизер… Но ведь и сам пойми, какой со старушки навар. Летом бы мы с ней и не связывались. А зимой «кошельки» не больно-то с ремонтом любят возиться…
— Да не о том я, — безнадежно махнул Серега рукой, взял деньги и, холодно распрощавшись с Сан Санычем, вернулся к старушке.
— Тут небольшая ошибочка произошла, — конфузливо проговорил он, протягивая ей свою долю.
— Ой, да что вы, зачем? Соседи сказали мне, что пятьдесят рублей — это по-божески…
С досадой Серега ожидал очередных «левых рейсов», но вскоре они для него вовсе отпали.
Как-то на объект к ним (они завершали отделку фойе кинотеатра) пожаловало начальство. То, что оно значительное, Серега определил по степени суетливости прораба. Хотя само начальство — чернобровый, начинающий полнеть мужчина, обряженный в импортную меховую куртку, — держался довольно просто. Осмотрел все закоулки фойе, беседовал с бригадиром, мастерами, задавал вопросы, внимательно слушал кивая, сам что-то говорил. Несколько раз Серега ловил на себе его пристальный взгляд, а потом бригадир зачем-то представил их друг другу, назвав начальство Александром Демьяновичем. А когда тот, пожимая руку, произнес свою фамилию и спросил: «Сергей, если не ошибаюсь?» — стало ясно, что перед ним Олин отец.
Александр Демьянович отвел его в сторону и после нейтрального вопроса — «Как работается» — высказал главное, зачем пришел.
— Оля проинформировала меня в деталях о ноябрьских событиях, — с добродушной улыбкой начал он, сразу высказав этим свое отношение. — Мать, конечно, тоже не молчала. Но ее можно понять: столько лет жила с мыслью о Валерии Аркадьевиче для Оли — и вдруг… А вы еще подбавили перцу своим сюрпризом. Короче, хватит прятаться, приходите без всяких яких…
Прощаясь, он снова повторил свое предложение: «В общем, заходи сегодня же, не откладывай».
Это слышали многие. И бригадир в первую очередь поинтересовался:
— О чем это вы с управляющим трестом так мило беседовали?
Серега, находясь в естественном смятении от неожиданной встречи, бросил в ответ неопределенное:
— Да так, по-личному. — И тем самым напустил еще больше туману.
В тот же день до его слуха долетел обрывок разговора бригадира с Сан Санычем:
— Ты «студенту» деньги давал?
— А как же, больше чем надо — третью часть…
— Без комментариев взял?
— Как миленький…
— Ну ладно, может, пронесет. Но больше не стоит с ним. Черт нам его подбросил. Язык держи покороче.
И на душу Серегй созвучно легло тогда печорянское восклицание из «Тамани»: «И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов?»
С того дня Серега стал ощущать, что в бригаде к нему относятся с некоторой оглядкой, а у бригадира и прораба к тому же проскальзывала нелепая предупредительность. И Серега более чем когда-либо почувствовал себя здесь временым и лишним.
Как бы в обмен на бригадные утраты, в доме Оли погода для него играла на прояснение. Лариса Анатольевна с трудом, но все же смирилась с потерей «синего». Более того, будучи педагогом с домашним полем деятельности, она никак не могла-остаться безучастной к судьбе избранника дочери, и вскоре Сереге пришлось выдержать несколько пытливых бесед… Александр Демьянович демократично намекал о своих возможностях помочь «наверстать упущенное»… Лариса Анатольевна излагала свои пространные жизненные принципы, подкрепляя их опытом знакомых, достигших весомого положения… Оля с увлечением рисовала ему будущую институтскую жизнь, в которой для Серегй единственное было ясным и желанным — Оля рядом…
Получалось так, что все знали наперед, что и как должен делать Серега в своей жизни, и только сам он не ведал пока о том…
Это обстоятельство все больше тревожило его, заряжая сомнениями, и он все чаще чувствовал себя рядом с Олей не как на острове, а как на даче… Требовалось самому ответить на многие вопросы, оглянуться на свое городское житье-бытье со стороны, а еще лучше издалека.
При расставании Оля сказала очень важные слова:
— Я чего-то недопонимаю, но верю, что поездка эта нужна тебе.
И был еще грустный любящий взгляд…
Тепловоз, на который определил Серегу дежурный по станции, был той же серии, что и предыдущий, и он уверенно прошел в кабину, поздоровался, известил о пункте своего назначения и опустился на «седушку», словно егу тут только и не хватало. Помощник и машинист, оба мужчины средних лет, были поглощены своим делом и не стали уделять гостю досужего внимания, и он, благодарный им за это, расслабившись всем телом, откинулся к подрагивающей стенке и закрыл глаза.
Сон налетел сразу, как окунь при хорошем клеве: только забросишь удочку — поплавок тонет. Дергаешь — на крючке пусто, сорвалось. Так и Серега на неудобной «седушке» все никак не добирался до настоящего сна. Только окунется в дрему, как просыпается оттого, что падает. Наверно, эти начала падений наяву и вызывали во сне видения прыжка с парашютом… Вот он летит, но все не слышит спасительного хлопка над головой… Переполошно ищет на груди кольцо и не находит… И просыпается со вздрогом, и поспешно возвращает тело в вертикальное положение. Несколько секунд смотрит на сутулую спину помощника машиниста, стоящего перед ним, но веки сами смыкаются, и он снова летит…
И все эти нырки в забытье сопровождались постепенным оглушением и возвращением шумов, словно кто-то забавы ради крутил в нем туда-сюда регулятор громкости. Потом тело его, видно, приняло относительно удобное положение, и парашют сна, наконец, раскрылся…
Идет он ночной улицей. Тьма вокруг литая: ни огонька, ни живого голоса. Лишь слышится шум дождя, но влага его неощутима, словно дождь идет внутри огромных, едва различимых зданий с высокими дворцовыми дверями. Одну из них он открывает и прямо с порога попадает в большой, ярко освещенный зал, уставленный длинными пировальными столами. Веселье в разгаре: шум, разноголосица, смех, звон посуды. Преисполненный какой-то важной мыслью или известием, он проходит на середину зала и говорит,- не повышая голоса: «Живые, замрите!» Сидящие за столами стихают, и только одна пожилая женщина все говорит и говорит. Все в напряженном молчании смотрят на нее. И она вдруг спохватывается и понимает все: что ей надо уходить, что она… Женщина встает из-за стола жалкая, потерянная и направляется к двери, распахнутой во тьму.
Но Серега, он и не он, останавливает ее и обращается ко всем: «Мы можем совершить чудо, если очень захотим». Больше он ничего не говорил вслух, но чувствует, что его понимают. И суть чуда — чтобы все присутствующие мысленно пожелали этой женщине добра… И он сам начинает сосредоточенно думать об этом. Но чей-то нелепый смех мешает. В дальнем углу зала оживилась группа молодых людей. Он смотрит в их сторону, и под его взглядом они виновато умолкают — и становится тихо, как в зимней тундре. Тягучая минута. Напряжение в нем самом нарастает. И голова, как и все тело, словно сжатый кулак… А напряжение растет. Боль в груди. Кажется, что он сам не выдержит и крикнет сейчас или уйдет…
И вдруг мрачное лицо женщины разглаживается, светлеет, и только в глазах еще стоит печаль отрешенности. Но вот и глаза оживают. Сначала они растерянным взглядом блуждают по лицам присутствующих, как бы ища подтверждения чуда, и наконец осознают его и вспыхивают пронзительной радостью…
Под возгласы восхищения она возвращается к столу совсем юная, как я все в этом зале. Снова шумит веселье. А Серега, открыв людям и себе какую-то важную-важную истину, смертельно усталый и уже немолодой, незаметно скрывается в черном провале двери. И снова темная улица. Кто-то настойчиво хватает его за рукав. Он оглядывается. На мгновенье мелькает перед ним юное женское лицо, а мужской голос твердит: «Эй, парень, эй…»
Проснувшись, он видит склоненного над ним машиниста:
— К твоей подходим, притормаживаем. Деду кланяйся. Славный, говорят, мужик. Мне о нем еще батя сказывал. Батя у него сутки отогревался, когда снегом полотно завалило. А мне вот не довелось с ним за чаркой посидеть. Только с флажком желтым и вижу. Жаль вот, осиротел… — машинист оглянулся на дорогу. — Вон и сейчас стоит.
Серега выглянул в боковое окно, омылся свежим ветром и сразу увидел и дом, и одинокую фигуру Неходы с восклицательным знаком флажка в правой руке, и зеленый холмик под молодой березой… Сердце тревожно и радостно защемило. И он мысленно вставил только что виденный сон и все это в свое огромное-огромное письмо…
«Самая короткая дорога та, которую знаешь» — говорят в народе. «А еще короче и добрей — которая знает тебя», — с полным правом мог бы добавить разнорабочий поисковой партии, бывший десантник Сергей Крутов. Обратный путь его на базу по времени стал едва ли не вдвое короче и был осветлен тихой, как доброта, радостью, которой он одарял всех, причастных к ее рождению. И от этого радость не меньшилась, не крупилась на части, а росла, набухала, гранилась новой встречной радостью и заражала нетерпением дороги. Скорее, скорей нести ее дальше, к тому, кто еще не знает о ее рождении.
И только оставшись наедине с «газиком», он вдруг осознает счастливый итог утра, и каждая грань радости воскресит мгновенье встречи.
…Нехода приветливо заулыбался, завидев его, спрыгнувшего с тепловоза. А он, размахивая телеграммой, подбежал к старику и, не сдерживая чувств, обнял за плечи и прислонился своей заросшей щекой к его чисто выбритой.
— О цэ добрэ, Сережа, о цэ добрэ, — часто помаргивая ресницами, повторял Нехода, прочитав три слова Лены. — А я вжэ баньку затопыв та бачу, шо не всыдишь… Поспишай, поспишай, дило нэтэрпляче.
…И Лысуха, казалось, с нетерпением покосилась на него и уже не выражала недовольства, когда он сел в седло, и сразу же за путями взяла бодрую рысь, точно знала, что везет…
…Меркуловну застал посреди двора в окружении кур. Она вытерла руки о передник, взяла протянутую телеграмму и долго смотрела на округлые буквы.
— Ой, хорошо-то как… И чужая вроде радость, а душе праздник, — наконец откликнулась она, смахивая тыльной стороной ладони подступившую слезу. И без слов было ясно, о чем печалилось и чему радовалось материнское сердце.
— Своя-то далече? — спросила.
Серега ответил.
— Далековато… Хоть и говорят — разлука любовь, раздувает, да все ж лучше рядом быть. А то как задует не с той стороны…
…Нежданной-негаданной была встреча на воде. Серега только миновал железнодорожный мост, как из-за поворота реки вылетела пестро раскрашенная лодка. Фигура мужчины в наглухо застегнутом дождевике и таком же брезентовом картузе показалась знакомой. А когда поравнялись и приветствовали друг друга взмахом руки, сомнений быть не могло — Харитон Семенович собственной персоной. Серега громко ого-гокнул и круто развернул лодку. Харитон Семенович понял его маневр и сбавил ход. Мягко швартуясь к Харитоновой лодке и еще раз приветствуя его, Серега протянул листок телеграммы. Харитон Семенович степенно взял его, шевеля губами, зачел про себя три коротких слова..
— Ну, значит, полный порядок, — заключил после некоторого раздумья, вернул телеграмму и знакома зыркнул-прицелился на Серегу правым глазом.
После этого взгляда Сереге сразу захотелось задать ему ехидный вопрос о моторе: «Ну как, не захлебывается?» Но краски обеих лодок были так родственно схожи, что Серега неожиданно для себя сказал:
— Спасибо вам…
— Да и вроде не за что, — ответил Харитон Семенович, хитровато улыбнувшись, и так, не разгаданный, пустился дальше в свой путь.
…Митя, издалека признав голос своего мотора, вышел к реке всей семьей, с неизменным Каштаном. У Мити на руках был Акимка, и Серега протянул телеграмму Любушке. Она прочла ее вслух и, зардевшись в радостном смущении, прислонилась головой к Митиному плечу. Радостно сияло на солнце и подворье Сосновых.
…Даже лай Харитоновой своры, проводивший Серегу за деревню, не показался ему в этот раз сердитым.
Машина взяла небольшой подъем, и за поворотом открылась поляна, охваченная полукружьем леса. Вчера в хмари и спешке Серега не заметил ее, а сейчас, высвеченная солнцем, она предстала во всей красе и очень напомнила ту самую, на которой увидел он среди ромашек распластанного Прохорова.
Серега остановил «газик» и выбрался из кабины. «Стриж», умытый Любушкой и подкрашенный Митей, имел отменно парадный вид и улыбчиво сиял фарами. Ступил на поляну. Ромашку сорвал. И пока шел, с каждым шагом отрывал по лепестку, гадая: «Любит — не любит», и с последним лепестком — «любит» -— остановился, суеверно поймав себя на том, что совсем не подумал, не произнес мысленно имя той, о ком гадает. Но само по себе это утверждающее «любит» легким волнением шевельнулось в душе.
В безветрии было непривычно тепло и ясно. Серега мягко осел в траву и, запрокинувшись на спину, широко распахнул руки. «Остров, остров, как ты далек…»
Окруженное веером ослепительных облаков, веселой ромашкой глядело на него солнце. И Серега, сощурившись, стал мысленно отрывать по облаку-лепестку, шепча гадальное «любит — не любит». И снова на последнем, самом большом и клубистом облаке выпало «любит». И снова при этом он забыл «загадать» имя. Но уже рассмеялся своему суеверию, потому что солнце само выплавлялось в огромную букву «О». А мир весь был словно Митиной кистью высветлен.
Серега закрыл глаза и представил, как скоро он подкатит к базе и порадует ребят… Как вручит три бесценных слова Степанычу, ведь сегодня такая летная погода… И не ведал он, что в ответ на телеграмму Прохоров протянет ему письмо из Ростова, в котором будет много-много вопросов. И его нестерпимо потянет снова в дорогу.
По мотивам повести В. Деткова “Три слова”.
Бывший десантник, а теперь – рабочий геологической партии Сергей Крутов спешит на станцию, чтобы встретить незнакомую девушку и взять у нее записку для своего друга. Доставив заветное послание, он с радостью узнаёт о приезде той, о которой думал, спасая чужую любовь…
Режиссёр: Сергей Никоненко
В ролях: Ольга Битюкова, Александр Новиков, Юлиана Бугаева, Анатолий Ромашин, Лев Прыгунов, Зинаида Кириенко, Фёдор Валиков, Сергей Никоненко, Екатерина Васильева, Екатерина Воронина, Андрей Вертоградов, Валентин Манохин, Алексей Ванин, Эльдор Уразбаев, Виктор Филиппов, Александр Январёв, Георгий Светлани, Александр Савченко, Александр Пяткова
Год выпуска: 1983
(Скачать: “Люблю. Жду. Лена” )
