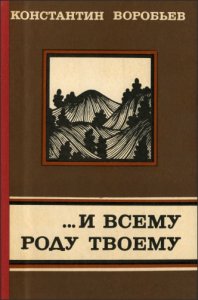
Мы жили с матерью на краю деревни. Наша хата стояла накренившись в овраг, и ее соломенную крышу растрепали ветры и галки. У нас была бурая, лохматая корова с присохшим выменем и петух — косой, с общипанной в драках шеей. Нам нечем было платить общественному пастуху, и корову стерег я. Вечерами к нам в хату приходили бабы ругаться с матерью, но ни одна из них не говорила ей правды: я никогда не рвал огурцы с плетями; и пусть бы они попробовали заставить нашу корову бежать по дороге, а не огородами, когда она вздумает держать хвост трубой!
Мать мочила в ведре полотенце, задирала на моей спине рубаху и била в такт словам:
— Будешь знать! Будешь знать!
А потом, когда бабы уходили, смиренные моим криком, мать виновато гладила мою голову и шепотом признавалась, что стегала меня нарочно, «для них». Так случалось почти каждый вечер, и я, крепко любя мать, изо всех сил ненавидел ее рот и руки. Мне даже казалось, что они у нее чужие, не свои, и делают со мной все это против ее воли и желания.
Я стал уводить корову далеко за деревню. Там, оказывается, протекал небольшой ручей и зеленел неширокий луг, заросший одуванчиками. Цветы эти я не любил: нагруженные желтым нектаром, на их головках постоянно ютились невидимые пчелы, и мои босые ноги были сплошь искусаны ими.
На этом лугу девочка в красном платке и с длинной хворостиной в руках стерегла гусей, В обед она садилась на берегу ручья и принималась плести венок. Однажды, когда я мочил в ручье сухарь, она подперла щеку рукой и спросила:
— А пирога хочешь? Я отказался.
— Дур-рак, он жа ж на меде!
Из-под сбившегося на лоб платка на меня удивленно-пытливо глядели два синих глаза. Я отвернулся и с непонятным чувством обиды на кого-то съел свой сухарь…
В те годы я не знал, что васильки — сорная трава. В нашем краю васильки были цветами, и назывались они синелью. Каждый раз я приносил домой синюю охапку, и в нашей хате все время стоял грустновато-пряный запах.
Дарья — девочка в красном платке — к концу дня набирала целый огненный сноп одуванчиков, и рядом с ним ее глаза цвели синелью. У нее были прозрачно-розовые мочки ушей, и мне очень хотелось прикоснуться к ним мизинцем. Однажды, когда я поздно вел корову на луг, Дарья встретила меня на полевой дороге и, отогнув платок, сказала:
— Погляди-кась!
В ушах, пронзив их, алели стеклянные капли сережек. Я не удержался и потрогал их пальцем.
— Больно было?
— Ага.
— А зачем же ты давалась колоться?
— Зато я теперь хор-рошая! — убежденно сказала она, и это была правда.
В тот же день из богородицыной травы пополам с одуванчиками Дарья сплела венок и осторожно надела его на мою голову.
— Вот. Теперь ты тоже хор-роший-хор-роший,— шепотом сообщила она и оглядела меда по-хозяйски заботливо, как свою куклу. Я не перенес ласки этих Дарьиных слов, ткнулся увенченной головой в траву и заплакал, припомнив вдруг все обиды, нанесенные мне жизнью, за все мои восемь лет. Дарья долго сидела молчаливая и испуганная, потом сообразила:
— Тебя пчела укусила, да? У-у, злюка какая! Она и меня послевчера кусала. Только я не плакала. Послюнила и прошло. Давай тебе тоже послюню…
Вечером, уводя корову домой, я крикнул девочке издали, что не хочу называть ее Дарьей.
— Отчего? — поразилась она.
— Так кличут у нас бабку… что повитуха.
— А как же ты будешь звать меня?
— Синелью,— тихо сказал я. Дарья задумалась на минуту, потом негромко ответила:
— Ну ладно. Зови.
Каждое утро я просыпался с какой-то пламенной радостью. Сверкал ли мир светом, было ли пасмурно,— я знал, что на лугу, у ручья, полыхает красный платок Синели, она плетет венок и ждет меня…
Есть в детстве видения, которые сохраняешь в памяти на всю жизнь. Незначительное, какое-нибудь обыденное событие, но ты носишь в сердце этот крохотный кусочек своего босоногого начала, и бережешь, и никому не рассказываешь о нем из боязни, что над тобой посмеются. Из той поры я навсегда унес с собой в жизнь один летний день. Ночью прошел ливень, и наш ручей превратился в маленькую речку. Под ярким утренним солнцем луг источал пресновато-свежий дух, а прямо надо мной и Синелью в стремительном лете со звоном рвал шелковистую голубень воздуха бекас.
— Как балалайка. А высоко — аж под самым громом! — сказала Синель о бекасе, и когда я задрал голову, она шлепнула меня по руке и под крик: «Догоняй!» побежала по лугу. Мокрая трава по-живому пищала у нас под ногами, а выпуклые пятки Синели были чисты и ярки, как головки полевой ромашки. На берегу ручья, там, где он приласкал-пригладил траву и отступил, мелея, луг был мягок и упруг, как резиновая подушка. Там я настиг Синель и готовился схватить ее за косу, но от острой боли в ступне поскользнулся и свалился в ручей, забив илом глаза. Синель от смеха присела в траву, но, когда я вылез, хромая, на берег, она смолкла, подбежала ко мне и острым уголком платка стала очищать мои глаза.
— Гляди влево. Во! А теперь вниз. Во! А зараз погляди вверх…
Я глядел, не видя ее, и, ощущая боязливые движения ее теплых пальцев, чему-то радовался. Потом она потерла слюной мою ногу в том месте, где болело, и
сообщила:
— Колюка. Большу-щая!
Кончиком булавки она небольно и очень долго ковырялась в моей ноге, а я сидел, почему-то тихо дыша, и мог сидеть так до вечера.
— Вишь, какая зараза! — сказала потом Синель и поднесла к моим глазам небольшую занозу.
Вот и все события моего ясного дня. Но я помню цвет и ощущаю запах его, помню и ощущаю бесконечное движение всех его секунд…
Прошла осень. Мать сшила мне холщовую сумку, положила в нее кусок хлеба, и я пошел в школу «записываться». В школьном саду опадали яблоневые листья, и на желтом крыльце стояла Синель. Мы запоздали к началу первого урока: сквозь широкие школьные окна в сад лился стоголосый размеренный речитатив:
Вот ля-гу-шка по до-рож-ке
Ска-чет, вы-тя-нув-ши нож-ки!
Ква-ква-ква! Ква-ква-ква!
Ска-чет, вы-тя-нув-ши нож-ки!
Я впервые видел Синель такой нарядной. В новых ботинках и голубой вязаной шапке, она стояла с пестрым баульчиком в руках и казалась мне незнакомой, чужой. Она не замечала меня, даже не взглянула в мою сторону, и я снова, как в тот раз, когда ел при ней свой сухарь, испытал непонятную тоску и обиду. Я сдвинул свою сумку за спину и боком, глубоко погружая лапти в опавшие листья, вышел из сада…
На третий день я снова пришел в школу. Узнав, чей я, старая учительница посмотрела на меня ласково и посадила на первую парту, рядом с Синелью. Красные ленты в ее косах все время горели у меня перед глазами, потому что сидела она полуотвернувшись. Я не заговаривал с ней, подавленный ее нарядностью и отчужденностью, но вскоре со мной случилось горе, восстановившее нашу дружбу.
В ту зиму исполнилось три года со дня кончины Ленина. Однажды мы рисовали Мавзолей, и у меня сломался карандаш. Рядом у моего локтя лежали карандаши Синели, но разве я мог попросить у нее? Я обернулся назад. Мой сосед Иван Веревкин пыхтел над рисунком, подперев языком щеку, и я незаметно взял его свободный карандаш, лежавший на краю парты. Я раскрасил Мавзолей, густо послюнив карандаш, и уже хотел положить его на место, но в это время учительница объявила перемену, а Иван — пропажу. Я хотел сказать ему, что карандаш цел, вот он, но Иван пригрозил школе отцом и заплакал. Утешая его, учительница сказала, что воришка будет найден после перемены. Карандаш был не длиннее спички и обжигал мою ладонь, как раскаленный гвоздь. Мир стремительно рушился на моих глазах, и я изо всех сил хотел избежать гибели. Выйдя из школы, я побежал в дальний угол сада и там под кустом закопал свой позор в землю.
После перемены начался обыск, и, когда вывернули мою сумку, темные крошки хлеба, высыпавшиеся на парту, начали расти в моих глазах в громадные глыбы. Я не мог утереть слез, не мог поднять головы, и в это время Иван обрадованно крикнул:
— Это он спер! Гляньте-кась, у него на губе метинка от моего карандаша!
Дальнейшее я помню смутно.
Домой я шел не улицей деревни, как всегда, а огородами. На полдороге меня догнала Синель и долго шла рядом, молча трогая меня за край сумки. Я резко отпихивал ее руку и ускорял шаги, тогда она зашла наперед и проговорила одним дыханием:
— Ну чего ты плачешь? Ты же не крал его, правда? Ты же хотел порисовать только, а потом хотел отдать, а он, дур-рак, подумал… А на перемене ты закинул карандаш под школу, правда?
Я заревел во весь голос.
На второй день учительница выдала нам с Иваном новые, еще не очинённые карандаши и посоветовала забыть прошлое. Я был согласен, но Иван думал иначе. На переменах он сживал меня со света, дразня вором и требуя «свой» карандаш. По совету Синели я легко отдал ему подарок учительницы, он сунул карандаш в карман, и знакомая уже мне радость расцвела на его роже:
— Ага! А говорил, что не крал!
— Вот и нет! — крикнула Синель, и кончик его носа отчего-то стал белым, как перламутровая пуговица. Поджав правую ногу, Иван запрыгал от нас на левой, выкрикивая слова совсем не из букваря. Синель опустила голову, и голубой мохор ее шапки затрясся мелко и часто. Я двумя прыжками настиг Ивана и с ходу укусил его за ухо, потом вцепился пальцами ему в губы, и в мои ладони горячо потек пронзительный и длинный, похожий на поросячий, визг.
После этого Иван накрепко забыл наше «прошлое».
В тот же день, возвращаясь из школы, я спросил Синель, за что она все время на меня злилась.
— А я и не злилась. А только ты отчего тогда не подошел ко мне и не поглядел на мои ботинки… И на шапку, и на баульчик!
Мне очень хотелось отлупить ее, потому что я смутно обвинял ее в случившейся со мной истории с карандашом. Ведь у нее их было много, и я мог бы не оборачиваться к Ивану.
Жила Синель на хуторе, километрах в двух от школы, и дорога к ее дому пролегала мимо нашей хаты. В зимние дни смеркалось рано, и я провожал Синель далеко за деревню. Я шел впереди, протаптывая снег широкими подошвами лаптей, а она хрумкала валенками по моим следам сзади.
— Теперь ты уже дойдешь одна,— говорил я Синели, завидя ее хутор.
— Теперь дойду,— соглашалась она. Мы расходились, поминутно оглядываясь, и от этого Синель часто падала. Тогда я останавливался и провожал ее глазами до самого дома.
В один метельный день я привел ее прямо в хутор. Меня поразила дубовая крепость приземистых амбаров, густо рассаженных во дворе, и малиновая роспись резных петухов на оконных наличниках дома. На крыльце Синель как-то сразу притихла и съежилась и долго обметала мои лапти соломенным веником.
— Ну, теперь заходи,— шепотом сказала она и боязливо взялась за дверную ручку. Я переступил порог и остановился у притолоки, охваченный густым, устоявшимся запахом настоящего ржаного хлеба.
— А шапку надо сымать, малый. Ты не в школе. В раме чуланных дверей стоял высокий одноглазый мужик с длинной, худой шеей. Сцепив одной рукой рыжую узкую бороду, он разглядывал меня, как наш петух зерно перед тем, как его клюнуть. «Кочет» — прозвал я его в душе и снял шапку.
— Дашка, на печку! — приказал он, не меняя позы. Синель взяла валенки, отерла их рукавом и бережно, будто две темные иконки, поставила в угол. Высторчив острые локти, она юркнула на печку и скрылась там в теплых потемках.
— А ты, малый, иди к себе,— посоветовал мне «Кочет».
Я попятился в сени, не решаясь в доме надеть шапку, и в это время из чулана вышла женщина. Оглядев меня синими глазами, она негромко сказала:
— Куда ж он в такую погоду… Подвез бы ты его, Проша!
— Дойдет сам!
Я, конечно, дошел, но с тех пор провожал Синель только до полдороги.
Каждое утро, идя в школу, Синель останавливалась у нас под окнами, но больше одной минуты я не заставлял ждать себя — я очень боялся, что она зайдет к нам в хату и увидит наше с матерью неуютное житье-бытье. Мать, наверно, догадывалась об этих моих страхах, потому что однажды сказала мне:
— Что же ты, сынок, не по плечу подругу себе нашел? Ведь она богатая.
— Зато отец ее злой, как черт!— уравнял я наше положение.
— А он ей не отец,— сказала мать.— Он ей отчим.
Я плохо знал, что это такое, но в душе крепко чему-то обрадовался и на второй день спросил Синель, правда ли, что ее отец не отец ей. Она молча кивнула головой и только на обратном пути из школы объяснила:
— Мой папашка помер аж в позапрошлом году, а мы с мамой вышли замуж за этого… А жили мы, знаешь, где? Вон-он там, куда летом закатывается солнце. В Липовке.
— Он, наверное, бьет тебя,— предположил я.
— Так что ж? Маму ж тоже…
Я сказал ей, что он, этот неотец ее, похож на нашего кочета. Синель долго смеялась этому сравнению, и на широком снегу нестерпимо сине сияли ее глаза.
У меня исчезло то нелегкое чувство, которое мешало позвать Синель в нашу хату. Теперь, возвращаясь из школы, мы каждый раз заходили к нам, и я с радостным изумлением видел, что Синели очень нравится наша жизнь с матерью,— борщ без мяса, картошка с кислым молоком и хлеб с мякиной. Когда я, выдув кружку простокваши, по-хозяйски громко просил у матери еще, Синель почти испуганно глядела на меня и тихо чему-то дивилась. Мать подбавляла и ей, знакомым мне движением руки гладила ее голову и коротко вздыхала:
— Господи, вот же бедный ребенок!
Так продолжалось не один и не два года. Я не замечал, чтобы Синель росла: уже будучи в четвертом классе, она так же, как и в первом, читала сказку Пушкина совсем по-детски, нараспев и самозабвенно: «А сама-то велика-ава, выступает будто па-ава…»
— Величава!— поправляла ее учительница.
— Великава,— шептала Синель.
Но в одно весеннее утро я увидел ее взрослой. Она прибежала к нам немного взволнованная, но смеющаяся:
— Пойдем на луг, я тебе что расскажу-у!
Я решил, что она хочет похвастаться там какой-нибудь обновкой,— это с ней иногда бывало и раньше,— но во дворе она остановилась, не в силах нести тайну:
— Ой Сережка, что у нас творится, что творится!
— Где? — не понял я.
— Ну там,— кивнула она на хутор: — Приехали на подводах из сельсовета и давай грузить! И сало, и хомуты, и все-все! А «Кочет» как заверезжит, как схватит ружье… А Яков Петрович — председатель — как крикнет на него: «Брось оружие, волчья шкура! Хватит, попил нашей крови!»
— Это ж раскулачивают вас!— вырвалось у меня, но я тут же поправился: — «Кочета» раскулачивают!
— Ну да! — твердо сказала Синель.— Будет теперь знать! Всю кровь выпил у нас с мамой!..
Наверно, оттого, что лучи встающего солнца падали на наш двор косо, глаза у Синели были темные, а щеки — как кумач.
Хутор перестал существовать. «Кочет» куда-то скрылся, а Синель с матерью перебрались в деревню и поселились у бабки Дарьи. Каждый второй день я носил им кувшин простокваши, и каждый раз, завидя меня с этой ношей, Синель пряталась. Однажды, когда я входил к ним во двор, она убежала за угол хаты и там притаилась в бурьяне.
— Ну чего ты хоронишься! — сказал я, пряча кувшин за спину.— А как же я все время ел на лугу твои пироги? И яблоки, и мед! Ел и не стыдился, а ты… будто чужая!
— Не буду есть!— крикнула Синель.— И уходи ты со своим кувшином, чтоб он провалился! Ходишь к нам, как к побирушкам…
— Дура! — обиделся я за нас обоих, унес простоквашу домой и рассказал матери. Она задумалась.
— По четырнадцати годов уже вам, сиротам. Какая уж тут между вами простокваша! Давай-ка я сама буду носить…
К тому времени мы уже не сидели на одной парте с Синелью, но я пристально следил за ее учебой, радовался ее успехам, огорчался неудачами и под скрытым предлогом ввязывался в драку с тем, кто обзывал ее кулачкой. Это слово было для нее горькой обидой, и она частенько втихомолку плакала. Как-то получалось, что в эту минуту я всегда оказывался возле нее. Мне были решительно непонятны ее слезы, и я злился.
— Ну чего ты плачешь? — спрашивал я.— Разве ты на самом деле кулачка? Ты ж пионерка, и совсем такая, как я!
— А вот и не такая! На тебя же не говорят?
— А на тебя кто говорит?
— Иван…
Я отыскивал этого мучителя, и через минуту он выл во всю ивановскую…
Мы быстро взрослели, и наши отношения становились сдержаннее. Вечерами, уходя в луг, я не смел уже, как раньше, бездумно и просто брать руку Синели, а она чинно ходила со мною рядом на расстоянии в полметра.
Однажды, сидя на берегу ручья, мы долго и напряженно молчали. Я был томительно и радостно взволнован, сочиняя сердцем очередной тайный стишок, где были рифмы: «Синель-Лель» и целые куски из лермонтовского «Демона». Синель тихо грустила о чем-то своем.
— О чем ты думаешь? — тронул я ее издали за пугливый локоть.
— Так… все о том же. Скоро вот закончим среднюю школу… Ты уедешь в институт, в большой город, а я…
— Вместе же поедем!
— А кто меня там примет? Кулачку…
Я не любил капризных и упрямых людей, особенно своих ровесников, и откуда-то знал, что они быстро становятся хорошими после того, как надаешь им тумаков, но ведь Дарья была девочка, Синель…
— Вот что,— сказал я,— пойдем с тобой в сельсовет к председателю, и пусть он тебе скажет сам — кулачка ты или нет!
Оказывается, она и сама думала уже об этом, но решила, что идти незачем: все равно там скажут, что она кулачка.
— Да тебе что, хочется быть ею? — крикнул я.
— Побыл бы ты кулаком, тогда бы знал! — ответила она и заплакала.
В сельсовет мы пошли на второй день с утра.
— А-а, пионерия явилась? — встретил нас председатель.— Ну, что скажете? Вам и в комсомол, я вижу, пора!
Мне бы тут же и удовлетвориться слышанным. Ведь председатель сразу и ясно ответил на наш вопрос, но я решил порисоваться перед Синелью своей обстоятельностью.
— Яков Петрович,— начал я,— вот Синель… то бишь Дарья, думает, что она… да и не думает она, а просто так… взбрело ей в голову — и все! — бесповоротно запутался я в мыслях.
— Что ж ей взбрело? — заинтересовался председатель.
— А то. Вот вы скажите: кулачка она или нет?
— Ну вот еще что выдумал! Она только… как бы тебе сказать, те-ре-тически кулачка.
На улице мы разом сказали друг другу:
— Вот видишь?
Мы крепко поссорились. В три дня я исписал общую тетрадь чужими стихами о тоске, а на четвертый нарвал в своем палисаднике слив и понес их бабке Дарье. «Скажу, что мать прислала».
Синель я увидел во дворе. Она была чересчур веселой и еще издали крикнула мне:
— Ой Сережка! Как хорошо, что ты пришел! А то я хотела бежать к вам, а мне некогда…
«Поверила, наверно, что не кулачка, вот и радуется. .. Эх ты, синь-пересинь!» — подумал я и молча высыпал ей в подол сливы.
Мы сели в густом калачнике, прямо под окнами хаты, и Синель торопливо сказала:
— Понимаешь, мы уже собрались и завтра уезжаем, а у меня твои книги, и адреса ты не знаешь…
У меня вдруг высох рот, и мой вопрос «куда» выскочил из горла обрывком свиста.
— В Донбасс, к моему дяде, а маминому брату. Он шахтер и прислал нам письмо…
Я сидел тихий, придавленный к земле слышанным, а Синель тоже молчала, опустив голову.
— Знаешь, Сережа,— шепотом начала она,— ты же будешь писать мне… А я тебе — так каждый день! Вот увидишь! Увидишь! А через два года ты закончишь девятилетку и приедешь в Донбасс… Хорошо?
В моем сердце не хватало места для молчаливой обиды — обиды горькой, большой и неизбывной,— и я закричал шепотом:
— Нет… не поеду! Не хочу! Это все ты выдумала, чтоб уехать… Разве ты не можешь тут жить? Можешь, да только не хочешь, потому что ты… ты ничего тут не любишь!
Конец этого лета прошел мимо меня в померкших красках. Зима не тронула холодком мой первый горячий порез на сердце, а весной я получил письмо от Синели и чуть не захворал от счастья. Я ответил ей стишком такого размера, что на почте предложили заменить конверт бандеролью…
С этого началась наша почти ежедневная переписка. Наверно, Синель подолгу сочиняла свои письма — они были чистые, ровные и грамотные, как уроки по языку, и я не находил в них ее радости. Я засушил самый яркий василек и послал ей без намека на сравнение, но она ответила: «Синель с нашего с тобой луга никогда не завянет!»
За эти два года я написал ворох стихов и отослал их Синели, а перед самыми выпускными экзаменами получил и от нее недлинное стихотворение. Я запомнил только конец его, взятый в кавычки:
И мучит все меня один вопрос тревожный:
Что в будущем сулит роскошный твой
расцвет,—
Сокровища ль живые силы плодотворной,
Иль только пышный пустоцвет?
Я прочел этот стих десять, пятнадцать раз и представил себе большой, зеленый город, залитый солнцем. Сплошные сады в нем расцвечены голубыми фонтанами, а под ними — огневые головки одуванчиков. Синель рвет их и плетет венок, а рядом тот, кто «не пустоцвет»! Он одет по-городскому — в шляпе, с тросточкой и гораздо выше меня ростом…
Ничего другого я не мог тогда вообразить себе о городе, потому что никогда его не видел.
Экзамены я сдал успешно. Несколько недель мы с матерью не ели молоко: нужны были деньги, потому что я уезжал в Донбасс, в Педагогический институт на литературное отделение. Синели я ничего не написал об этом,— пусть узнает потом, какой я пустоцвет! Встретимся же мы когда-нибудь там, у голубых фонтанов?.. Но в свой дорожный сундучок я бережно уложил новый цикл стихов, написанных уже не под Лермонтова, а под Надсона.
Город был действительно большой, но не зеленый, а серый и душный. Я долго бродил по улицам, разыскивая институт, и не встретил ни одного фонтана, а об одуванчиках и помина не было. То был город шахтеров, а отсутствие шляп и тросточек ободрило меня и успокоило.
Вступительные экзамены в институте начинались через три дня. Я запомнил свою койку в общежитии для иногородних, проверил на всякий случай замок на своем сундучке и, взяв узелок с коржиками, пошел искать улицу Артема.
Да, я волновался и чуточку трусил. У нужного мне дома рос большой тополь, и под ним я долго приглаживал-приучал рукой свои волосы,— на макушке они почему-то были особенно жесткие и торчали во все стороны.
Дверь мне открыла Синель, и первое, что я сделал,— это молча протянул ей узелок с коржиками. Она машинально взяла его обеими руками и осторожно положила у ног прямо на пол, потом только я услыхал ее голос:
— Сергей! Ой Сергей, какой же ты длинный! Ужас один!
— И ты… И ты! Я бы тебя сроду не узнал на улице!..
В коридор вышла мать Синели. Взглянув на меня, она почему-то заплакала, подняла коржики и повела нас в комнату. Дядя Синели встретил меня так, будто я только вчера уехал от них, а сегодня вернулся.
— Прибыл? Ну то добре… Садись, будем полудновать.
За столом мы сидели рядом с Синелью, но мне плохо верилось в это.
— Почему же ты не написал, что приедешь? — удивленно говорила она.— А институт выбрал?
— Ваш, педагогический,— ответил я.
— Что ты говоришь? Так и я ж тоже!
— Не хитрите, дети, бог с вами! — растроганно сказала мать. Синель при этих словах покраснела, а за ней и я.
Потом мы ушли в город, но серые камни никогда не нравились пастухам, и я спросил Синель: неужели тут нет травы и речки?
— Есть, но только за городом. Хочешь, съездим? Вскоре мы были на берегу реки. Ее могучая ширь, затопленная закатным солнцем, наполнила мою душу тихим оцепенением: я никогда не видел такого текучего чуда!
Мы остановились на крутом обрыве. Оттуда хорошо проглядывалась заречная, луговая даль, и белые посады деревень показались мне стайками гусей, лишенных присмотра. Я обернулся к Синели, чтобы сказать ей об этом, и за все годы дружбы вдруг увидел ее всю сразу: глаза, косы, раскрытые губы, смуглый, выпуклый лоб и золотистые ворсинки пуха около мочек ушей… Я протянул руки, обхватил ее голову и впервые в своей жизни поцеловал девушку, свою Синель. Она не противилась, и мое счастье было таким необъятным, таким стремительно-неожиданным и смелым, что я испугался его и опустился на траву у ног Синели. Она глубоко вздохнула, будто нечаянно вынырнула из воды, и не сразу сказала:
— Бессовестный ты, Сергей… А если бы нас увидели? Ну что бы тогда о нас подумали, скажи?
Я вскочил на ноги и закричал всему миру что-то бессловесное, призывное и радостное.
— С ума сошел! — весело крикнула Синель.— И совсем ты не вырос! Каким был на лугу, таким и остался… Догоняй!
Мы учились в одном институте, на одном факультете. Стихи о пустоцвете, оказывается, написал Вересаев, а не Синель; мы были всегда неразлучны, кроме комсомольских собраний, где Синель постоянно избиралась в президиум. Мне это не особенно нравилось, потому что кандидатуру ее выдвигал один и тот же человек — комсорг Павка Коренев. Собрания проходили бурно и затягивались запоздно, а после Павка увязывался провожать Синель на улицу Артема. Я тогда прятался за выступ коридора и оттуда следил за ними. Но Павкины предприятия оканчивались всегда одним и тем же: Синель торопливо искала меня в толпе студентов, а он ходил сзади нее, как на веревочке. Я покидал укрытие и подходил к ним.
— А я тебя ищу-ищу! Где же ты был? — удивлялась Синель.
— Заговорился с ребятами… До свиданья, Павк! Так промелькнул год. Однажды в конце сентября мы долго засиделись на собрании — исключали из комсомола студента, скрывшего свое соцпроисхождение. Домой я провожал Синель по пустынным улицам. Она впервые тогда сама взяла меня под руку и так тесно прижалась, что я ощутил тепло и дрожь ее локтя.
— Боишься?
— Нет,— ответила она глухо.
— У тебя, наверно, ангина,— сказал я.— Приди домой и напейся липового чая.
— Нет, Сережа… Нет. Знаешь, что? Пойдем за город, к реке… на то самое место, где… помнишь?
— Помню!.. Но ведь ночь. И тебе будет холодно.
— Пойдем!.. Я тебе там что-то расскажу…
В ее голосе жила тревога, но я не верил, чтобы это «что-то» было для нас плохим. Мы шли, а прямо перед нами большим васильком цвела Венера; я во весь голос читал стихи, а Синель молчала, слушала.
На обрывистом берегу реки она обхватила мою голову руками и заговорила быстро, как в бреду.
— Сережа! Дорогой… Ты один у меня на всем свете!.. Скажи, мы с тобой никогда не расстанемся? Никогда?
Я исступленно поклялся, что ни в чем перед ней не повинен, что с Надей Плетневой разговаривал всего лишь раз, и зря она черт знает что думает об этом…
Синель заплакала, и я почти насильно увел ее домой.
На второй день было воскресенье, и мы с утра отправились в кино. Шла «Бухта смерти» — повесть о расправе белогвардейцев над заключенными матросами.
— Вот,— сказал я Синели по выходе из театра,— и отец Штыхно, которого мы вчера исключали из комсомола, делал то же самое, когда служил у Врангеля! Завтра соберемся всем курсом и потребуем исключения его из института!
Синель посмотрела на меня внимательно.
— Не будь злым, Сергей… Может, он такой же сын ему, как… как я дочь «Кочету». Я ведь тоже скрыла…
— Ты? Что ты скрыла? — остановился я.
— То, что была раскулачена… Вот что!
Мы долго стояли, потом долго шли куда-то совершенно молча.
— Дура! — придумал я наконец определение ее поступку.— Дура! Ты выдумала себе боязнь — груз виноватых! Тебе нечего скрывать. На тебя не должно падать никакой тени, никакого подозрения! Завтра же напиши заявление в комитет комсомола… Ты не должна жить с этим! Ты чистая!..
— А ты как жил? — вдруг перебила меня Синель.
— С чем жил? Когда? — удивился я.
— А помнишь карандаш? Ведь из всей школы только я одна знала и верила, что ты не… вор! А ты жил никуда не писал заявлений… Почему же я не могу? Ведь ты же знаешь, кто я?
Я был здорово обескуражен этим невероятным обобшением наших поступков. Я чувствовал связь их, но совсем не там, где видела это Синель. Да, я испугался скрыл тогда, что взял на минутку чужой карандаш. Я скрыл правду, и все ребята решили, что я вор! Этой своей ошибкой я утвердил ложь. Это же самое сделала Синель, но мой провал служил ей почему-то опорой
— Пойдем к обрыву! — решительно сказал я.
Река была тусклой и казалась тяжелой, как пласт антрацита. Зябко-красные прутья лозы звенели на холоде то тревожно, то жалобно. Я загородил собой Синель от ветра и стал горячо объяснять ей разницу наших поступков.
— Не надо, Сережа! Я все это знаю сама,— как тайну сообщила мне Синель, а я обрадовался:
— Ну вот! Мы вместе теперь напишем заявление и отдадим его не Павке Кореневу, потому что он… он, наверное, не поймет тебя, а прямо в райком комсомола. Я пойду туда вместе с тобой, сяду рядом — и пусть кто-либо посмеет усомниться в твоей искренности!
— Усомнятся все, и ничего ты не сделаешь! — сказала Синель.
— Но почему? — не понимал я.
— Потому что я боюсь сама… И они там тоже испугаются! Ведь теоретически я все-таки кулачка?
Мне снова захотелось обругать ее, и я сделал это в душе, но сказал другое:
— Тогда… тогда знаешь что? Я сам напишу! Или лучше пойду к секретарю райкома и все ему расскажу. Я скажу, что ты… хорошая, своя, но что ты немного трусиха… Словом, все-все!
Синель удивленно, почти испуганно взглянула на меня в упор и, увидев в моих глазах решимость, вдруг схватила меня за руки:
— Не делай этого! Меня исключат из комсомола… и все тогда отвернутся, и ты тоже! Не надо! Ведь ты все знаешь и так, мы же вместе выросли!
Эта мелкая дрожь ее пальцев, зажатых моими руками, взметнувшийся в глазах темный испуг ее живой души и сдавленный униженной просьбой голос вызвали во мне чувство, которое я не мог определить одним словом. В нем была обида и протест, преданность и гнев, сожаление и любовь — все вместе к нам обоим, на нас двоих!
— Ты не смеешь так! — крикнул я, желая прогнать все это от Синели, чтобы видеть ее такой, какой она была для меня всегда и должна была оставаться.— Не смеешь!.. Я не хочу видеть тебя такой — это не ты! Завтра же я уничтожу к черту все это! Завтра!..
Синель тихо освободила свои пальцы из моих рук и расширенными глазами посмотрела на меня так, словно впервые видела.
— Теперь я тебя поняла,— прошептала она.— Ты хочешь… предать меня!
Мне тогда шел девятнадцатый год, и я во второй раз в своей жизни не перенес слов Синели, я заплакал и, не отдавая себе отчета в том, что я делаю, ударил ее по лицу…
Всю ночь я просидел в лозняке на обрыве. У меня были набрякшие веки, головная боль и хриплый голос, но к утру я знал, что может уничтожить случившееся между мной и Синелью — наш приход с ней к секретарю райкома. Он от дверей еще скажет: «Ага, вот она, кулаческая дочь!» — улыбнется, протянет Синели руку… Мы пошутим, посмеемся над ней, трусихой, потом секретарь вспомнит: «Ну вот что, друзья, я вас оставляю. А завтра или послезавтра ты, Даша, притащи в райком заявление, он — это я! — тебе скажет, как написать».
«Но зачем же заявление?» — смущенная, но уже успокоенная спросит Синель.
«Для порядка. И для порядка же мы влепим тебе выговор».
«Чтобы смелей была со своими друзьями!» — добавлю я, и мы поглядим друг на друга, как прежде…
В город я входил вместе с ранними гудками шахт и заводов. На улицах кое-где горели еще электрические фонари. Они казались мне огромными одуванчиками, качались из стороны в сторону и заговорщицки подмигивали… В общежитии я долго пил воду, но жажда и одуванчики не исчезали. Павка Коренев подошел ко мне с полотенцем в руках и определил весело:
— Ты же болен, чудак!
Три недели я пролежал в больнице с крупозным воспалением легких. Я исхудал, почему-то сильно вырос и нес в своем теле на улицу Артема какой-то звонкий гуд, а в сердце тоску по встрече и примирению. Дверь открыл мне дядя Синели. Он посмотрел на меня рассеянно, как сквозь окно, и сказал такое, что я понял, лишь очутившись на улице:
— Выкорчевываешь? Ну давай, давай… Она уехала. В Липовку. С матерью.
Через несколько дней я был в Липовке — большом селе, верстах в сорока от нашей деревни. Синель туда не приезжала. В адресные столы десяти крупных городов, выбранных мною по карте, я написал двадцать писем-запросов. Шесть городов мне ответили…
Так оборвалась пестрая сказка моего детства и юности. Я бросил институт, уехал на Дальний Восток и поступил там в военно-морское училище…
Потому ли, что я вырос на суше, где всегда остаются следы от ушедших, или по другим причинам, но за пятнадцать лет службы на корабле я не привык к океану. Все эти годы я мечтал о зримых дорогах, которые в конце концов приводят ищущего путника к цели…
Я вышел в отставку и сперва поехал на юг, чтобы полечить простуженные ноги. Доктор, к которому я там обратился, ходил на протезах, и моя коленная хворь не привлекла его внимания.
— А вот сердце у вас тронуто,— сказал он.
— Надеюсь, не холодком,— невесело вспомнил я стихотворение Есенина.
— Нет, гландами, полковник. Советую удалить их. Дело трехминутное и безболезненное.
В хирургическом отделении больницы сестра молча надела на меня толстый клеенчатый фартук, а на шею, у подбородка, повесила большую латунную кружку. Я сел в низкое, покойное кресло и стал разглядывать блестящие инструменты, разложенные на столе. Они были всевозможных форм и размеров, некоторые пугающе искривлены и отточены, и до начала операции я не сберег веру в последнюю фразу доктора.
— Готово? — вдруг спросили позади моего кресла. Я так стремительно встал и обернулся, что зацепил стоявший рядом стул, и он опрокинулся с грохотом.
— Чего вы? — удивленно спросила сестра.— Здоровый мужчина, а дергается, как не знаю кто!..
Всего лишь несколько секунд я глядел на хирурга-женщину в ослепительно белом халате… мою Синель! Она что-то сказала, качнулась ко мне, не сходя с места, но вдруг резким движением руки опустила со лба на глаза рефлектор и молча указала мне на кресло.
Я покорно сел, мгновенно потеряв в памяти все слова, которые накопил за восемнадцать лет для нашей встречи…
Операция продолжалась долго. Сестра крепко держала мою запрокинутую голову, а я смотрел на Синель. Мне был виден ее крепко сжатый, увядший рот и в его уголках колючие стрелки морщинок… И еще я видел ее волосы — по-прежнему пышные и вьющиеся но какого-то стеклянного свечения.
Круглое зеркало рефлектора по-прежнему скрывало от меня глаза Синели. «Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то велика-ава»,— вдруг нелепо вспомнил я и засмеялся. Руки Синели в тот же миг стали жестче, а движения их резче, и я ощутил остроколючую боль в горле. Я не удержал свои руки под фартуком, высвободил их и обхватил пальцами тонкие запястья Синели. Ее щеки мгновенно покрылись краской, и я не знал, был ли то гнев или испуг за то, что я помешаю благополучному исходу операции. Я еще крепче сжал пальцы, и тогда услыхал негодующий шепот:
— Пустите мои руки!..
Я спрятал свои руки под фартук и до конца операции просидел окаменевший, закрыв глаза…
Вечером в палате мне стало плохо. Сестра-сиделка пощупала мой пульс и сообщила кому-то:
— Сто двадцать.
Через несколько минут санитар вкатил в палату тележку, я перебрался в нее, и когда сел, то потолок и стены палаты понеслись вбок, окрасившись багровым светом…
Проснулся я ночью в перевязочной комнате. Широкое окно было открыто настежь. В углу, на столе, мягко горела крохотная, синяя лампочка, и у моей койки в неудобной, усталой позе спала на стуле женщина в белом. Пронзительно тонкий, синий-синий луч бил мне прямо в глаза. Это лампочка отражалась в рефлекторе,— Синель забыла снять его со своей седой головы.