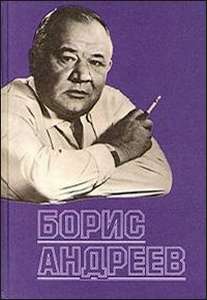
1939 «ТРАКТОРИСТЫ» Назар Дума
реж. И. Пырьев
«БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» Харитон Балун (1-я серия)
реж. Л. Луков
«ИСТРЕБИТЕЛИ» летчик
реж. Э. Пенцлин
1941 «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ» Довбня и боярин Пушкин
реж. И. Савченко
«БОЕВОЙ КИНОСБОРНИК № 8» («ТРИ ТАНКИСТА») танкист
реж. Н. Садкович
«ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» эпизод
реж. М. Калатозов
1942 «СЫН ТАДЖИКИСТАНА» Иван
реж. В. Пронин
«ГОДЫ МОЛОДЫЕ» Захар
реж. И. Савченко
«АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» анархист
реж. Л. Луков
1943 «ДВА БОЙЦА» Саша Саинцов
реж. Л. Луков
1944 «МАЛАХОВ КУРГАН» майор Жуковский
реж. А Зархи, И. Хейфиц
«Я — ЧЕРНОМОРЕЦ» моряк Полощухин и его отец
реж. А. Мачерет
194? «ЗОЛОТАЯ ТРОПА» Епифанцев
реж. К. Пипинашвили
«ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ» Христофор
реж. Б. Барнет
1946 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» Харитон Балун (2-я серия)
реж. Л. Луков
«ЮНЫЕ ПАРТИЗАНЫ» лейтенант
реж. Л. Кулешов
1947 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» Яков Бурмак
реж. И. Пырьев
1948 «БЕЛАЯ ТЬМА» сержант Дугин
реж. Ф. Чап
1949 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» сержант Егоркин
реж. Г. Александров
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» Федя Грушин
реж. И. Пырьев
1950 «ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА» Алексей Иванов
реж. М. Чиаурели
1951 «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-Й ГОД» матрос Шибаев
реж. М. Чиаурели
1952 «МАКСИМКА» матрос Лучкин
реж. В. Браун
1954 «СУДЬБА МАРИНЫ» Матвей
реж. В. Ивченко,
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» Илья Матвеевич Журбин
реж. И. Хейфиц
1955 «МЕКСИКАНЕЦ» Паулино Вэра
реж. В. Каплуновский
1956 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» Илья Муромец
реж. А. Птушко
1958 «ПОЭМА О МОРЕ» Савва Зарудный
реж. А. Довженко
1959 «ЖЕСТОКОСТЬ» Лазарь Баукин
реж. В. Скуйбин
«ХМУРОЕ УТРО» Чугай
реж. Л. Рошаль
1960 «ПОВЕСТЬ ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ» генерал Глазунов
реж. Ю. Солнцева
1961 «КАЗАКИ» Ерошка
реж. В. Пронин
1962 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» боцман Росомаха
реж. Г. Данелия
1963 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ» Вожак
реж. С. Самсонов
1964 «ЗАЧАРОВАННАЯ ДЕСНА» Платон
реж. Ю. Солнцева
1965 «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ КРЕСТ» Федосеенко
реж. И. Болгарин, В. Ильенко
1966 «НА ДИКОМ БРЕГЕ» Литвинов
реж. А. Граник
1968 «ДЕНЬ АНГЕЛА» купец Грызлов
реж. С. Говорухин
1970 «НОЧНОЙ ЗВОНОК» т/ф Квашнин
реж. В. Квачадзе
1971 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» Джон Сильвер
реж. Е. Фридман
1973 «ДЕТИ ВАНЮШИНА» Ванюшин
реж. Е. Ташков
1974 «ПЕТР МАРТЫНОВИЧ И ГОДЫ БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ» док. ф.
реж. Н. Орлов
1975 «НА КРАЙ СВЕТА» дежурный по переезду
реж. Р. Нахапетов
«НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» т/ф дед Матвей
реж. Я. Лапшин
1976 «МОЕ ДЕЛО» т/ф директор завода Друянов
реж. Л. Марягин
1977 «ПЕРВЫЙ РЕЙС» т/ф капитан
реж. А. Шахмалиев
1978 «САПОГИ ВСМЯТКУ» т/ф трагик Блистанов
реж. М. Ильенко
1980 «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХОДИТ НА ПЕНСИЮ» Сергей Иванович
реж. С. Шустер
1982 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» эпизод
реж. Г. Данелия
«ПРЕДИСЛОВИЕ К БИТВЕ» Мохов
реж. Н. Стамбула
Пожелтевший детский рисунок. Две неуклюжие фигурки — большая и маленькая — выходят из леса на крутой берег реки… Внизу через весь лист корявая подпись печатными буквами: «Эхвырвались!»…
Где-то в середине пятидесятых Борис Федорович получил небольшой дачный участок под Москвой, где, как водится, поставил забор, обрамивший прямоугольник земли с одиноко торчащим на кочковатом пустыре еловым прутиком. Прутик этот любовно стал именоваться Елочкой. Вскоре близ Елочки вырос щитовой домишко об одной комнате.
Отец редко бывал дома. Почти все время забирали фильмы и концертные выступления. Слова «съемки» и «экспедиция», кажется, были первыми, которые я сумел выучить. Но летнее посещение дачи — пусть самое скоротечное — было для Бориса Федоровича обязательным и радостным. Похоже, что эти летние выходные дни были для него наполнены каким-то высшим содержанием.
Итак, был один из таких самых первых выходных. Отец приехал на дачу, где его давно и с нетерпением ждали. Автор же этих строк, наверное, скучал так сильно и ждал так долго, что детский организм не выдержал и разразился чудовищным флюсом, который пришлось лечить при помощи теплого платка, набитого по народной рецептуре распаренным мхом. Однако, невзирая на разыгравшийся младенческий недуг, мужчины приняли достойное решение: прогуляться перед обедом в лесу.
Был изумительнейший летний полдень, с деревьями, раскрашенными жарким солнечным цветом. В воздухе пахло сказочным целебным настоем — травой, хвоей, цветами… Нескончаемые мелодии выводила невидимая лесная живность. С первого шага мы позабыли обо всем на свете, кроме этого поистине волшебного леса. Отец на ходу сочинял какие-то невообразимые истории, действие которых происходило в дремучих чащобах на неведомых островах. Учил примечать в замысловатой коряге живое фантастическое существо, затаившееся среди густых папоротников. Мы шли и шли, а он декламировал стихи, и эхо подхватывало:
«Островитяне, встаньте на колени —
Богатства корабля сошли на берег…»
Лет тридцать с лишним уж прошло со дня той прогулки-путешествия, а в памяти она сохранилась как одно из самых ярких воспоминаний. Должно быть, не случайно. До сих пор чувствую, как от отца словно исходили мощные токи, несущие неповторимое ощущение раскрепощенности и свободы, целиком поглотившее маленького мальчика. Познаваемый мир был целостным и прекрасным. Прогулка превратилась в Путешествие, и мы стояли на бережку у мутных вод канала имени Москвы…
Впрочем, все хорошее когда-нибудь кончается. Вылазка наша изрядно затянулась, да и заплутались мы среди полян-перелесков и бесконечных дачных поселков. К дому возвращались уже затемно, предполагая некоторую сумятицу и бучу домашних, но… Столь торжественной встречи не ожидали.
По краю леса ходили люди, размахивающие факелами (карманные фонари в подмосковных деревнях тогда были еще не очень-то в ходу), и казалось, что людей этих — тьма-тьмущая. А лес будто сотрясался от разноголосых призывных «ау!», звучавших на все лады. Словом, творилось столпотворение вавилонское на весь дачный поселок и близлежащую деревню. Еще бы: артист с пацаненком пропали.
Вот тогда-то пропавший было артист вздохнул и заговорщицким тоном изрек:
— Эх, вырвались!..
Его фраза словно пересказала все наше путешествие. В ней звучал и восторг встречи с неброской российской природой. Звучала приметная ирония по поводу нашего несколько конфузливого финала. И конечно же, намек на продолжение…
Так получилось, что слова эти стали нашим тайным паролем на долгие-долгие годы. «Эх, вырвался!..» — значит, пробовал сделать что-то значительное, доброе и прекрасное. Быть может, это и не получилось так, как замышлял. Значит, начнешь сначала и постараешься добиться своего. Фраза, прозвучавшая во время давнишней летней прогулки, не осталась только лишь милым домашним ритуалом. В ней навсегда сохранилось ощущение неистребимой внутренней свободы человека, имеющего дальнюю перспективу. Подлинной свободы личности, которая в моем восприятии навсегда слилась с образом отца-артиста Бориса Федоровича Андреева.
Впрочем, таким он воспринимался многими. В жизни, в творчестве. И в этом, наверное, была изрядная доля истины. Постепенно сложился и устойчивый стереотип — имидж, как сейчас говорят. Могучий, от сохи, из самой глубинки. Богатырь российский. Слова.
Они сразу вызывают и зримые образы, тоже прочно запомнившиеся с детства. Во второй половине пятидесятых необычайно популярным был жанр голосовой пародии. Во всяком случае, по телевизору — привычному домашнему ящику, тогда еще только начинавшему нахально проникать в наши дома, — такие номера показывались очень часто. Не было, наверное, ни одного представления или концерта, чтобы на сцену не вышел самодовольный пародист с галстуком-«бабочкой», говорящий чужим голосом.
Голоса эти когда-то принадлежали всеобщим любимцам народа — артистам театра и кино. Можно было закрыть глаза — и тогда казалось, что с экрана телевизора продолжают молотить всякую чушь настоящие, живые Грибов и Меркурьев, Михаил Жаров и Петр Алейников, Крючков и Андреев или даже сам Николай Рыбников… Всем это ужасно нравилось. Мне, пацану, — тоже. Впрочем, нет, — Андреев не нравился.
Далекий от понимания художественных особенностей и условностей пародийного жанра, я никак не мог сообразить, почему это дяденька, говорящий как бы родительским голосом, ревет, подобно медведю, чудовищным басом да еще при этом отчаянно шмыгает и вытирает нос рукавом…
Теперь-то я, конечно, могу догадываться, что пародист во все тяжкие разворачивал сложившийся «андреевский имидж», в котором густой волжский бас занимал едва ли не первое место. На этой экзотике попадались многие, даже те, кто хорошо знал Бориса Федоровича в жизни.
В свое время меня поразил фрагмент воспоминаний Ивана Александровича Пырьева — кинематографического крестного отца артиста Андреева.
«Однажды мне показали для отбора на эпизодические роли трактористов группу молодых парней. Среди них ростом, фигурой и широким лицом с несколько раскосыми глазами выделялся один — в белой «капитанке», матросской тельняшке и небрежно накинутом на плечи пиджаке.
Это был Борис Андреев — ученик Саратовской театральной школы. Он приехал в Москву с театром на летние гастроли, но не в качестве актера, а как рабочий для разгрузки и погрузки декораций. Пригласив Андреева в режиссерскую комнату, я побеседовал с ним, внимательно наблюдая его во время разговора, и тут же объявил ему, что буду его пробовать на одну из главных ролей в новой картине. Дал сценарий и назначил репетицию. Выйдя из комнаты, Андреев от волнения одним залпом выпил полный графин воды и громко заявил ассистентам:
— Ерунда все это! Не пойду я к вам. Не справлюсь!
Однако на другой день он вовремя пришел на репетицию и показал свои недюжинные способности. Еще одна-другая репетиции. Пробные съемки. И на роль Назара Думы, тракториста, поднимающего одной рукой за колесо трактор «ХТЗ», был взят никому не известный молодой саратовский парень, в прошлом беспризорник, грузчик, слесарь, сейчас известный всему Советскому Союзу народный артист СССР Борис Федорович Андреев».
Почти все здесь очень точно подмечено и темпераментно изложено мэтром отечественной кинорежиссуры, нашедшим в конце тридцатых годов будущую звезду советского экрана. Вот только беспризорником Борис Андреев не был, хотя обстоятельства, сложившиеся в семье, далеко не способствовали стерильно-домашнему воспитанию и даже голос его в жизни отличался значительной мягкостью. Но характерно, что и первооткрыватель Пырьев увлекается сложением красочного образа экзотического «волгаря», обогатившего экран мощной фигурой и зычным голосом.
Действительно, первые осознанные жизненные шаги были куда как далеки от высокого искусства, творчества. Трудное время. Вечно несытые края саратовские. Молодым парнишкой Борис Андреев пришел на комбайностроительный завод, чтобы получить профессию. Стал учеником слесаря-электрика.
Порою отец с мягкой иронией вспоминал о тех временах. Тогда чуть ли не заветной юношеской мечтой было раздобыть банку сгущенки да килограмм чайной колбасы. Устроиться где-нибудь в укромном уголке и слопать все целиком…
— И знаешь, что самое обидное, — замечал он, вспоминая, — эта заветная мечта так и не исполнилась. Когда появились возможности, она потеряла всякий смысл.
А тогда мудрый наставник с учеником решительно вырубали электричество в сети и направляли стопы свои в сторону столовой — починять. Работали споро и с чувством удовольствия, поскольку в итоге их деятельность, как и было задумано, весьма аппетитно вознаграждалась.
Впрочем, все это из области воспоминаний, анекдотов, которых в судьбе каждого артиста, наверное, немало. И главным в юности все же было другое — то, что медленно, но верно, порою мучительно вело артиста на крутую гору искусства.
Учеба в Саратовском театральном техникуме. Любимый педагог-мастер Иван Артемьевич Слонов — блестящий театральный актер, сумевший привить своему ученику любовь к русскому классическому наследию, к драматургии, к живописи…
В домашнем кругу Борис Федорович не часто вспоминал о своих студенческих театральных штудиях. Но в памяти о юности, в отношении к мастеру было у него что-то неприкосновенное и святое, доходившее до разумного благоговения. Не разменивал он память на слова. И это было еще одно качество большого художника. Из юности, когда складывалась школа его профессионального актерского мастерства, вынес он и необычайную серьезность отношения к своему труду.
Вообще работал постоянно и помногу. Когда были простои, что-то читал, конспектировал для себя. Чаще всего труды — по философии и психологии: они были его особым увлечением, пронесенным через всю жизнь. Когда же начинались съемки, отец, казалось, забывал обо всем, старательно трудился над ролью, ни на минуту не расставаясь с тетрадями и блокнотиками, куда своей рукой переносил из сценария все необходимые тексты. Такая была у него профессиональная манера — начальный шаг последующего, порой нечеловеческого труда.
…Кажется, это было на картине «Мое дело». Работали много, он, как всегда, — на пределе своих сил. От напряжения и усталости постоянно шла кровь носом. Впрочем, такое случалось и раньше, и по поводу этого недуга у него всегда была наготове весьма немудреная сентенция, которой он охотно делился с окружающими: «Предохранительные клапаны работают — с такими никакой инсульт не страшен».
Шутки шутками, однако недомогание затянулось едва ли не на неделю. Уже предлагали приостановить съемки и передохнуть, подлечиться, ежели необходимо. Он отказался. В павильоне рядом с декорацией ему поставили раскладушку. Отыграв очередной дубль, он ложился переждать, когда приостановится кровь. И снова вставал перед камерой. В этом не было ничего необычного. Просто шла повседневная работа. Если угодно, — на износ. Но не было в этом никакого геройства или бравады. Только обычное, нормальное, безжалостное отношение артиста к себе. А разве может жалостливо относиться к себе истинный художник?
Ведь точно так он не щадил себя, когда работал, скажем, на «Жестокости». Работал истово, беспощадно, пока не свалился на лютом морозе с лошади в снег, подкошенный жесточайшим инфарктом.
Тогда со съемок его привезли домой. Он лежал в полутемной нише огромный и притихший. Рядом с ним маячили невероятно серьезные белые фигуры — врачи и медсестры, стрекотал какой-то диковинный аппарат. Меня, по малолетству, выставили вон из комнаты, и только через щелку неплотно притворенной двери до меня долетало вместе с удушливо-сладкими эфирными запахами: «Стенокардия… Тяжелая форма…» О том, что это был самый настоящий инфарктище, едва не ставший роковым, мы узнали лишь многие годы спустя, когда он сам написал об этом в сборнике, посвященном памяти Владимира Скуйбина.
Полагаю, что все это было нормой работы, нормой жизни. Таких мерок просто было принято придерживаться. И точно так, на той же «Жестокости», работал и относился к себе режиссер-постановщик Скуйбин. Ему бы поберечь себя — жить оставалось совсем немного… А он работал бесконечно, не щадя сил. Не останавливаясь, не жалясь перед родными и коллегами.
Когда возвращаюсь к этим эпизодам из жизни отца, на память приходит одна история о великом Энрико Карузо. Певец слыл еще и величайшим капризником, способным при желании отказаться от спектакля по любому пустяку. Но было и одно из последних выступлений. Во время представления горлом хлынула кровь, а Карузо продолжал вести свою партию, лишь изредка прижимая к губам платок. До самого конца… Быть может, это красивая, хотя и мрачноватая легенда. Не берусь судить точно — помню, однажды прочитал об этом. Но, наверное, так и было.
Только суть в том, что есть вокруг истинных художников ореол поистине трагического величия. Не обязательно оно должно проявляться в столь экстремальных ситуациях и формах. Но обязательно — в умении перешагнуть через невозможное. В большом ли, в малом, но всегда. Уверен, что это качество постоянно присутствовало в характере, в душе Бориса Федоровича.
Очевидно, такая способность — одна из тех, что делают актера дорогим сердцу каждого, заставляют судить о нем заинтересованно и непредвзято. Артиста Бориса Андреева знали и любили многие. Быть может, даже не одно зрительское поколение. В самых разных уголках страны, иногда — за ее пределами. Я был как-то удивлен, когда в страшно далекой Монголии довольно молодой парень с восторгом вспоминал про того самого Назара Думу, который одной рукой трактор переворачивает…
Любовь зрителя сладка, она дорога актеру… Но как часто распространяется она лишь на одну сторону творчества, продолжая укреплять дорогой сердцу имидж любимца. Такая цепочка сложилась и в творческой биографии отца — беря начало от первых его работ. «Трактористы», «Большая жизнь», «Два бойца», «Илья Муромец»… Реже вспоминались другие звенья-роли, не менее дорогие сердцу актера, ставшие этапными в творческой биографии. «Оптимистическая…», «Путь к причалу», «Дети Ванюшина»… Зрелый Андреев сильно отличался от юного удальца, во многом противоречил знакомым зрительским пристрастиям. Некоторые образы вообще показались критике чуть ли не проходными, — о картинах почти не писали, упоминали лишь вскользь, для полноты портрета.
Я ни в коей мере не хочу натужно восполнять пробелы критического материала о Борисе Федоровиче или переоценивать значение некоторых фильмов, — это не самое плодотворное. Но все же приведу два суждения о таких его работах — людей глубоко творческих, знавших артиста. Два письма, которые он сохранил в своем небольшом личном архиве.
Вот первое — кинорежиссера Виктора Иванова, — о фильме «Мое дело»:
«Дорогой и глубокоуважаемый Борис!
Включил я телевизор — на титры не попал. В кадре — снятая с вертолета панорама мощнейшего завода. Затем — кабинет директора завода. Слышу знакомый голос, вижу — знакомые фигура и лицо. Знакомые, но вроде — первый раз вижу. Директор завода Друянов. Интересно, дефицитный образ: бывали они, конечно, на экране, но не те, нажимистые и многие — «на одно лицо» и т. п. Где же ты, дорогой директор, под началом которого работать хотелось бы!
Слушаю, смотрю — интересный, разумный человек, нравится мне, даже очень. Ах, нам бы такого! И в то же время знакомые голос, лицо. Звоню…
— Привет, — говорю, — Петр! Телевизор смотришь?
— Нет.
— А ну, включай, помоги разобраться, — кажется, близкий нам человек. Посмотришь — позвони.
Звонок раздался после фильма.
— Ну, как?
— Здорово!
— Какой человек этот товарищ Друянов, а?!
— Хорош дядя! Интересная порода, целая биография Страны Советов в одном образе. Это, наверное, и есть образ и есть коммунист, о котором говорим и пишем, а на экране мало его.
— А как он шел по заводу с цветами!!
— А сто поклонов, и каждый отдельный, и не игранный, а от сердца. Человек!..
(Если бы это актер играл, так сказали бы: «Какая точная дозировка».)
— А как он мастера на пенсию провожает?!
— А как стоят у столика… Видишь, как душа струится.
— А как он с приезжей «бабой» разговаривает, как ручку поцеловал. Умница этот Друянов…
— А как…
В общем, повторили мы как бы всю картину.
И в конце вдруг в один голос радостно-прерадостно сказали:
— Да ведь это Борис Андреев был!
— Неувядающий наш артист!
— Все растущий и все удивляющий нас, и нет ему износа и повторения.
— Видел «Дети Ванюшина»?
— Так то был Ванюшин…
— Ну, о нем в другом, видно, письме, а пока говорим: честь и слава Народному артисту Борису Андрееву. Гордимся им, низко кланяемся и нежно обнимаем…»
И второе письмо — о картине «На диком бреге»:
«Дорогой Борис Федорович!
Только что вернулся из Комитета кинематографии, где смотрел «На диком бреге». И вот сразу же сел за стол, чтобы по горячим следам Вас поздравить. Здорово! Очень здорово Вы сыграли Литвинова. Говорю это Вам как лицо в какой-то степени заинтересованное, ибо мои отношения с фильмом кончились сразу же, как только я передал право экранизации «Ленфильму». Говорю это как зритель, увидевший фильм готовым из зрительного зала. А ведь зрительская и читательская реакция самая точная, ибо все мы работаем не на комитеты и редакции, не на газетных рецензентов, а на зрителя.
Так вот, дорогой Борис Федорович, с давних лет я поклонник Вашего таланта и видел, вероятно, все фильмы с Вашим участием. Но роль Литвинова, как мне кажется, для Вас несколько необычна. В ней Вы вышли за рамки своего амплуа — героя из народа, простого человека, и этим обнаружили какие-то иные, во всяком случае мне неизвестные, и очень симпатичные грани вашего удивительного дарования. Литвинов Ваш весь светится умным, жизнеутверждающим, так сказать, принципиальным добродушием, светится без нажима, как бы изнутри и сразу пленяет зрителя, пленяет и заставляет его волноваться, и не только за себя, Литвинова, — старого, больного человека, который, однако, еще о-го-го, но и за дело его, за правду его и за строительство. А это здорово, очень здорово. Собственно, Литвинов и Дюжев несут и, по-моему, выносят на себе весь фильм, заставляя забывать изрядное количество туфты, которое напихал в него режиссер, всю эту фальшь министерских кабинетов, все эти супермодные интерьеры контор и общежитий, которые звучат фальшивой нотой в хорошей, в общем-то, песне.
Мне повезло. На театре я видел Литвинова — Герагу и Литвинова — Толубеева. Здорово играли. Но Ваш Литвинов точнее и мне ближе, может быть, потому, что Вы похожи на моего комсомольского дружка Андрея Бочкина, строящего Красноярскую и Иркутскую ГЭС, где Вы были. Словом, великолепно! Обнимаю. Поздравляю. Спасибо.
Ваш Б. Полевой»
И еще об одной работе Бориса Федоровича в кино хотел бы я вспомнить на этих страницах. О работе, казалось бы, столь нетипичной для мастера, создавшего целую галерею весомых масштабных образов, но, наверное, совершенно закономерной в творческой биографии отца. Тем более об этой картине надо вспомнить и для того, чтобы исправить маленькую историческую не справедливость.
Речь идет о ленте Георгия Данелии «Слезы капали»…
Считается, что последней ролью, сыгранной Борисом Андреевым, стала работа в фильме режиссера Николая Стамбулы «Предисловие к битве». Если исходить из скучной логики выпуска фильма в официальный кинопрокат, то, наверное, так оно и будет. В реальности же все обстояло несколько иначе.
Отец довольно быстро отснялся в небольшом эпизоде у Стам булы и сразу же целиком погрузился в домашние хлопоты. Тогда, в восемьдесят первом году, прицелов на какую-либо большую работу у него не было. Этого он просто не мог себе позволить: все переживания сосредоточились на неизлечимой болезни самого близкого человека — жены Галины Васильевны. Как всегда, Борис Федорович много читал, работал со своими рукописями.
Как-то под вечер раздался поистине неожиданный звонок. Звонили из группы Данелии, предлагали сыграть небольшую эпизодическую роль в новой картине. Сейчас не могу сказать точно — звонил сам Георгий Николаевич или кто-то из его команды. Это не так существенно. Важен сам факт.
Первая встреча с этим постановщиком оказалась удивительной. Боцман Росомаха из фильма «Путь к причалу» остался, бесспорно, одной из лучших работ отца. С этого фильма наметился удивительный плодотворный творческий и человеческий кон такт с режиссером. Нам тогда казалось, что совместная деятельность будет длительной и постоянной. Да и сейчас я глубоко убежден, что отец мог (а возможно, и должен был) стать постоянным «данелиевским» актером. Как стал им, например, замечательный Евгений Павлович Леонов. Однако судьба предпочла распорядиться несколько иначе. Личная ссора на долгие годы развела в стороны двух прекрасных художников. Попытка преодолеть себя, сделать шаг навстречу ни одному, ни другому не удавалась…
Отец, как всегда, молчаливо, но очень остро переживал этот разлад. Тем более сильно, что творчество режиссера ценил необычайно высоко. У меня сохранились небольшие наброски, в которых Борис Федорович вспоминал о работе в «Пути к причалу», увлеченно рассказывал о мастерстве и даровании Данелии. Уже в самом начале восьмидесятых отец как-то писал мне под впечатлением просмотра «Осеннего марафона»:
«Хорош, как и всегда, Гия Данелия. Рад за него. Большая сила доброты таится в этом маленьком на вид человеке…»
Если учесть, как редко Борис Федорович посещал просмотры и как скуп он был на похвалы, то можно по достоинству оценить весь эмоциональнай заряд, хранящийся в этих коротеньких строках сугубо личного письма артиста.
Потому-то и был столь неожиданным и столь многообещающим тот звонок из группы «Слезы капали».
Вопрос об участии в картине не обсуждался. Думаю, что здесь прежде всего был важен сам человеческий шаг, который делали навстречу друг другу два художника.
Но кажется мне, что и в творческой биографии Бориса Андреева эта эпизодическая роль должна занять не самое последнее место.
…По сюжету главный герой картины (его роль исполнял Евгений Леонов), зарвавшийся чинуша, бюрократ, «приговаривает» к сносу гаражик своего друга юности, инвалида войны. Старик отец инвалида не дает этого сделать: сидит на страже со старенькой незаряженной двустволкой, отпугивая погромщиков.
Вот этого старика и сыграл Борис Андреев.
Обычно принято восторгаться мастерством крупного актера, исполняющего вдруг эпизодическую роль. И в таких случаях критики готовы выискивать, высматривать высокохудожественный экзерсис мэтра, концентрирующего в проходной ролишке все свое богатое дарование… Суждения, как правило, подкрепляются почти по Станиславскому: не бывает, стало быть, плохих, проходных ролей… Но здесь, в биографии Бориса Федоровича, это был какой-то другой случай.
Странно: сколько ни смотрел картину, эпизодик этот производил на меня совершенно неизгладимое впечатление, хотя не было в нем никакой сверхконцентрации чувств или необычного, острого пластического рисунка.
Стоял у невзрачного металлического гаражика Борис Андреев — старый, все еще могучий, но как будто и немного сгорбленный, — сжимал в натруженных кулаках кажущееся и вовсе игрушечным ружьишко… Видно было только, что стоять насмерть может. Да куда там против отупелой чиновничьей рожи с мохнатыми бровищами (чудный, острый артистический рисунок дал тогда Евгений Леонов!). И уходил могучий и беспомощный старик богатырь со своей бесполезной берданкой…
Вот и весь-то эпизод. Слов почти нет. Действия внешнего — тоже. Глубинной, какой-то особой символики не несет. Но запоминается. Почти до физической боли, едва ли не больше многих полновесных, драматически насыщенных работ. Был в этом фрагменте некий прощальный секрет. А разгадка кажется простой — так по крайней мере видится сегодня, словно выводил актер суммирующую коду.
Источал этот старик неслыханную грозную силу внутренней свободы. Ту самую, которая когда-то поразила маленького мальчика во время загородной прогулки. Не старикан персонаж — сам Борис Андреев стоял у гаражика за честь и человеческое достоинство. И всплывали сами по себе в памяти все образы, им созданные, — герои разные, непохожие, но обязательно внутренне свободные и потому сильные… Думаю, отец принципиально в этом эпизоде пошел целиком от себя. Работал почти без грима, в своей привычной одежде — полная узнаваемость. Он и в жизни был такой — без рефлексий старался отстаивать истину, по мере сил стоял горой за человеческое достоинство своего брата актера. Хотя перла, ох как перла навстречу самодовольная и наглая силища многочисленных прохиндеев от искусства.
Напомню, однако, еще об одном качестве Бориса Федоровича, которое тоже казалось мне одним из определяющих в его натуре. Оно, кстати, позволяло избегать подчеркнуто трагических тонов, которые порой неизбежно намечаются в судьбе и творчестве практически каждого крупного художника. Это умение философски емко и одновременно иронично осмыслить окружающую тебя действительность…
— Я — народный артист Советского Союза и с присущим званию величием не люблю делать бесплатных телодвижений. — Борис Федорович Андреев хитро прищурился и победно посмотрел на поверженного собеседника.
Действительно, фраза, завершившая разговор словно мощный аккорд — симфоническую поэму, была великолепна. От нее веяло чем-то поистине классическим. Как будто прозвучало незабываемое шмагинское: «Мы артисты, и наше место в буфете». На это было трудно, почти невозможно возразить, и собеседник — ваш покорный слуга — лишь развел руками, как бы оценивая величие момента.
А сверху словно изливалось сияние. Мы подняли очи горе — и дружно расхохотались. Там была корона.
Она вознеслась на самую верхотуру старого книжного шкафа и заняла на нем центральное место. Золотой блистательный венец артиста-трагика Василиска Африкановича Блистанова — символ артистического величия и совершенства. Сияющее самоварное золото, наклеенное на банальную картонку и украшенное мишурой. Шутовской колпак чеховского персонажа — спившегося потомка бедного Йорика.
Актеры, случается, сохраняют на память о работе какие-то совершенно немыслимые предметы. Вот и эту корону Борис Федорович взял со съемок фильма «Сапоги всмятку» — памятный сувенир о картине тогдашнего дебютанта Михаила Ильенко.
Что за фантазия — заботливо везти из Киева и хранить пустяковую поделку? У иных это вызывало изумление или же насмешку: актерская экстравагантность, что ли?
Только для меня эта корона по сей день остается еще одним символом загадочной души актера, умевшего в малом видеть безграничное, а в суетном находить неисчерпаемую доброту, смотреть на мир с философской пристальностью и неистощимым юмором, никогда не пытавшегося натужно возводить пьедестал собственного величия.
Так случилось, что последние годы весьма неожиданно оказались отмечены одним увлечением, которому Борис Федорович уделял очень много времени. Он начал сочинять и записывать различные короткие мысли и высказывания, носящие отчетливо афористический характер. Всюду стали появляться записные книжки, клочки бумаги, обрывки сигаретных коробок, исписанные его резким, размашистым почерком. Позже почти все свое свободное время отец стал проводить за пишущей машинкой, приводя свои наброски в относительный порядок, систематизируя записанное в ему одному известной последовательности.
Увлечение это поначалу большой поддержки дома не встретило — Галина Васильевна скептически отнеслась к затее.
— Папа, ну что ты всякой чушью занимаешься, что ты там все время печатаешь? — укоряюще вопрошала она мужа.
— Я сочиняю афоризмы, — торжественно звучало в ответ.
Впрочем, серьезность ответов была нарочито подчеркнута, что уже само по себе означало: отец внутренне иронизирует над этим странным для него видом творчества. Сам же термин «афоризмы», как правило, принимал несколько иные идиоматические формы. И тогда звучало: «афонаризмы», «охренизмы», иногда — покрепче.
Сам истинный профессионал, Борис Федорович всегда был и оставался сторонником высокого профессионализма. Человек должен хорошо делать свое дело. Быть может, поэтому отец, как правило, не одобрял переход актеров или операторов в режиссуру, увлечение всякого рода писаниями. Здесь часто терялся высокий профессионализм, без которого нет подлинного творчества. Однако эти суждения оставались сугубо личными, внутренними. Он всегда уважительно относился к творчеству других, даже если оно было далеко от идеалов. Строже всех судил он самого себя.
— Знаешь, — заметил он однажды, — это, наверное, неизбежно — каждый актер втайне пишет сценарий. И даже надеется, что его когда-нибудь поставят. Вот и Виктор Иванович, — вспомнил он близкого друга, актера Кулакова, — тоже, кажется, сочиняет какую-то очень трогательную историю про детей и животных. Уже долго-долго пишет.
— А ты?
— Ну, я — это особое дело. Старец Андреев сочиняет «охренизмы», — многозначительно поднял он палец вверх, снова ерничая над своим увлечением.
Шутки шутками, но афоризмы действительно были его особым делом, и ни в коей мере не досужим увлечением артиста, решившего потешить себя, а может, при случае и почтеннейшую публику неким окололитературным творчеством. Он вообще терпеть не мог всякие околодеяния. Его записи были органичной частью творчества, присущим ему способом выражать, часто в гротескной форме, весьма глубокие мысли. Вообще же отец постоянно общался с пером и бумагой. Сколько я помню, он всегда что-то записывал. Чаще для себя. Это могли быть конспекты заинтересовавшей его книги, просто заметки на полях любопытной статьи, тексты его выступлений, рассказики, наконец, афоризмы.
Склонность же к острому слову, умение использовать его в нужный момент были всегда присущи Борису Федоровичу. Иногда эта склонность начинала определять ход творческого процесса в работе над ролью, почти целиком диктуя строение образа. Так случилось при работе в картине Станислава Говорухина «День ангела», где отец исполнял роль купца-пьяницы Грызлова. Постоянно пребывающий подшофе Грызлов так и сыпал прибаутками-экспромтами и, должно быть, немало здоровья попортил суровой редактуре, когда зычно рокотал с экрана: «Мартышка! Мартышка стоит у руля истории»… Именно с этой картины — с конца семидесятых — началось осознанное и постоянное сочинение афоризмов. Тогда же еще часто появлялись просто забавные фразочки, наподобие: «Этот мед я покупаю — он напоминает мне манную кашу» — милая сценка на одесском базаре, подмеченная режиссером Константином Ершовым.
Действительно, при необходимости Борис Андреев за словом в карман не лез. Как-то летом, в свободный денек ехали на дачу. Дребезжащее такси ползло, затертое грузовиками, по узкому Дмитровскому шоссе. Все хозяйственные поручения были выполнены — багажник забит продуктами, а впереди — пара дней отдыха на природе. Но — о ужас! — забыли купить картошку. И пощады от Галины Васильевны ждать не придется. И вот уже приуныли и смолкли в машине беззаботные разговоры. Сползаем с пригорка в деревню Еремино, а на обочине стоит наш спаситель — старикан в полинялой кепке и стоптанных башмаках на босу ногу. А у башмаков пристроилось ведро, полное отменного картофеля.
Бывалый дед быстро сориентировался в обстановке и заломил за свое ведро немыслимую цену.
— Чего стоишь-то? Бери, бери. У вас, артистов, денег много.
— У нас, артистов, таланту много. — незамедлительно последовал ответ, и Борис Андреев гордо оставил знатока искусства на дороге вместе с его картофелем.
И был еще один день — последний. Последняя встреча. 24 апреля 1982 года.
Было славное апрельское утро. Весна целиком уже властвовала природой, а пасхальная неделя щедро дарила всех солнцем, почти по-летнему теплым. В больнице был день посещений, и мы с матерью собирались навестить Б. Ф. Настроение было отличное и по-праздничному легкое.
Как мы, должно быть, привыкли к его скромному и молчаливому умению перешагивать через невозможное.
С неделю тому назад он вернулся из будничной артистической командировки. Был с Театром киноактера в Куйбышеве. Давали концерты. Самое обычное мероприятие, очередная поездка «с протянутой рукой к народу». Утром, сразу же после его возвращения, мы с Б. Ф. сидели на кухне, гоняли кофей и болтали о какой-то чепухе. (Уже почти два года у нас с ним был молчаливый договор — не заводить речь о самом волновавшем нас тогда — о болезни матери.) Вдруг отец приумолк и сказал совершенно неуместную, как мне показалось, фразу:
— Ты знаешь, что-то я устал очень. Наверное, это конец.
Даже сами эти слова казались нелепыми. Мысль о роковой, последней усталости, носящей какое-то сакральное содержание, никак не вязалась с этой могучей плеядой людей, к которой принадлежал и отец. Согласен, согласен — вот сейчас допьет чашку и отправится к себе в комнату, где немедля растянется на старой доброй койке. Сколько их было, таких возвращений, когда усталость действительно валила с ног, — не счесть. И всегда справлялся с этой тягостью наипростейшим и вернейшим природным способом — отсыпался. Иной раз часок-другой, случалось, и рекордно — до полутора суток после тяжелейших съемок. И снова все вставало на круги своя.
Усталость…
Кажется, совсем недавно собрались как-то старые друзья. Разговаривали; как уже повелось, поминали добрым словом ушедших, гоняли чаи нещадно и горячительное умеренно. Я сидел в кабинете Б. Ф. и что-то печатал на машинке. Вдруг дверь открылась и в комнату вошел стариннейший и ближайший друг отца скульптор Александр Павлович Кибальников.
— Что, Борька, работаешь? — с удивлением и каким-то детским восторгом сказал он, словно я совершал немыслимый подвиг. — А вот я, видать, старею. Уставать стал. За день так молотком намашешься — к вечеру чувствуешь себя тяжеловато, отдохнуть хочется…
От этой жалобы на «старческую немощь» веяло просто не истребимой богатырской силищей. А случай этот мы все потом частенько вспоминали с весельем необычайным, как пример мощи и редкого жизнелюбия. По-моему, в этом просматривался свое образный символ жизни целого поколения — неутомимой когорты тружеников, не ведающих уныния и усталости.
Об этом случае подумалось и тогда — после слов отца. Да, это преходящее, суетное — минутное расслабление. А отлежится-отоспится, как всегда, — и снова в бой… Но едва ли не утром следующего дня мать срочно вызвала меня с работы:
— Немедленно приезжай. Папу забирают в больницу…
У подъезда уже стояла пара медицинских спецмашин, а по квартире, уставленной кардиографами и какими-то хитрыми приборами, расхаживал, в белых халатах, целый консилиум врачей, укрепленный медсестрами и санитарами: тогдашнее руководство Союза кинематографистов помогло организовать «саму Кремлевку» — рядовому народному артисту просто так всех этих спец-привилегий не полагалось.
— Он все время спит, а просыпается ненадолго — начинает заговариваться, — растерянно бормотала мать.
Б. Ф. сидел на кровати уже одетый, сонно щурясь, ждал отправки. На шкафу тускло поблескивала корона Блистанова. Отец увидел меня и хитро, по-заговорщицки, подмигнул. Мне показалось — вот сейчас так знакомо вздохнет и скажет наш заветный пароль: «Эх, вырвались!»…
— Ну, вот, пошли синяки и шишки. Пироги и пышки кончились.
— Видишь, — всхлипнула мама, — опять какую-то ерунду про пироги говорит.
Увы, это была совсем не ерунда. Чувство скептического юмора и в эти совсем не веселые минуты проявилось: Борис Федорович очень уместно цитировал героя из давно полюбившегося романа Джозефа Хеллерта. Кто знал, что все пироги и пышки и в самом деле кончились, ведь медики определили, по существу, простое переутомление, от которого быстро избавит высококвалифицированный и роскошный уход, наподобие санаторного. О чем больше можно было желать в кунцевских кущах…
С собою отец сам взял рабочую тетрадь для записи афоризмов, очки и ручку…
Итак, было 24 апреля 1982 года, чудесная погода, славное настроение. Дело, кажется, шло на поправку: накануне нам позвонили из больницы и сообщили, что состояние Бориса Федоровича значительно улучшилось и его даже перевели из отделения интенсивной терапии в обычное.
Мы сидели в палате и болтали о всякой всячине, предвкушая скорую встречу по-домашнему. Когда собирались уже уходить, отец вдруг спросил:
— Как вы думаете, почему это я лежал на площади у врат храма, а вокруг было много-много народа?
— ?..
— Ай, — он по-особенному, как только ему присуще было, досадливо отмахнулся рукой, — должно быть, приснилось. Ерунда какая-то.
Сколько ни упрашивали, он настойчиво вызвался нас проводить — хотя бы до коридора. Огромный и добрый, стоял, заслонив дверной проем, и глядел, как мы уходили. Нет, не мы. Тогда от нас уходил он.
Вечером, в половине одиннадцатого, позвонила лечащий врач… В это не хотелось, нельзя было поверить.
…На исходе пасхальной недели отца хоронили. Шли последние минуты прощания. Гроб с телом русского артиста установили перед входом в церковь Большого Вознесения, что на Ваганькове. Отчаянно светило солнце. Вокруг собрался народ. Многие плакали.
А в тетради, которую Борис Федорович взял с собой, все же появилась запись. Последняя и по-старомодному чуть торжественная. Казалось, человек непременно хотел поставить точку в финале работы, над которой он столько трудился и столько иронизировал: «… С первого человеческого шага начинается большая дорога, к осмыслению которой ты должен прийти в конце пути…»
Так вышло: более года не видел я Бориса Федоровича Андреева. Правда, выпал недавно повод для встречи. Сладилась было совместная работа над статьей для толстого журнала. Но Андреева смутили скорые сроки, установленные редакцией. Чуточку даже обиженно проговорил он по телефону: «Понимаешь, тут надо бы подытожить, обдумать многое. А так… Не стоит».
Действительно, за двадцать лет знакомства приходилось видеть Бориса Федоровича разным, но никогда — суетливым. Подытожить, обдумать — это его постоянная потребность, естественное состояние его разума и души… Вспоминаю давний случай. В холле Дома кино Андреев с шутливой торжественностью и неподдельным добросердечием приветствует одного из талантливейших наших режиссеров: «Ты победил, мой режиссер!» Потом объясняет: «Я у него сниматься отказался. — Тут он назвал картину, с огромным успехом шедшую по экранам. — Зря, наверное? А с другой стороны, не мог я тогда играть мразь, забулдыгу. Я же еще от довженковской «Поэмы о море» не остыл».
Тоже типично андреевское определение — «не остыл». Не остывает он, по-моему, ни от одной работы. Потом, бывает, вдруг вспомнит — средь общей беседы — о том, что было сделано и прожито десять, двадцать лет назад.
Есть актеры, обладающие даром безграничной, безоговорочной влюбленности в собственные творения. Андреев такого дара лишен. Пройденное, достигнутое для него навсегда остается источником сердечного беспокойства. Вновь и вновь бередит он себя вопросами о смысле и ценности сделанного…
И в высшей степени справедливо, что муки эти окупаются минутами подлинной радости, минутами высокой гордости. Вот из телефонного разговора с актером, через пять минут после показа по телевидению первого фильма Бориса Андреева — «Трактористы»: «Ты смотри… Вот пели мы тогда про танкистов и были в чем-то наивными и смешными. А через два года все это людям на войне пригодилось».
Конечно же, пригодилось! Равно как пригодилось и нам, людям послевоенных поколений, многое, очень многое из того, о чем говорили герои Андреева с экрана.
«Время — вещь необычайно длинная», — писал Владимир Маяковский. Непреложность (суровая подчас) этой истины доказана и короткой вроде бы — всего шесть десятилетий — историей советского кино. Спросите современного подростка: кто, мол, такой Харитоша? Он и не поймет сразу, о ком речь. А для зрителей сороковых годов, например, имена Харитоши и Вани Курского звучали как пароль радости, пароль восхищения любимыми героями, любимыми артистами — Борисом Андреевым и Петром Алейниковым. Вряд ли сухой анализ приблизит нас к разгадке необычайной популярности персонажей фильма «Большая жизнь». Более того, кто-то, возможно, беспристрастно отметит в образе Харитона Балуна, созданном Андреевым, черты, свойственные молодому рабочему именно в тридцатые годы, но никак не в позднейшие времена. А любовь миллионов зрителей к этому парню из донецкого поселка не иссякала десятилетиями!
Слов нет, двадцатипятилетний Борис Андреев в пору дебюта был покоряюще колоритен, казался неким чудом природы, сотворенным с доброй улыбкой.
Когда в пятидесятые — шестидесятые годы Борис Федорович удивил и сотоварищей по искусству и зрителей целой галереей ролей, отмеченных значительностью мысли и подчас трагедийной глубиной, то, поразившись мощи второго дыхания, открывшегося у сорокалетнего артиста, кое-кто стал оглядываться на его ранние фильмы с некоторой долей снисходительности. Там, мол, только начало, а теперь — сама суть. Но так ли это? Уместны ли подобные переоценки? Давайте вспомним их, представим рядом тракториста Назара Думу, шахтера Харитона Балуна, запорожца Довбню («Богдан Хмельницкий»), авиационного механика («Валерий Чкалов»). Сразу же думаешь о неотразимой убедительности каждого его персонажа. Отнюдь не только типажной убедительности. В начинающем артисте из Саратова уже были видны задатки крупного человека и талантливого художника, который с достойным упорством обретал власть над творческой формой. Роли его первых трех лет работы в кино сыграны с таким ощущением жанра (музыкальная комедия, психологическая драма, героический эпос), с таким пониманием своеобразия ритма и пластики воплощаемого характера, с какими далеко не каждому удается выступить в начале творческого пути.
Но главное, что предопределило большую и долгую жизнь Бориса Андреева в искусстве, — это его собственная тема, вызревавшая и крепнущая год от года, от фильма к фильму. Обостренное, открытое, пафосное приятие жизни, неистовое вторжение в нее, глубокое, бесстрашное ее осмысление — так, мне кажется, можно определить андреевское начало в его героях. Конечно, не раз и не два бывало такое, когда пытались эксплуатировать лишь обаяние артиста, своеобычную его внешность. Какого душевного напряжения стоило это Борису Федоровичу, знает лучше других он сам.
Но если материал роли вызывал хоть малую детонацию с заветным, сокровенным для него, то экран обязательно высвечивал глобальность и проницательность мироощущения артиста,
Важно понять, люди какого поколения называли его ласково — Харитоша. Люди, познавшие утраты войны и счастье Победы, прошедшие испытания, лишения и потому накопившие в своих душах жажду счастья. Для них каждая встреча с героями Бориса Андреева становилась почти символом веры — веры в неизбывность силы жизни, в несгибаемость русского человека. Андреев входил в каждый дом словно долгожданный, задушевный собеседник. В его раскатистом смехе слышались ободрение и надежда. В таких его героях, как Саша Свинцов («Два бойца») или Яков Бурмак («Сказание о земле Сибирской»), как бы обретали земное притяжение возвышенные понятия доброты и верности. В характере его Алексея Иванова («Падение Берлина») соединились ярость и великодушие солдата Великой Отечественной…
…Бориса Федоровича Андреева не только интересно слушать. Интересно наблюдать его молчание. В номере ли гостиницы, в купе ли поезда, когда закончен день, когда по-своему заварен ароматный чай, сидит он и покуривает. Находящегося рядом его молчание не унижает: в нем нет небрежения, невнимания. И как бы ни был труден прошедший день, какие бы заботы ни ожидали вскоре, в минуты задумчивости у Андреева всегда доброе лицо.
«Время — вещь необычайно длинная»… Наверное, не просто жить так, из года в год вынашивая, храня в себе сокровенное и важное, что хотелось бы сказать людям, и ждать с мучительным волнением возможности сделать это. Зато когда удается, радости своей Андреев не стыдится.
Помню, как он счастливо улыбался, рассказывая о песне в фильме «Казаки», в котором играл Ерошку. «Сам все-таки спел!» И действительно спел, спел горько и удало, будто оплакивая судьбу своего героя и любуясь им.
В воплощении Андреева русский народный характер, ограненный испытаниями истории, сотворенный из сплава свободолюбия, доброты и неизбывного созидательного стремления, поистине необъятен… Матрос Лучкин в фильме «Максимка». Непостижимым образом его многолетняя озлобленность от побоев, унижений и муштры при встрече со слабым, нуждающимся в защите вдруг оборачивается повышенной чувствительностью сердца, хранящего огромный заряд нежности. Задиристый и добродушный Илья Журбин («Большая семья»), с проникновенным достоинством утверждающий свое представление о рабочей чести… Лазарь Баукин («Жестокость»), с бесконечной пытливостью стремящийся понять правду революции… Боцман Росомаха ««Путь к причалу»), мстящий себе самому за преданную любовь, за очерствение души. И даже в андреевском Вожаке («Оптимистическая трагедия»), человеке запутавшемся, изломанном, уставшем от собственного неверия в людей, чувствуются былая сила, незаурядность.
Я не случайно, перетасовав во времени, поставил рядом столь разные по содержанию работы Бориса Федоровича. Просто старался таким образом следовать его творческой логике. Ведь Андреев никогда не устанавливает дистанции между своими героями и зрителями по признакам хронологии или по шкале «положительно-отрицательных» данных. Он каждую из них старается в равной мере понять — понять вместе с нами.
Андреев любит героев размышляющих, рассуждающих. Есть у него особый вкус и слух к слову на экране — слову, наполненному значительной мыслью. Не случайно же столь заметной вершиной на его творческом пути оказалась встреча с А. П. Довженко. К «Поэме о море» они готовились на «Мосфильме» вместе. Потом Довженко не стало, и Андреев в содружестве с Ю. И. Солнцевой довершил дело, снимаясь в роли председателя каховского колхоза Саввы Зарудного. Поистине с редкостной увлеченностью выразил артист в «Поэме о море» свое представление об идеале человека нового мира, мастерски использовав в работе над образом Зарудного все многоцветие красок реализма. То, что говорил он тогда с экрана, волновало ощущением выстраданности, осмысленности каждого слова. Плодотворной оказалась для Андреева и вторая его встреча с драматургией А. П. Довженко. Его генерал Глазунов в «Повести пламенных лет» — еще один живой лик народной войны, лик гневный, мудрый, добрый и мужественный.
Мало сказать, что с годами обогащалась художественная палитра мастера. Это так. Но это не все. Главное — его кровная, исполненная гражданственности связь с временем, в котором он живет. Он удивительно понимает это время. Время, мостом пролегшее между прошлым и будущим, время, отмеченное великими свершениями народа, требующее от каждого значительных помыслов и активных поступков, кристальной душевной чистоты и нравственной цельности. Борис Федорович живет всем этим, думает об этом не спокойно и не благостно, наделяя жаждой постижения коренных проблем нашего бытия своих экранных героев.
Кажется, знаешь о нем многое, а каждая встреча с его творчеством обязательно добавляет нечто новое. Многие не представляли себе, например, Бориса Федоровича в чеховской роли. Он же оказался в высшей степени оригинальным и убедительным, сыграв актера Блистанова («Сапоги всмятку»). Немалой его удачей, по-моему, явился и фильм «Мое дело», в котором Андреев исполнил роль директора крупного завода Друянова. Удачу тут определило не профессиональное изящество лепки образа (этого-то Андрееву не занимать). Устами этого героя артист горячо и взволнованно сказал свое слово в споре о проблемах НТР, о деловом, государственном человеке. Друянов у Андреева не просто талантливый хозяйственник, — он человек «не со стороны». Его дело — это его корни, которые питают разум, душу и совесть пониманием людей, олицетворяющих великое понятие — народ.
Да, талант Бориса Федоровича Андреева пригодился нашему искусству, нашему обществу. Свидетельство тому не только его судьба. Андреевская тема в нашем киноискусстве, андреевское восприятие жизни и человека — явление неизмеримо большее, нежели одна биография.
Свершенное и открытое им мы невольно угадываем сегодня во многих лучших актерских работах последнего десятилетия: достигнутое одним стало как бы обретением и богатством многих. Это так.
Ну а Борис Андреев у нас один.
Борис Андреев… Своеобразный, самобытный актер. Глыба. Человек, не похожий ни на кого. Неповторимый. И играл, и мыслил, и говорил он своеобразно. Колоритно. Ярко. Было у него свое, незаемное видение мира.
Он был моим партнером по фильмам, товарищем. Мы работали вместе в партбюро Театра-студии киноактера. В недавней ленте «Николай Крючков» текст от автора читал Андреев…
Он был волгарь, саратовец, из тех мест, где искони рождались русские богатыри, где сколачивались бурлацкие артели, где обитал лихой и шумный народ — волжские ватажники… Он и сам работал грузчиком, одновременно учась в Саратовском театральном училище, до этого трудился на комбайновом заводе. Молодецкая сила, крупность характера, презрение к суете, веселое добродушие — это, я думаю, подарили Андрееву Волга и земляки-волжане. Но он не был увалень-простак, как, может быть, казалось кому-то с первого взгляда. В нем жила, трудилась, радовалась и мучилась чуткая и тонкая душа. И вспомните, как неспешно, осторожно двигался Андреев на экране, как говорил, сдерживая свой могучий бас, — словно прислушивался к чему-то сокровенному у себя внутри, боялся расплескать, стеснялся обнажить. А оказалось теперь — щедро, не жалея, до конца подарил нам, его друзьям, своим зрителям.
До конца? Конечно, нет! Он многое еще мог бы сыграть и в молодости, и в зрелые годы, и сейчас, но это уж зависело не от него, а то, что мог сделать он, Борис Андреев, он совершил.
С Борисом Андреевым я познакомился и подружился во время съемок «Трактористов». Это была первая его роль в кино, а сыграл он ее очень уверенно, профессионально, с чувством меры, нигде не «пережимая», хорошо взаимодействуя с партнерами. В нем сразу же обнаружился недюжинный актерский талант.
Судьба еще трижды сводила нас на съемочной площадке: в картине «Малахов курган», где Борис Федорович сыграл командира Чапаевской дивизии Жуковского; в фильме «Максимка» — там Андреев был «пропащим» матросом Лучкиным; в «Жестокости» он играл роль Лазаря Баукина — человека трагической судьбы, сильного, мрачного, озлобленного, в чем-то основательного и справедливого, но вот угодившего в банду.
Эти четыре мастерски сыгранные роли только малая часть из созданного Б. Андреевым на экране.
Зритель хорошо помнит Сашу Свинцова — Сашу с Уралмаша — из фильма «Два бойца». И, конечно, его героев в картинах «Большая жизнь», «Большая семья»… Борис Андреев поистине был создан для больших ролей, для воплощения крупных характеров.
Андреевские персонажи менялись с годами. Молодые герои актера — это парни, которым все нипочем, упрямцы, сорвиголовы, удальцы в гульбе, труде и ратных делах. Они ясны в своих устремлениях и помыслах, самоочевидны, что ли, — прочитываются сразу и «до конца». Те герои, которых Б. Андреев играл позже, начиная с 50-х годов, — душевно сложнее, глубже, умудреннее жизнью. У них часто трудный характер, крутой нрав, порой — трагическая судьба. Но это цельные натуры, широкие, не мелочные, им претит фальшь, трусость, низость. Они упорно размышляют о жизни и самостоятельно судят о ней.
Председатель колхоза Савва Зарудный, генерал Глазунов, перевозчик дед Платон, сыгранные актером в фильмах А. Довженко, воплощают совесть народа в лихую годину его испытаний. Того же пафоса и гражданской закалки матрос Чугай и потомственный рабочий Илья Журбин. Им свойственна высокая ответственность за все, что делается вокруг.
А вот устрашающий Вожак из «Оптимистической трагедии» в глубоком разладе с народным делом, с революцией. Но нет здесь облегченного показа, простоватости, карикатуры.
А как впечатляет боцман Зосима Росомаха (из раннего фильма Г. Данелии «Путь к причалу»)! Неустроенный, одинокий. Неуютно с ним. Груб он, суров. Никак не может прийти к нормальной жизни. Повидал немало на своем веку, потрудился, настрадался. И вот, когда забрезжил причал — дом, семья, обретенный сын, — судьба поставила его перед выбором… Он не пришел к своему причалу, погиб, но сорок моряков на тонущем лесовозе были спасены.
Кого бы ни играл Андреев, он всегда был больше своих персонажей: в его улыбке, иногда спрятанной в глазах или в самых уголках губ, просвечивала мудрость художника, знающего и понимающего жизнь лучше, полнее, объемнее, чем герой.
Борис Федорович действительно много видел, знал, передумал. Жаль, что так мало записано из рассказов Андреева. Как интересно он говорил! И не только на встречах со зрителями. Он был замечательным собеседником, темпераментным, увлекающимся и увлекающим других, порой ироничным. Он был мудрым человеком, знающим и любящим свою профессию, свое искусство, чувствующим за него ответственность.
Борис Андреев — поистине народный художник. Не только потому, что большинство его героев — труженики, типичные представители народа; суть в том, что в нем жил нерв гражданственности, кровной сопричастности к народным судьбам, свершениям, чаяниям. И гордость за то, что большой и непростой кусок истории он, советский актер, прошел вместе со своим народом.
Остались роли, которые актер мечтал воплотить на экране, да так и не привелось. Как мы все хотели бы видеть его Тараса Бульбу!..
Глубокий след оставил Борис Андреев в нашем кинематографе, он гордость нашего кино, его неотъемлемая часть.
Сценарий картины «Два бойца» по повести Л. Славина я писал в Москве в начале 1942 года. Писал в пустой квартире (семья была эвакуирована в Таписент). Была со мной только собака по кличке Ингул, чепрачного цвета, мужского пола. Я оставлял его у соседей, когда как корреспондент уезжал на фронт, а когда приезжал, чепрачный пес перебирался ко мне. Я писал да писал и, когда становилось невмоготу, откладывал авторучку прочь и начинал разговор с Ингулом.
Я торопился вовсю: близился срок моего отъезда на фронт, надо было успеть отправить сценарий в Ташкент, на студию. Писал — и не перечитывал. И первый, кому я его прочитал в ту московскую военную пору, был мой Ингул. Я собрал листки, уселся за стол в комнате, где когда-то сидела большая семья, и стал читать. Сценарий, как показалось в ночном этом чтении, был далеко не хорош, весь как-то разорван, неровен. Ингул, когда я кончил читать, встал, понюхал мои листки и что-то пролаял глухим басом. Не думаю, что пролаял он в одобрение. Наверное, я начал бы писать все сначала, если бы у меня оставалась хоть капелька времени. Но утром надо было уезжать. Я запечатал сценарий в конверт, вложив туда же записку JI. Лукову, режиссеру: «Знаю, что плохо, простите», поцеловал Ингула в лоб, отвел к соседу, и вот Москва уже позади, а с нею все, что связано с киноискусством.
Спустя год уже всюду на фронте пели песни «Темная ночь» и «Шаланды». Я слышал их и в попутных машинах, и в блиндажах, и в санбатах, и на аэродромах. Мои фронтовые друзья — журналисты, оценив положение, отрекомендовали меня как автора «Двух бойцов», и всюду нас ждал отличный прием — не за картину, а за песни, к которым я не имел ни малейшего отношения.
Картины я тогда еще не видел, но, судя по этим признакам, был уверен, что нет в ней ничего достойного, кроме песен.
Но вот где-то под Харьковом, в истерзанном пулями кинотеатре, я посмотрел в первый раз «Два бойца». И понял, что есть в этом фильме нечто куда крупнее и важнее, чем песни, — игра Бориса Андреева и Марка Бернеса.
Я очень мало знал тогда Андреева, видел его в одном только фильме того же Лукова. Но знал, что роль Саши Свинцова, парня-уральца, написана мною бегло, в спешке и что нелегко с нею было актеру (автор лучше всех знает, что к чему в его сценарной работе и где что-то найдено для актера, а где как бы найдено, а на деле только пущена пыль в глаза). Тем сильнее взволновал меня Андреев, создавший образ Свинцова на материале сценарно-поверхностном, полупустом. Я принял Андреева сердцем, как только увидел, — принял и эту неповоротливость жеста, и крепкость, и кротость улыбки, и эту массивность ног, не торопясь двигающихся по земле. Это был образ, точно и резко очерченный, без игровых завитушек, без актерских безделиц и баловства, рожденный актером сильным, предельно русским. Он шел, сидел, говорил, сердился и улыбался, этот уральский парень Саша с Урал-маша, и становилось вдруг до предела ясно (не словами, не фразами, а всем строем этой неторопливости, этим нескорым почерком жестов, движений, выражением глаз), что такую Россию не сломишь ни криком, ни танками! Раз уж поднялся этакий парень, взял автомат и надвинул каску, то нет ему ни мороза, ни рек, ни смерти — он победит.
Благодаря игре Андреева фильм, задуманный всего лишь как эпизод фронтовых будней, обрел внезапную широту, обращаясь к раздумьям о родине, о ее людях. И ни к чему были тут ни взрывы, ни самолеты (в огромном числе привлеченные в фильм, видимо для того, чтобы внушить зрителю ощущение масштабности), достаточен всего лишь один Андреев — Свинцов, в нем и масштаб, и неизбежность нашей победы.
Роль одессита Аркадия, боевого друга Свинцова, выписана получше. Но есть в ней опасность эстрадной чувствительности, опасность излишеств по части южной манеры жеста и разговора. Бернеса, игравшего эту роль, я знал больше, чем Андреева, но знал его ближе как актера с гитарой. Однако и он обернулся в картине неожиданной стороной. Я увидел эстрадность, услышал одесский говор, но тут же рядом, как бы в одной линии, в одном бегущем потоке, увидел другое — обширное и значительное, человеческое и солдатское, что (опять же без танков и взрывов) говорило о силе народа и верной победе.
Выходя из кинотеатра, я думал о том, что, конечно, киноискусство огромно своими возможностями поведать о жизни тысячных масс. Но (что бы ни говорили мне) разве не столько крупно, а может быть, и в тысячу раз крупнее оно силой глаз, силой слов, неистощимой властью бессловности, если только владеет ими настоящий актер?
Борис Федорович Андреев. Удивительный человек, с которым давным-давно мы работали вместе. Вспоминаю его, и теплеет душа. Эти чувства сопровождали нашу совместную работу и сохранились надолго. Быть может, навсегда. Запечатленное в памяти обаяние и безграничная доброта этого человека заслонили собой конкретные факты былых времен и встреч. И от этого немного грустно.
Мало сказать: он был яркой личностью — и в жизни и в творчестве, — он был артистом, которого любил весь народ. Ведь для этого надо было быть не просто талантливым, а, наверное, нести в себе собирательный идеальный образ человека. Причем идеальный не в смысле расхожей скучной положительности, а как действительное выражение любви, мудрости и одаренности народной. И кажется мне, что именно Андреев стал носителем того, как люди мыслят себе русского талантливого человека — заразительно доброго, естественного, широкого…
Мощность его фигуры определялась сочетанием многих превосходных качеств: незаурядно талантливый, надежный, честный человек. И при этом он вырос до выражения емкого собирательного образа, своего рода символа русского народа, целой эпохи… Редкое счастье для актера-художника.
Его роли в кино я всегда любила. В каждой своей работе он был искренним, масштабным, нес особые черты человеческого характера. Нас всегда волнует соотношение интернационального и национального в искусстве. И когда актер приходит в своем творчестве к подлинному выражению национального характера, — это всегда большое счастье. Ведь почему, к примеру, так дорога нам Марецкая в роли Матери. Потому, что чувствуем — перед нами настоящая русская женщина. Так у Бориса Андреева в каждой работе сквозили черты былинного русского богатыря.
Возможно, внешне это складывалось в некое подобие амплуа, которое артист охотно поддерживал. Он словно с озорством говорил окружающим: «Вы хотите меня таким видеть? Пожалуйста, я буду для вас таким». Но это — внешне. А по существу Андреев всегда оставался артистом глубоко чувствующим природу образа, художником высокого драматизма.
За кажущейся простотой характера оставался второй план, который никогда не казался простецким или поверхностным. В его работах открывался пласт личных размышлений, показывающий большие человеческие накопления, чувства острого переживания за людские судьбы, если угодно, — протеста против косности. И такая мировоззренческая углубленность творчества сочеталась с удивительной природной непосредственностью игры.
Ему везло на режиссеров. Но у меня сохранилось ощущение, что он сам прекрасно понимал, что такое хорошо, идя от тех образов, которые создавал. И это я называю актерской щедростью души. Личность этого артиста никогда не воспринималась мною одномерно, плоскостно. Хотя мои ощущения от совместной работы были только радужные, веселые и остроумные, — но за этим угадывалось, что он о чем-то безумно болеет ушой, хочет большого и значимого. Но всегда это было прикрыто как бы маскою народного юмора того героя, которого мы видели на экране.
Сейчас отчетливо вспоминается выступление Бориса Федоровича на одном из больших кинематографических форумов. Среди множества официальных речей раздался голос, в котором чувствовалось искреннее переживание за судьбу актера, за судьбу своих товарищей по искусству, творчеству.
Ведь он никогда не упивался своей славой, хотя она, конечно, его радовала. А проблемы перед ним вставали те же, что и перед другими актерами. Только необходимость их решения не оставалась индивидуальной — замкнутой на самом себе. Она распространялась на весь наш многочисленный актерский цех.
Зритель у нас умеет любить актеров. Потому бывает очень обидно, когда люди, достигшие больших высот, лишь наслаждаются лучами собственной славы и совершенно забывают обо всей остальной артистической братии. Ничего подобного с Андреевым не случилось, хотя популярность его была невероятной. И вспомнился мне тот давний кинематографический съезд потому, что говорил Андреев об актерской проблеме, такой важной для всех нас. Весело говорил, с присущим ему юмором, а мысли были серьезные, глубокие и выстраданные. Выйдя на трибуну, он не стал чиновником, — а такое очень часто происходит и с хорошими людьми. Он же не был отдельно деятелем, а отдельно — исполнителем ролей. Всегда и всюду, на любой площадке он оставался самим собой. Большим, добрым человеком, кровно заботящимся о своих ближних, о своих коллегах. И этот свой нравственный уровень он всегда сохранял, а для этого тоже требуется большое мужество.
Вообще счастье, что я знала его. Мало, но все-таки знала. А картина — «Сказание о земле Сибирской» — была большая, и мы целый год работали вместе. Группа наша довольно долго снимала под Москвой, в Звенигороде, где построили декорацию чайной. Выезжали в Сибирь, правда без меня… И вся работа шла с ощущением необычайной радости, поистине первозданной красоты. Все эти лихие лошади, сани, шубы… запоминались надолго. Для меня это был какой-то праздник, и потом в жизни я ничего подобного даже и не ощущала.
Я была еще студенткой, когда Иван Александрович Пырьев искал актрису на роль Настеньки в картину «Сказание о земле Сибирской». Ему, конечно, хотелось, чтобы в фильме снималось существо чистое и еще незнакомое для кино и для зрителей. Поэтому Пырьев потребовал найти исполнительницу на роль среди студенток. Ассистенты пришли в театральное училище, где я тогда училась на третьем курсе, и там, около зеркала, возле которого мы с подругами одевались, они меня и увидели. А у меня в то время были очень румяные щечки, наивное личико… Наверное, так и мыслился режиссеру внешний облик Настеньки. И меня пригласили на студию.
Я пришла на встречу к Ивану Александровичу. Одели меня в костюм Настеньки, сделали прическу. Пырьев очень внимательно меня осмотрел. Должно быть, остался доволен. Начались репетиции. Началась работа.
Пырьев был человек крайне эмоциональный. В каждом эпизоде он стремился прямо-таки всю душу из актеров вытащить. Когда он показывал Борису Федоровичу, как Бурмак должен любить Настеньку, то просто весь дрожал от напряжения, доказывая, что нельзя герою быть просто этаким молодцом сибирским. В пырьевских показах был предельный накал. Слезы выступали на глазах режиссера. И во всем облике, во всей натуре сквозило что-то такое нервическое, исступленное — поистине от Достоевского.
Надо было повторять задание. Борис Федорович смотрел, слушал и повторял предложенное. Но делал все уже совершенно по-своему. Сохранялся накал страсти, но как-то величественно смягчался, становился весомее, монументальнее. В предельном напряжении актер сохранял свое здоровое и добродушное природное начало. Такое интересное сочетание крайней эмоциональности и насыщенности трактовок Пырьева и переработки этой фактуры Андреевым давало одновременно конкретно-эмоциональный и обобщенный национальный характер героя.
Целых три месяца мы снимали в Праге. Там шла работа над эпизодами в чайной. Необходимость такого дальнего путешествия была продиктована техническими причинами. Киностудия «Баррандов» обладала всем необходимым для съемок цветного фильма, а мы тогда еще только начинали браться за это дело.
Мы жили в пражской гостинице «Флора», и дела сложились так, что я часто оставалась незанятой на съемках. Хотя все это было не по моей вине, Борис Федорович при каждой встрече обязательно подтрунивал: «Все гуляешь? А работать когда?..» Словом, он всегда старался меня как-то подковырнуть. Не зло… Получалось, что он просто всегда меня замечал и обязательно реагировал на мое присутствие. Если я рядом — он обязательно «подцепит». И никогда так не было, чтобы он просто прошел мимо, словно бы и нет рядом девчонки-дебютантки. И это было славно. Юмором ли, упреком или лаской, но обязательно всегда он цеплял меня этаким духовным, эмоциональным крючком, и от этого рядом с ним всегда было хорошо. Все это потому, что был он такой настоящий, живой человек — не проходящий мимо.
А компания тогда действительно собралась знаменитая: и режиссер-постановщик и актеры… Все они на меня внимание не очень-то обращали. Владимир Дружников, Марина Ладынина целиком принадлежали тогда своим ролям — образам центральных героев. И только Борис Федорович постоянно и трогательно делился своим большим человеческим и профессиональным опытом. Правда, мы по фильму были с ним «парой». Но главное, думаю, в его натуре таилось желание раскрепостить девчонку, которая, скажем так, попала не в свою среду.
Он мог то просто чем-то рассмешить меня, то вдруг самым серьезным тоном спросить: «Неужели не можешь заплакать, что ж ты, не влюблялась никогда?» — провоцируя меня на естественные человеческие чувства, которые нужны были для картины.
Работа над этой сценой хорошо запомнилась мне. Действительно, по ходу дела Настенька должна была горько плакать: она узнавала, что Балашов — герой Дружникова не любит ее. Бурмак — Андреев утешал меня, а у него самого текли слезы. Это трогало меня необычайно. И здесь срабатывал замечательный творческий механизм: актер проникся духом сцены, эпизода, заразил своим чувством тебя, ты — другого партнера, он — еще одного… И уже не замечаешь, как идет работа, сцена развивается, несется, обрастая чувствами и эмоциями словно снежный ком.
Никогда не забуду этой сцены с Бурмаком. Как плакал он, когда меня утешал. Это было очень трогательно. Такой большой, могучий… Когда сцену закончили снимать, было очень жалко — так естественно, так легко она шла. На съемках быстро привыкаешь к кинематографической манере работы: все делается маленькими комочками, фрагментиками. А это была большая сцена, и я действительно по-настоящему прожила ее всю целиком, от начала до конца, словно заколдованная чувствами своего замечательного партнера.
На съемках у нас с Борисом Федоровичем не было никаких творческих проблем и споров. Он — тогда уже опытный мастер — прекрасно понимал, что я была еще просто юной студенткой. Да к тому же и перепуганной таким знаменитым окружением, в которое попала. На работе он, попросту говоря, меня обласкивал и юмором своим и вниманием успокаивал, чтобы я не нервничала, а была бы просто этаким открытым цветочком, который и нужен для картины.
Серьезных наставнических разговоров у нас не было. Разве что только по роли. Да и характер эти беседы носили не теоретический, а чисто практический. Он всегда выступал просто как человек, которому хотелось, чтобы я раскрылась. Поэтому отношения были скорее теплые, родные, нежели чисто профессиональные. Все профессиональное шло тогда от Пырьева, который добивался четкого выполнения каждого кусочка роли. Андреев же скорее вел себя как мать, которая говорит своей дитяти: «А я ей сделаю тепло. А я сделаю так, чтобы она успокоилась. Вот пусть она себе учится; а я — именно тот человек, делающий все вокруг таким, чтобы ей было удобно».
Он, мне кажется, действительно никогда не брал на себя во время работы функций мэтра. Я ощущала его, скорее, веселым, уверенным в себе человеком и одновременно учеником.
Он действительно весело жил, весело все воспринимал, а задания все выполнял усердно и старательно. Но старательность эта была с глубоким ощущением собственной индивидуальности — раскованная, щедрая, вольготная. Борис Федорович всего себя направлял на то, чтобы выполнить предложенное постановщиком, но и преломлял все сообразно своей индивидуальности.
Словом, демонстрировал он еще одно важнейшее актерское качество, с которым мы не всегда в силах совладать. Если мы начинаем очень стараться и теряем вдруг собственную непосредственность и индивидуальность, — мы становимся беспомощными. Всегда надо стремиться к выполнению поставленной задачи, но никогда не забывать самого себя. Андреев никогда не бывал беспомощным. Никогда не забывал он на съемочной площадке самого себя, свою натуру, — даже стараясь сделать то, что не всегда было ему свойственно. Думаю, что именно поэтому пырьевское неистовство сглаживалось его собственной натурой, его юмором. И получалось именно то, что было нужно фильму.
Работали мы вместе целый год. И картину эту я очень любила и люблю, хотя сейчас она, конечно, может показаться во многом наивной. Все казалось чудесным. И вся обстановка, и эти самовары, и чайная, и наши шубы… Не было даже ощущения кропотливой кинематографической работы. Все бурлило, все куда-то бежали, торопились сделать свое дело. Было по-настоящему нескучно, незанудно. Картина наша действительно как тройка неслась по снежным, холодным хорошим полям. Было празднично от самой работы. И еще — рядом был замечательный человек, артист Борис Андреев.
Тогда казалось — он рожден для этой роли. Когда смотрела другие его фильмы, казалось: он рожден именно для этих ролей. Всегда это было непосредственно, и убедительно, и очень мощно. Радость и само естество. Это и есть талант.
Когда он умер, я плакала. А вспоминались русские березы, домик, оставшийся в деревне… Мимолетные образы, связанные с понятием родной земли, которой целиком принадлежал этот добрый и веселый человек. Вот для меня Борис Андреев — это все-таки Родина. И это очень важно и хорошо.
Записал Б. Андреев
Это не монографическая статья о творчестве известного актера. И даже не юбилейный торжественный портрет. И это не воспоминания об интереснейшем человеке с разительно несхожими внешностью и внутренним миром. Бориса Федоровича я знал много лет, но не близко, поэтому не имею права на мемуары. Что же это за заметки?
Это воспоминания об одной из ролей Бориса Андреева. Эту роль я тоже знаю, вернее, помню, много лет, поэтому на мемуары право имею.
Впрочем, нет! Нельзя об одном только Росомахе, хотя, по-моему, это лучшая андреевская роль. К Росомахе он шел не легким путем, пришел не быстро. Но пришел. К многозначности, сложности, психологической глубине и подлинной человечности.
Но все-таки — с самого начала.
Довоенный ВГИК, располагавшийся тогда в подсобных помещениях знаменитого «Яра». Небольшой просмотровый зал набит до отказа. Недавний выпускник, а ныне прославленный автор «Богатой невесты» Женя Помещиков показывает свой новый, тоже поставленный Пырьевым фильм «Трактористы».
Слегка опоздав, я стараюсь протиснуться в зал, но мне мешает толстый Сашенька Столпер. Смотрю на экран, изогнувшись: отбиваясь от непрошеных женихов, Ладынина — Марьяна Бажан хватает за руку огромного парня: «Вот мой жених!» — а парень смущается, пятится.
— Боже мой! Какая прелесть! И где только берут таких…
Это из темноты раздается звонкий голос Эйзенштейна.
Борису Андрееву особенно стараться в «Трактористах» не пришлось. Играл, как нам показалось, самого себя: могучий увалень, неумелый бригадир, неопытный ревнивец. Рядом со сноровистым Крючковым, который и пел, и плясал, и девушек покорял, и лозунги про оборону говорил, — Андреев терялся.
Но всеми, решительно всеми его Назар Дума был замечен. И одобрен.
И пошел, как говорится, сниматься во все тяжкие.
Конец тридцатых годов был для нашей кинематографии урожайным. Сразу за «Трактористами» сыграл Андреев Балуна — главную роль в «Большой жизни» Л. Лукова. Там знаменитый шахтер-стахановец и трудовые рекорды ставил, и любил, ревновал, устраивал пьяные сцены на весь поселок, и горько раскаивался, казнился, и вновь ставил рекорды. Здесь уже было что играть. И он играл — размашисто, искренне, правдиво. Мелькнул в небольших ролях в «Истребителях», в «Валерии Чкалове». И вновь очаровательная роль: огромное, могучее «дитятко» Довбня в буйном запорожском ополчении Богдана Хмельницкого. «Раззудись, плечо, размахнись, рука!» Наивное, детское лицо, смущенные ужимки, а силища — громадная. И знало «дитятко», за кого сражаться.
Несмотря на соседство М. Жарова, Н. Мордвинова, В. Полицеймако и других светил, Андреев был снова отмечен, пришелся по сердцу всем. А в конце фильма, будто на закуску, сыграл еще маленькую роль русского боярина Пушкина, олицетворяя могучей своей фигурой силу и красу русского народа. Так олицетворять ему приходилось потом неоднократно…
Актер с необычайно благодарной внешностью, с громовым басом, с природным обаянием и (сразу заметили!) не только позирует, но играет — верно, темпераментно, сильно. Пошли слухи, что собираются поручить ему роль Пьера Безухова. Сомневались: уж больно народен, потянет ли на графа?
Но стало не до «Войны и мира». Мир нашей Родины сорвала вторая мировая война.
Когда на фронт приезжали кинопередвижки или приходилось пережидать в тылах, я радовался каждой встрече с Андреевым. Пошли «Боевые киносборники» — танкист; «Сын Таджикистана» — солдат; «Я черноморец» — матрос… Еще солдат, еще матрос. Промелькнул страшенный анархист. И наконец, снова всеобщая любовь — Саша с Уралмаша в «Двух бойцах» Леонида Лукова, рядом с красавцем и певцом Бернесом: не уступая ему в обаянии, верности, храбрости, дружбе, брал еще душевной тонкостью, застенчивой мягкостью, хрупкой нежностью — это при его-то фигуре!
И тогда, хотя я и не был знаком с Борисом Федоровичем, я понял, что нежное сердце в могучем теле, застенчивость при зычном басе и есть характер Андреева-человека.
Впрочем, не только это. Было слышно, что нежность и застенчивость порою пропадали в бурных порывах гнева, в опасной обидчивости… Но не мне об этом писать.
Кончилась война. Настали для киноискусства тяжелые времена «малокартинья». Впрочем, Андреева они коснулись меньше других. В «Сказании о земле Сибирской» он, в общем, повторил рисунок душевной нежности в могучем теле. Мелькнул во «Встрече на Эльбе», в «Кубанских казаках» снова повторил рисунок, но уже из «Трактористов». Катастрофическая критика и запрет второй серии «Большой жизни» лично его не задели.
А вот официальный успех в «Падении Берлина» меня от Андреева оттолкнул, и надолго.
Понимаю и понимал, что актер не во всем виноват. Но в помпезном фильме М. Э. Чиаурели Андрееву довелось олицетворять русский народ. Имя он получил распространеннейшее — Иванов. К немцу обращался от лица всего народа, по Зееловским высотам шел — как вся наша непобедимая армия. А вот на приеме у И. В. Сталина робел, мычал, залезал сапогами в клумбу… Негоже так было вести себя олицетворению русского народа. Неужели нельзя было поспорить, отказаться?
Нет, конечно, было нельзя.
Но новое олицетворение — роль Ильи Муромца — можно было играть не столь тяжеловесно.
Но как ни глубока была моя «обида» на Андреева, — должен признать, что талант его в пятидесятых годах созрел и принес много удач: суровый и добрый боцман Лучкин из не свободного от сантиментов фильма «Максимка» по Станюковичу; ленинградский корабел Илья Журбин в «Большой семье»; Савва Зарудный в «Поэме о море» Довженко; давно желанная роль Ерошки в «Наказах» по Льву Толстому; вооруженный сибирский мужик Лазарь Баукин в «Жестокости» по Павлу Нилину. Вот уж где и тонко и мощно показал Андреев и муку от собственной ошибки, и горькую обиду на человеческую неправду, и смертную тоску. Поистине трагическая роль!
На гребне своих наивысших достижений пришел Андреев в фильм совсем молодого режиссера Георгия Данелии. Мог, конечно, не рисковать, но рассказ и сценарий В. Конецкого были неоспоримо хороши, а Данелия — неоспоримо талантлив, что доказал и учебной короткометражкой о пленных французах по эпизоду «Войны и мира» и совместной с И. Таланкиным картиной «Сережа», удивительно сердечной.
Вот тут-то и появился на экране любимый мой Росомаха. Появляется не один, а в окружении своих сослуживцев, людей нашей Арктики, разных, непохожих, романтических, грубых, человечных. В этой среде Росомаха свой, но все-таки выделяется — уж очень своеобразен, неординарен.
Росомаха? Ведь это хищный зверь. Небольшой, но страшно сильный, безумно храбрый, коварный… Нет, не подходит это имя к огромному медлительному моряку. Скорее, Медведь! Но у Даля есть и другое толкование: «Росомаха (бранное) — разиня, неряха». Нет, опять не слишком подходит. Не может быть разиней опытный моряк. Неряха? Да, не щеголеват. Но спокойного достоинства не теряет. Наконец, «росомаха — злой дух, человек со звериной головой». Совсем уж не подходит. Скорее, медведь с человеческим сердцем.
Знаю, что человек не выбирает имени для себя. И прозвища бывают неточные. Но почему именно имя Росомаха так подошло к герою Андреева? Вероятно, потому, что в Даля я заглядывал много позже, когда Андреев удивительной своей органичностью, неповторимостью, оригинальностью убедил меня, что странное имя — его. И я поверил, как и всему, что с ним происходило в фильме.
Сюжет фильма можно свести к следующему: в шторм спасательное судно «Кола» буксирует к последнему причалу назначенный на слом, полуразрушенный корабль «Полоцк». Неожиданно принят сигнал бедствия с лесовоза, потерявшего управление близ опасных скал. Чтобы поспеть на помощь, нужно бросить неуправляемый «Полоцк» и обречь на гибель находящихся на нем четырех человек из команды «Колы»: старого боцмана Росомаху, двух матросов и пятнадцатилетнего уборщика Ваську. Капитан предоставляет право решения этим четверым, и они после недолгого спора обрубают буксирный трос. «Кола» спасает лесовоз. К счастью, не погибают и четверо героев, выдержавших бой с бушующим океаном.
Романтично? Да, безусловно.
Седые валы, обрушивающиеся на палубу. Суровые голоса моряков, переговаривающихся по радио: «…дело ваше, судя по всему, табак! Буксир надо отдавать. Как понял? Прием!» Трос, готовый лопнуть на полном ходу, но выдерживающий и… обрубленный!
Столкновение сильных страстей: жизнь или честь? Жизнь или долг спасателей? Страх или благоразумие? Жестокость или мужество? Столкновение характеров: морской волк, сто раз глядевший в глаза смерти, угрюмый и бесстрашный, выбирает жизнь: «Я со смертью вдоволь наигрался… Вы это знаете! А мне сейчас — к причалу дойти надо!» А молодой морячок, свистун и волокита, обладатель усиков и заграничной пестрой рубашки, призывает к самопожертвованию: «Там люди гибнут! Люди! Понял! Мы спасатели! Боцман! Не стучи ложками! Как я людям в глаза буду смотреть! Женам и детям вон тех, которые сейчас там погибнут из-за нас!» И, наконец, когда обрублен трос, — черные скалы, грозно надвигающиеся из тумана, из пены, из брызг, вой ветра, зловещий скрежет разбивающегося о камни судна и перекрывающий все голос боцмана: «…нас заклинило на скалах! Пройду! Трос закреплю на полубаке…» И титаническое единоборство могучего человека со стихиями: волнами, ветром…
Скажем прямо, не эти захватывающие дух сцены — лучшие в фильме. Интереснее другое.
Интереснее сцены, прямого отношения к сюжетной схеме не имеющие. Вернее, сцены, образующие сюжет в новом, не традиционном, более широком и человечном понимании.
Насыщены бытовыми арктическими подробностями сцены у вертолета, в домишке, именуемом гостиницей, и на борту спасателя «Колы», совершающей еще пока не героический, а обычный рейс, не в шторм, а при нормальной погоде. Там мы знакомимся со всеми членами немногочисленного экипажа и с нетерпением ждем подробностей об их характерах, наклонностях, биографиях. И знакомства не обманывают нас. Мы проникаемся глубоким уважением к немногословному капитану, потерявшему семью еще в годы войны и так и оставшемуся одиноким; к толстому механику, отцу семерых детей, с его привычкой безостановочно рассказывать всякие небылицы, и к старпому, придирчивому и язвительному.
Там нашим интересом повелительно овладевает мрачный боцман — Зосима Семенович Росомаха.
Сначала меня охлаждала киноведческая эрудиция. «Не современный ли это вариант матроса Лучкина из старой доброй картины «Максимка», — ехидно думал я, глядя, как сочувственно косится боцман Росомаха на юного уборщика Ваську… Но мне пришлось испытать великое счастье неоправдавшихся подозрений. Боцман Росомаха лишь внешне напоминает прежних героев Андреева. Он — иной. Он тоньше. И совершенно лишен сентиментальности.
Первое знакомство с боцманом отталкивает. С борта «Колы» молодой матрос бросает провожающему его ненцу редкостный в Арктике арбуз. «Моя не надо, моя не привык!» И ненец кидает арбуз обратно. Матросик — снова ему, ненец — снова обратно. И тут в, эту игру великодуший грубо вмешивается угрюмый, огромный боцман. Ловко перехватив арбуз, он с хриплым криком: «Кончай балаган!» — шваркает его о сваи. Какая беспричинная злоба!
Взаимоотношения с подростком Васькой лишь сначала напоминают «Максимку». Скоро становится ясно, что вместо нерастраченной нежности примитивной души Лучкина здесь — разочарованность, усталость, печаль. Что же сломило мощного боцмана, что отравило его равнодушием? Мало-помалу мы узнаем о его жизни. Со славой прошел войну, одинок, ни к чему не привязан. Личная жизнь не сложилась, поэтому резок, груб. Необразован, культурных интересов мало. Лишь на момент мы видим, каким был или мог быть Росомаха прежде. Играя в «настольный футбол», он оживляется, становится ловким, сосредоточенным, упорным. Но, выиграв, остывает, замыкается, черствеет. Андреев играет все эти сцены просто и вместе с тем значительно, весомо. Поэтому сквозь обычные, незначительные события и поступки просвечивает сильный, незаурядный человеческий характер. В полном согласии с режиссером Андреев показывает этот характер очень скупо, экономно. Когда звучит тревожный сигнал «человек за бортом!», Росомаха раздевается и прыгает в ледяную воду — без показного драматизма и без геройской небрежности. Он, ругаясь, стаскивает с себя бушлат и плюхается в воду как бы нехотя, тяжело. А человек спасен! Чтобы совсем развеять ореол героичности, Росомаху наделяют после этого поступка элементарным насморком. И Андреев добросовестно чихает. Но зритель уже знает: за грубостью что-то скрывается. Справедливость? Храбрость?
Особенно интересно раскрывается характер Росомахи в Мурманске. Он не разделяет сладкого волнения команды, готовящейся к встречам на берегу. Он уныло идет мимо принаряженных, вооруженных гитарой и песней молодых матросов, дружно оборачивающихся вслед проходящей девице. Но радость, с которой встречает его однорукий человек в тельняшке, выглядывающей из-под пиджака, лишний раз подтверждает: Росомаха здесь свой, его тут дарят и уважением, и дружбой.
Однако за столом у приятеля после первой же поллитровки происходит размолвка. Героические воспоминания, нахлынувшие на однорукого, оставляют Росомаху равнодушным. Он хочет напиться, талдычит одно: «Добавить пора…» И расчувствовавшийся фронтовик так оскорбляется за святое свое прошлое, что — слабый, однорукий — выгоняет огромного Росомаху из дому. И тот уходит покорно и равнодушно. Нет у него святого, нет причала, нет памяти?..
Мы видим его ночью одного на берегу. Вероятно, он где-то еще немало «добавил»… Пошатываясь, спускается он по каменистой насыпи и, войдя в воду, начинает топтаться, бить, пинать спокойно набегающие волны. Пьяный кураж? Да, но и человеческая трагедия. Он мстит океану, отобравшему всю его жизнь, он бьет его тяжелым подкованным сапогом, он оскорбляет стихию, обрекшую его на одиночество, лишившую его… — но чего?
И вскоре мы узнаем, чего лишил Росомаху океан. Простого человеческого счастья, любви, семьи.
На следующий день, после ночи, проведенной в вытрезвителе, «вырученный» из отделения милиции язвительным старпомом, сопровождаемый жалким мерзким алкоголиком, Росомаха думает только о том, как бы опохмелиться. Авторы и актер рискуют совсем потерять расположение к своему герою. В нем сгущается мрачность, безразличие, проглядывает хамство, что-то тупое, бесчеловечное.
Но тут происходит встреча.
Из очереди выходит немолодая, поблекшая женщина в аккуратно завязанном платке, в небогатом, наглухо застегнутом пальтишке. Тихо, сдавленным голосом зовет она: «Зосима!» и всем телом устремляется к нему и смиряет свой порыв, а на окаменевшем лице сияют большие глаза, полные и радости и боли, и жалости и гордости, и надежды. Сколько слез пролили из-за него эти глаза…
У актрисы Любови Соколовой своя история работы в кино, своя творческая судьба, и судьба эта несчастливая. Годы юности, годы расцвета творческих сил пришлись у нее на тот недоброй памяти период, называемый «малокартиньем», когда все силы талантливой, зрелой нашей кинематографии тратились на производство десятка помпезных официальных фильмов. Какие уж тут роли!
Но вспоминаешь эпизоды, составившие актерскую биографию Соколовой, — это незабываемые образы.
И вот опять небольшой эпизод. Но и Соколова и Андреев играют его так, что сердцем зрителя завладевают простые человеческие чувства — простые, но такие сложные!
Мария и Зосима любили друг друга в трудные годы войны. По случайно оброненным словам, по внезапно вспыхивающим воспоминаниям («Шрам-то на руке остался…») мы понимаем: это было сильное и светлое чувство. Но жизнь раскидала, разлучила их. Она думала — он погиб; ему не с чем было к ней явиться. Шли годы. Все поросло быльем. И вот внезапная встреча вновь всколыхнула их души, заставила досадовать, жалеть, может быть, надеяться…
Разговоры Марии с Зосимой скупы и богаты подтекстом. Писатель Виктор Конецкий с тонким мастерством освобождает текст от мотивировочных, информационных фраз, которые так трудно и неинтересно произносить актерам, и строит диалоги в лаконической и вместе с тем жизненной, бытовой манере, где не всякий вопрос получает прямой ответ, где между словами остается место и для непроизнесенной мысли и для невыраженного чувства. И артисты превосходно используют возможности диалога. За скупыми, часто незначительными, случайными словами они раскрывают и целые пласты воспоминаний, и вспышки чувств, и нарастающую драматическую борьбу. Чуть дрогнувший голос, едва заметное движение руки; взгляд искоса; взгляд, быстро спрятанный под опущенными ресницами; взгляд, полный любви, осветивший незначительные слова; взгляд, полный укоризны, в паузе. И в этом безмолвном поединке в Росомахе побеждает человек.
Это Мария выигрывает поединок с Зосимой — она побеждает его женственной добротой, горделивой материнской чистотой, всей столь обычной и горькой прозой прожитой в трудах и лишениях жизни. Она пробуждает в нем надежду, желание любви.
Без Зосимы Мария воспитала сына и она рассказывает о нем, что нежный, что он собирается в вуз, на исторический факультет, а сейчас он на танцах. Свои слова, свои сдержанные жесты Соколова наполняет человеческим достоинством, ей удается показать душевную ясность и гармонию своей героини. Поэтому и Андреев может очень скупыми средствами убедить нас, что в сознании Зосимы произошел перелом, что он теперь будет стремиться вернуть утраченное простое счастье. И мы верим в возвращение и в перерождение угрюмого, но трепетного сердцем человека. И мы не осуждаем его потом, на гибнущем корабле, когда он не соглашается обрубить трос и жертвовать своей жизнью. Мы понимаем: жизнь только что приобрела смысл, и за эту новую для Зосимы жизнь ему стоит бороться. Но тем больше стоит его решение перерубить канат. И тем радостнее зрителю, что жертву океан не принимает. Сила и умение Росомахи спасают корабль, заклинившийся в скалах.
Кто смеет утверждать, что счастливые финалы банальны? Нет, они естественны там, где зритель полюбил героев. Они — признак искусства оптимистического.
Сценарий Виктора Конецкого и фильм режиссера Георгия Данелии тем и привлекателен, что действие картины «Путь к причалу», ее содержание совсем не ограничиваются происходящим на экране, а простираются за рамки экрана, за рамки сюжета, за рамки произносимых диалогов. Ненадолго, подчас случайно мы встречаемся с людьми, биографии которых значительны, интересны, судьбы которых трудны и поучительны, характеры которых сильны и своеобразны. И это «закадровое» содержание — война, опалившая и Росомаху, и Марию, и большинство других героев, да и многие недосказанные послевоенные бедствия, — увеличивает духовный мир героев, составляет их длинные и трудные судьбы и дает актерам бесценный нравственный потенциал. Мы не все узнаем об этих людях за время их экранного пребывания. Но за немногим встает большее, а за ним — что-то еще более значительное, масштабное: образ страны, образ времени. Актеру, вероятно, помогло и то, что в рассказе Конецкого Росомахе посвящено много страниц — всей его трудной жизни, войне, послевоенным тяготам. Все это Андреев удержал как бы за скобками.
Старому и верному драматургическому принципу показа решительных, поворотных, кульминационных событий в жизни героя, принципу сосредоточения, концентрации этих событий и развития их перед лицом зрителя современный кинематограф противополагает новый, более тонкий, зыбкий, но не менее интересный принцип: перед глазами зрителя разворачиваются события, казалось бы, произвольно выхваченные из жизненного многообразия, но раскрывающие важное, существенное. Конецкий, Данелия и с ними Борис Андреев уверенно и свободно владеют этим новым методом кинематографического сюжетосложения и актерского поведения на экране.
Андреев, как видно, не сразу пришел к этому методу, к такой артистической свободе и психологической глубине.
От простодушного пребывания на экране, когда говорила столь выгодная внешность, от прямой и искренней передачи очевидных чувств и мыслей — к внешне многозначительному олицетворению огромных и не поддающихся однозначным трактовкам понятий, отчего возникала фальшь, несмотря на веру актера в правду образов. Затем пошли неровные, неравноценные, но последовательные старания проникнуть в глубину, найти общечеловеческое в конкретных судьбах героев, найти сокровенный смысл в ситуациях и действиях персонажей. Здесь много дали артисту литературные источники: Довженко, Станюкович, Нилин, Горький, Алексей Толстой и, вероятно, больше всех — Лев Толстой: Ерошка в «Казаках» был сыгран непосредственно перед Росомахой.
Получив великую силу, способную выразить внутренний мир людей скупыми, тонкими, ненавязчивыми средствами. Андреев лишь изредка мог ее применить: Вожак в «Оптимистической трагедии», Ванюшин в «Детях Ванюшина». Может быть, я что-то опустил, чего-то не видел. Но мне кажется, что семидесятые годы не дали большому артисту достойных его ролей.
Не буду касаться того, что сделано после Росомахи. И закончу эти заметки — размышления об этой роли— совсем уж в мемуарном духе.
Я написал о «Пути к причалу» статью — в не столь часто осеняющем мое перо восторженном тоне. Иногда похваленные критиком артисты, режиссеры, драматурги звонят по прочтении. Не то что благодарят, а дружески общаются. Андреев не позвонил. И даже при личных встречах в Доме кино благосклонно здоровался, речи о Росомахе не заводил. Уважаю такой характер!
Но все-таки о Росомахе мы поговорили. Лет через двадцать после фильма и статьи.
Меня пригласили сказать слово о кинематографистах-фронтовиках в Центральном доме работников искусств. От того, что связано с фронтом, — не отказываются.
Приехав слишком рано, я застал за кулисами Бориса Федоровича. Председатель актерской секции этого Дома, он и должен был председательствовать. Присели, разговорились. Я сказал, что война, ее тени, ее дух часто ощущаются в произведениях о более поздних временах, где непосредственно о войне и не говорится, Привел в пример Росомаху.
Борис Федорович усмехнулся, — как показалось мне, с приятностью.
— Не забываете, значит, моего боцмана?
— А вы мою статью о нем забыли?
— Нельзя артистам забывать хорошее. Но мне кажется, что вы его, Росомаху, перехвалили. У меня, по-моему, получше были: Ерошка, Журбин, Зарудный…
— А я — люблю Росомаху.
— За грубость, за мрачность любите?
— За нежность, скрытую под грубостью.
— Спасибо, что любите…
И мы пошли выступать, на сцену.
Больше я Бориса Федоровича не видел.
Может быть, он и прав был. В этой книге, надеюсь, найдут достойное место все его лучшие образы.
Но я — люблю Росомаху.
Бориса Андреева я увидел в 1955 году — Михаил Ильич Ромм показывал мне «Мосфильм». Из второго павильона, где снимался фильм «Мексиканец», наперерез нам широким шагом вышел человек в ковбойке и сапогах. Звякнув шпорами, гигант остановился и спросил:
— Михаил Ильич, когда будем вместе работать?
— Наступит это время, Боря, — ответил Ромм и, когда мы свернули в коридор, пояснил:
— Это актер Андреев. Когда я в войну был худруком Ташкентской студии, два человека были моей главной заботой: Борис Андреев и Леонид Луков…
Никогда я не узнал этой истории Ромма — он не продолжил, а я не решился спросить…
Через двадцать лет я снова встретился с Борисом Андреевым — на этот раз в его квартире в центре Москвы. Я сам решил отвезти ему сценарий фильма «Мое дело» и предложить сыграть главную роль — директора завода Друянова. Предложение это было рискованным — к тому времени стало ясно, что многие актеры боятся соперничать с театральным исполнителем этой роли, так как сценарий был написан по мотивам пьесы «День-деньской». Были и другие мотивы для моих опасений: много лет актер Андреев не появлялся в павильонах «Мосфильма» и считался с чьей-то легкой руки «неуправляемым»…
Борис Федорович встретил меня в залитой солнечным светом, уставленной вазами с цветами и каслинским литьем гостиной — огромный, в белой рубахе навыпуск — и указал рукой на стул. Я сидел и вертел в руках сценарий, готовясь к вступительной речи, а он лукаво, как мне казалось, рассматривал меня. Молчание затянулось, и Андреев подтолкнул меня:
— Ну, говори, Леня, говори, — я с твоим тезкой и учителем Леней Луковым всегда договаривался.
Его замечание «раскрепостило» меня, и я приступил:
— Сценарий этот, Борис Федорович…
— Ты вот что, — перебил меня Андреев, — не волнуйся. Оставь мне сценарий. Я прочту. И если соглашусь — сделаю тебе роль в картине. Знаешь, как я работаю? Я живу со сценарием месяц-другой. А потом прихожу и играю. Ты не волнуйся, Леня.
Говорилось все это ласково, покровительственно, но не со всем, мягко говоря, меня устраивало.
— А что же я буду делать? Может, мы вместе?
Борис Федорович уловил в моих вопросах запальчивость и громко рассмеялся.
— Не доверяешь?
— Ну, почему… — замялся я. — Но лучше, если мы…
— Ты оставь сценарий, а потом мы решим, как быть. — Борис Федорович снова стал иным — суровым, даже мрачным.
Не могу сказать, что встреча эта принесла покой, а к следующей, уже на «Мосфильме», меня просто трясло, и не только меня — у Георгия Тараторкина, который должен был стать партнером самого Андреева, дрожали коленки.
Как прошла репетиция?
Я открываю свою записную книжку того времени; после пер вой репетиции записано: «Б. Андреев — актер чуткий, тонко слышащий, умный, но — по каким причинам, не берусь судить — отвык адекватно выражать накопленное. Постоянна тяга к преувеличению в походке, жесте, голосе». Я ничего этого не сказал тогда актеру, но следующую репетицию назначил с видеозаписью. Каждая прикидка фиксировалась на пленку и тут же прокручивалась для артиста. И Борис Федорович к концу этой репетиции нашел камертон меры и правды. Больше к этому вопросу мы не возвращались. Предстояло не менее важное — оснастить фигуру будущего героя личным андреевским, из его кинобиографии, — на это и был мой расчет: ни слова о далеком прошлом, но зритель должен понять, что Друянов Андреева родом от Балу на из «Большой жизни», от Саши Свинцова из «Двух бойцов» и другим быть не может — таков его направляющий стержень. Нелегко было актеру проложить протоки к образцам тридцатилетней давности, у него была уже иная психофизика, но Борис Федорович преодолел ее силой таланта — становился в сценах, требовавших того, озорным, ребячливым.
Работоспособности артиста можно было позавидовать. Началось с текста. Главная роль в двухсерийном сценарии, написанном по пьесе. Шестьдесят страниц на машинке. И для театрально-го-то актера немало. А в кино — вообще небывальщина.
Борис Федорович не выходил из своего номера в таганрогской гостинице. На натуре, которую мы снимали на заводе «Красный котельщик», он был занят мало и, запасшись съестными припасами, чтобы не отвлекаться на ресторан и буфет, занялся изучением текста. Когда я приходил к нему после съемок, выполнялся установившийся ритуал: Борис Федорович снимал с маленькой электроплиточки, купленной в магазине лабораторного оборудования, литровую кружку с кофе, отрезал ломоть зельца, клал его на хлеб, протягивал мне и говорил:
— Слушай!
Он показывал эскизы монологов и сцен Друянова, а я корректировал его решение, когда это требовалось. Споров не возникало — он отчеркивал что-то в своем экземпляре и на следующий день показывал новый вариант. Не знаю, сколько кружек кофе выпил я, но Андреев приехал из экспедиции в Москву с готовой ролью: это было чрезвычайно важно — мы снимали фильм многокамерным методом, непрерывно целыми сценами…
Обычно артисты, да еще такой руки, как Борис Федорович, весьма не любят, когда режиссер делает им замечание при группе. Что ж, верно, самолюбие артиста надо щадить. Иначе это дурно скажется на экране.
Но бывают случаи, когда избежать публичных замечаний нельзя. Так было и в сцене Андреева с молодым тогда Кайдановским, игравшим конструктора Березовского. Березовский взрывается, и Друянов отвечает ему своим могучим взрывом. Для меня было важно не пропустить момент и перейти от репетиций к съемке, когда актеры подойдут на действии к пику эмоциональности. Я дал команду «мотор», увидев, что Кайдановский уже «готов», и рассчитывая, что Андреев придет к пику эмоции в дублях… Но вдруг произошло неожиданное — Борис Федорович стал подменять действие голосовой техникой. Я не сдержался и начал резко выговаривать, уже на полуфразе подумав, к каким последствиям это может привести: Андреев просто уйдет из павильона. Но Андреев не ушел, — лицо его налилось кровью, и, сжав зубы, он рыкнул:
— Ну! Снимай!
Дубль был прекрасным. В комнате отдыха за павильоном мы пили чай и молчали. Наконец Андреев сказал:
— Хорошо, что налег на меня, — мне такого удара как раз не хватало!
И захохотал раскатисто.
Популярность артиста была огромна — люди, увидев его на улице, начинали улыбаться. Для Бориса Федоровича не существовало вопроса, как распорядиться популярностью. Он любил помогать людям. Только по моей просьбе он делал это не раз и не два — ездил в райисполком, в милицию, пробивал обмен жилья. Все это без личной выгоды — для низовых работников студии, от которых он не зависел. Однажды я спросил Андреева, почему он так безотказно отзывается на просьбы. Борис Федорович ответил: «Судьба мне многое дала; если я не буду помогать людям, — она от меня отвернется!»
Общеизвестно огромное обаяние Бориса Андреева.
Его облик всегда, неизменно приковывал к себе людей — неповторимость интонаций, остроумие, грохочущий бас и раскатистый, веселый смех…
Натура необыкновенная, притягательная, удивительно добрая…
Меня всегда поражало в нем несоответствие — гигант с душой ребенка. По всей своей сути он был человеком деликатным, скромным, я бы даже сказал — во многих случаях робким, стеснительным, который и мухи-то не обидит. Не раз я видел, как этот грозный, большой, внушительного вида человек вдруг терялся, умолкал, смущенна отводил глаза, тушевался… Доброта его и застенчивость подчас были спрятаны далеко — так легче и проще было общаться с окружающими… Выручал юмор…
Счастливый случай свел меня с Борисом Федоровичем в работе.
Роль Вожака в «Оптимистической трагедии» была не так проста, как могло показаться вначале. Фанатизм и жестокость, тупая ограниченность были лишь половиной образа, — где-то в тайниках души прятался человек заблудший, трагический…
Борис Федорович мучался, пытаясь найти проблески человечности, маленькие неуловимые черточки совестливости в этом мрачном типе. Короче, пытался оправдать его. Именно оправдать. И наконец нашлась такая сцена — сцена казни Вожака.
Борис Федорович достигал в ней настоящих высот трагедии, — его Вожак был жалок и величествен одновременно. После приговора Борис Федорович — Вожак снимал фуражку, смотрел долго на заходящее солнце, в глазах появлялись слезы, он произносил хрипло, с тоской:
— Да здравствует революция!..
И действительно становилось жалко этого большого, запутавшегося в своей философии человека…
…Да, горько сознавать, что так рано ушел от нас Борис Андреев, ушел, не создав, не осуществив своих заветных мечтаний! Какую бы радость он доставил людям, сыграв и Тараса Бульбу, и Фальстафа, и Степного короля Лира… Но и то, что он нам оставил, — прекрасно…
С его уходом кончилась целая эпоха нашего кино, завершила свой путь блестящая триада: Алейников — Бернес — Андреев…
Да, судьба улыбнулась мне в тот день, когда я встретился с Борисом Федоровичем Андреевым.
Это было счастливое время.
Картина «Ночной звонок» была поставлена по одноименному рассказу Федора Кнорре, опубликованному когда-то в журнале «Юность». Рассказ хорош, но объяснить успех фильма одной лишь добротностью драматургической основы было бы неверно. Главная причина удачи экранизации В. Квачадзе мне видится в выборе актеров.
Говорят: «актер — это роль». Между тем бывают случаи, когда роль перерастает рамки сюжета, обретает неожиданно широкие нравственные и художественные горизонты благодаря таланту, мастерству актера. Перед нами такой случай. Именно об исполнении Марецкой и Андреева стоит прежде всего говорить, рассматривая телефильм «Ночной звонок».
Итак, Борис Андреев — Лаврентий Квашнин (нарушим правила галантности — с его появления в кадре начинается фильм, и он почти не сходит с экрана). На протяжении семи частей фильма его участие в действии состоит преимущественно в том, что он бросает отрывистые реплики, с угрюмой задумчивостью сидит в машине, приехав к матери, выступает с застольными тостами… Выходит — резонер? Вовсе нет. Квашнин из породы так называемых «деловых мужиков», человек с трудным, отнюдь не «золотым» характером. Он знает, чего хочет от жизни, умеет добиваться своей цели. Присмотревшись к Квашнину, мы увидим внутренне напряженную, сосредоточенную личность. Чрезвычайно к месту оказались поэтому знаменитая властность и неодолимая крутость андреевских интонаций, беспокойная грузность его богатырской фигуры. Только порой мы замечаем, что властность оборачивается неуверенностью и смятением, а за крутостью просвечивают раздражение и усталость. Персонаж Андреева подкупает неоднокрасочностью и непрямолинейностью. Квашнин показан Андреевым на срезе кризисного состояния души, в момент мучительного и неведомого в своем исходе процесса переоценки жизненных ценностей и ориентиров. Словно начал он улавливать разницу между подлинными и мнимыми ценностями своего бытия. Актер пристально и беспощадно анализирует душевные качества своего героя и вместе с тем намечает возможности преображения его натуры.
А на экране происходит следующее.
Поздно ночью в квартире крупного работника треста Квашнина раздается звонок: родной брат с далекой сибирской новостройки сообщает, что получил телеграмму о смерти матери, которую называет, как это часто бывает, бабушкой. Спросонья Квашнин сперва не может взять в толк, о какой бабушке идет речь, пока через минуту не осознает — тяжело и растерянно — что брат получил телеграмму о смерти матери.
На следующее утро после коротких препирательств за семейным столом Квашнин вместе с женой (М. Стриженова) и сыном Митей (А. Вилькин) отправляется в деревню на похороны. По дороге, пока сын ведет машину, Квашнин, обмениваясь с ним и с женой случайными и злыми репликами, приходит в состояние смутной тревоги. Оно не исчезнет и после того, как вдруг выяснится, что мать жива и телеграмма — результат почтовой ошибки. Разумеется, гости не подают вида, чем вызван их приезд, и всячески стараются показаться внимательными, заботливыми, послушными детьми, приглашают мать вернуться в городскую квартиру, откуда она сбежала несколько лет назад, не выдержав ощущения собственной ненужности. Младшая пара — Митя и его жена Владя (В. Малявина), с которой он развелся, после встречи и разговора с бабушкой понимают, что их развод был ошибкой pi что связывающие их чувства еще живы. На следующее утро гости уезжают, оставив довольную неожиданным визитом (хотя и давно обо всем догадавшуюся) мать и будучи весьма недовольными собой и друг другом.
По чисто фабульному строю «Ночной звонок» — антиобывательская сатира. В основе этого телефильма, как и в основе многих произведений «обличительного жанра», лежит казус. На сей раз — печальная и ироническая странность нелепого случая, причудливыми отблесками осветившего поведение действующих лиц и создавшего характеристику и их прошлого, и самого момента действия.
Но многоплановость, многогранность персонажей картины преодолевает пороги условности. Осмеяние мещанской «этики» входит как тема в фильм, но не занимает в нем первенствующее, ведущее место. Сверхзадачей «Ночного звонка» становится обнаружение человеческой истинности и активный поиск истины самим человеком, главным героем повествования.
В этой связи важны и значительны перспективы образа Квашнина, к ним особенно внимателен Борис Андреев. Кульминация его роли приходится на эпизод застольного торжества в избе матери. Сначала Квашнин привычно разыгрывает великодушного семейного владыку. Поняв, что эти потуги бессмысленны — рядом мать, и она, только она, сухонькая, скромная, царит, не притязая на власть, в доме, как и в жизни, естественно хозяйничая за столом среди нежданного многолюдья, — Квашнин испытывает острое чувство стыда, заметно стушевывается и уже не трубным басом, а растроганно и покаянно нашептывает родительнице: «Все сделаем, что ты хочешь, говори, что хочешь, я все сделаю…» Затем растроганность Лаврентия достигает высшей точки, и он, глыбой поднявшись над рюмками и тарелками, предлагает выпить за здоровье матери. Надо видеть, как обыгрывает этот жест Борис Андреев, какую паузу он делает после слов: «Мать у меня — простая крестьянка», — до судорожного глотка, что обрывает его нескладный и щемяще сердечный тост.
Надо видеть, какое в эту минуту лицо у актера, — ведь в это мгновение Андреев резким движением врывается во внутренний мир героя. Подобных мгновений будет еще немало до конца фильма, и недаром после заключительных кадров остается ощущение, что горестный и мудрый урок, который преподали ему несколько дней жизни в деревне у матери, вряд ли пройдет для него бесследно.
Удивительно, что как будто походя произносимая фраза о «сложной жизни» благодаря высокому мастерству Бориса Андреева превращается из тривиальной реплики в глубокое, психологически нюансированное объяснение и человеческих слабостей, и человеческих возможностей героя. Иной актер мог бы просто подать эту фразу достоверно, естественно, и «современная манера» вести диалог не осталась бы внакладе. Не то у Андреева. Он говорит, пожалуй, чересчур грамотно, с театральной, а не кинематографической отработанностью звука и тона речи. Дважды по-разному произносит банальные слова о сложности жизни Квашнин — Андреев. И каждый раз неожиданно, каждый раз с предельно индивидуальным ощущением такого емкого подтекста, что немногие произнесенные им слова воспринимаются как пространный монолог.
«Сложная, очень сложная жизнь, мама», — говорит он в первый раз. Говорит смущенно, виновато, будто сетуя на собственную неуклюжесть и бестолковость. Будто оправдываясь: как же — ехал к покойнице, а мать жива-здоровехонька, и волнуется не за себя, а за него, да так, что он ребенком себя почувствовал.
В другой раз ту же фразу герой скажет так, что мы услышим сокровенное желание, медленное и яростное, словно разгорающийся огонь. Желание вырваться из гнетущего плена обывательской суеты. Желание осмыслить пережитое и сиюминутное. Осмыслить, чтобы найти выход, повернуть колесо судьбы на дорогу, достойную материнского сочувствия.
Повторяю: все это слышится в одной-единственной фразе и тревожит, как разыгравшаяся трагедия, и убеждает, как действие, и вселяет в зрителя надежду, которую ощутил в себе герой.
Мать Лаврентия Квашнина играет Вера Марецкая. Внешний рисунок героини в фильме иной, чем в рассказе. Кнорре пишет о высокой старухе, с гордой осанкой и округлыми, размеренными движениями. Героиня Марецкой совсем не такая: невысокая, чуть сутуловатая, полная ласковой суетливости и застенчивой доброты. Судя по сюжету, был у актрисы соблазн сыграть сельскую праведницу, она счастливо избежала трафаретного и мало интересного пути. Мать Квашнина — своеобразная фигура, в ее характере нет следов деревенской простоватости, нет скрытой или заметной приниженности, рожденной трудностями и одиночеством, хотя прожила она — по всему видно — жизнь долгую и тяжелую, прошла через голод, холод, войны, нужду, привыкла, не рае считывая на помощь, перебарывать свои беды и поддерживать в горе других, тех, кто рядом, — недаром соседи постоянно ходят к ней за советом. Оставшись без мужа с двумя малышами на руках, она воспитала сыновей, дала им образование, конечно же, не думая об ответной благодарности. То, что «квашнинский» клан прикатил на ее похороны, она поняла сразу, но смолчала, дети для нее всегда дети, и даже их жалкие ошибки, их отдаленность и торопливую любезность она понимает и принимает как неизбежную часть своего бытия. Главное, что рядом — люди, что она не одна, что пусть ненадолго, а вот собрались они все вместе за одним столом. Марецкая точно и тонко акцентирует доминанту характера своей героини — душевную широту. В том, как говорит, ходит, смотрит актриса, нет ничего от профессиональной виртуозности. Марецкая все делает уверенно, четко и поразительно естественно: никакой умиленности, никаких сантиментов.
Вот она оглядывает сына. Во взгляде — восхищение, любовь, тоска, разочарование: родная кровь, плоть от плоти, этот большой и важный человек — он ее, ее сын, но уж больно на короткий срок приехал, ведь уедет завтра и нескоро заявится вновь, жизнь у него своя.
Героиня Марецкой связывает всех участников действия в тугой узел человеческого содружества. И пусть после щедрого на внезапную и безоглядную доверчивость вечера наступит трезвое, холодноватое, привычно деловое утро, — озаренность, дарованная присутствием близкого человека, не исчезнет из памяти Квашниных.
И не жалости требует актриса к своей героине. Жалость преходяща. Она требует уважения и действенного соучастия. Она добивается от зрителя единения с волнующей судьбой матери. Вот она провожает молодую пару, прощается быстро, не давая уезжающим сказать лишние слова и надавать бесполезных обещаний; бабушка чувствует, что молодые — ее последняя надежда, и боится спугнуть эту надежду просьбами и наставлениями. Финал картины и финал роли Марецкая трактует как невысказанный призыв к людской неразрывности. Именно поэтому она избегает морализирования и форсировки.
Пристальное внимание неспешного телевизионного повествования открыло нам две судьбы, два многосложных достоверных характера. В распоряжении Марецкой и Андреева находился серьезный и подробный драматургический материал, камера строго и обстоятельно фиксировала каждую деталь их поведения в кадре. В худшем положении оказались остальные исполнители, по сути дела вынужденные лишь подыгрывать двум солистам. Не случайно возникает впечатление концертности, бенефисности фильма, при несомненной обедненности второго плана и атмосферы действия. Эпизодические персонажи картины однозначны и одноцветны. В. Квачадзе, режиссер наблюдательный, чуткий к правде бытовых подробностей, понапрасну слишком часто прячется за кадр, оставляя его полностью в распоряжении солирующих актеров. Принципиальный смысл «Ночного звонка» — утверждение доброй надежды, доброго чувства — раскрывается доходчиво и убедительно лишь в той мере, какой заполнен высоким искусством двух выдающихся исполнителей. Пустующий «фон» вызывает чувство некоторой досады, неудовлетворенности.
И в заключение — когда победы и просчеты «Ночного звонка» оговорены — хочется обратить внимание на одно обстоятельство. Великолепие актерского бенефиса Марецкой и Андреева на телеэкране важно для нас и само по себе, и как доказательство способности телефильма войти в каждый дом, в каждую семью с рассказом, который прямо или косвенно заденет каждого зрителя. Небанальное художественное решение житейской темы порадует нac и в театре, и в кинозале. Но только у телевизора, в атмосфере семьи, придет вдобавок к пресловутому эффекту присутствия иллюзия соучастия, придет и не исчезнет, а будет бередить и согревать душу.
Экран погас. Закончился просмотр актерских проб. В маленьком зале воцарилось молчание, в котором таилась напряженности. Принимавшая пробы редакция Центрального телевидения знали, что из двух актеров, претендующих на главную роль в фильма «Назначаешься внучкой» — роль Деда, — я предпочитал Бориса Андреева. Мнение редакции было противоположным.
Молчание нарушила женщина, занимавшая высокий пост. Она была современной, деловой и волевой — и достаточно выразительно демонстрировала эти качества.
— Мы находим, что роль Деда должен играть актер Н. — Интонация ее была категоричной и безапелляционной.
Решение было высказано; мне стало ясно: ни доказательства, ни тем более просьбы успеха иметь не будут.
Но я хотел снимать Андреева.
И, прервав новую паузу, пошел ва-банк.
— Что ж, я согласен… — Я пожал плечами.
Атмосфера разрядилась. Послышались облегченные вздохи. появились улыбки.
— Ну, вот и прекрасно, — волевая женщина встала, заканчивая разговор, — вот и договорились.
— Простите, я не закончил фразы, — с нарочитым равнодушием перебил я, — я сказал, что согласен. Но при условии — что одновременно вам придется менять и режиссера.
На этот раз пауза была еще более длительной и напряженной.
— Затрудняюсь дать сразу окончательный ответ. Я оставлю вас на несколько минут. — Волевая женщина покинула зал.
Минут пятнадцать мы занимались светской беседой, лишенной смысла.
— Мы решили пойти вам навстречу, — сказала волевая женщина холодным тоном, — пусть будет так…
Итак, бой был выигран.
Но предстоял другой: честно говоря, я побаивался Бориса Андреева.
Он был уже всенародно известным актером, когда меня еще не пускали на вечерние сеансы; сыграл десятки блистательных ролей; обладал всеми титулами и регалиями. Да и шлейф легенд о необузданном нраве, о громких конфликтах и рискованных выходках не способствовал спокойствию.
Сюрпризы начались с первых дней работы.
— Слушай, — низким своим голосом сказал Борис Федорович, — роль мне нравится, моя роль. А потому — все предложения буду посылать… куда подальше. Сниматься буду только у тебя. Поэтому обо мне не беспокойся. Сколько нужно, когда нужно и где нужно — я с тобой.
Для меня, привыкшего, что крупный актер (а зачастую и далеко не крупный) отдает съемкам гомеопатические дозы времени, заставляет ждать себя неделями, прилетает на два-три дня (а то и меньше), это явилось ошеломляющим подарком.
Так и было. Как в экспедиции, в Ростове, так и на съемках в павильонах в Свердловске Бэ-Эф, как вскоре стали называть его в группе, ни разу не попросил об отъезде, ни разу не возмутился простойными днями, обычными для кино неувязками. Легко установивший товарищеский контакт с группой, Бэ-Эф появлялся на студии ровно в назначенное время — даже если съемка задерживалась и машины за ним еще не посылали. Он шел в гримерную или пристраивался в уголке декорации, разворачивал свою тетрадь, где по его собственному методу была переписана вся роль, с различными, одному ему понятными пометками, условными знаками.
Он был всегда готов к съемкам — даже в тех случаях, когда по бесчисленным киношным причинам эпизод вдруг заменялся другим, — ибо снимался не в эпизодах, предоставляя режиссеру монтировать их, а делал роль — продуманную, неоднократно прорепетированную в гостиничном номере, ставшую его вторым существованием.
Он приходил на съемочную площадку Дедом: внешне простоватым, даже грубым, умело подлаживающимся к врагу — и вдруг проявляющим мудрость и сметку, глубокую чуткость и нежность к своей юной напарнице.
Он был необычен. Ему было присуще свойство, меня иногда поражающее: он играл с каким-то огромным усилением — в мимике, в голосе, в жесте, утрированно артикулируя, вращая глазами; у любого актера это было бы неестественным, наигранным, фальшивым — у Бэ-Эф в результате все получалось удивительно достоверным, не вызывающим сомнений, работающим на образ.
Очевидно, его крупная фигура, большое скульптурно вылепленное лицо требовали именно такой усиленной выразительности, соответствующей интенсивности, мощи его внутренней жизни.
Борис Федорович не знал капризов, не щадил себя. Один из эпизодов сценария предусматривал съемку под дождем. Излишне говорить, что по «законам кино» съемка эта происходила осенью. Две пожарные машины низвергали потоки холодной воды в достаточно ветреный, суровый день. Кадр за кадром, дубль за дублем часами снимался Бэ-Эф, лишь сменяя насквозь мокрую одежду. Предварительно артист поговорил с девушками-костюмершами, с их помощью изготовил из пленки несколько полотенец. Ни тени усталости, ни намека на жалобу. А как легко бросал он в кульбит свое стодвадцатикилограммовое тело! И снова — много дублей, на этот раз в духоте павильона, на жестком, деревянном полу. И снова ни единого возражения, ни малейшего сомнения в необходимости тяжелейшего кадра (впоследствии даже не вошедшего в картину). А ведь у него болели ноги, он трудно ходил…
Борис Федорович был удивительно тактичен. Он почти никогда не вмешивался в ход съемок. Но незаметно и зорко наблюдал за ними. Лишь иногда — видя, например, как я жестко добивался от молодого исполнителя нужного мне результата, — он вдруг тихонько говорил:
— Старик, а ведь ты его на штамп тянешь… Ты попробуй, чтоб он свое выдал… А уж там поправишь…
И он был прав. Удивительно естественный сам, он чутко улавливал фальшь в других — секретов актерской профессии для него не существовало.
В другой раз — в связи с какой-то накладкой — я не смог сдержать себя, взорвался, долго не мог успокоиться.
— Это ты напрасно… — подошел Борис Федорович, — зря себя тратишь… Ты свои эмоции, темперамент для дела береги, чтоб в картину. А это все… — Он уничижительно махнул рукой.
Он видел главное и все подчинял ему.
Помню — когда между нами уже установились дружеские и доверительные отношения — раз вечером я вошел к нему в номер. На столе лежали несколько книг, некоторые с закладками. В разговоре я взял одну-вторую в руки.
И не смог скрыть изумления. Это были научные труды по психологии, работы Павлова.
— А что, Зверополк (так шутливо переделал он мое имя), я, наверное, произвожу впечатление очень некультурного человека? — Он, как и всегда, обаятельно и чуть застенчиво улыбнулся. — Вот книгу пишу… О психологии творчества актера, о его психофизической основе…
Книга осталась неоконченной. Да и многое в кино он мог бы еще сделать — последние работы говорят о его мудрости, возросшем мастерстве большого таланта, но…
Но его долгие годы непростительно мало снимали. И он тяжело переживал эту несправедливость. А ведь Андреев обладал своим лицом, своим обаянием, своей манерой — одним словом, тем качеством актера, которое столь дорого и столь редко встречается ныне и которое называется собственной индивидуальностью; он был истинно русским актером. Не случайно он играл лишь роли русских людей — в его творческой биографии нет ни одного «иностранца» (образ злодейски обаятельного пирата Сильвера единичное исключение).
Может быть, именно эти качества и отпугивали режиссеров, ибо для бесконфликтных, бесстрастных, псевдоинтеллектуальных фильмов, естественно, больше подходили актеры, лишенные темперамента, яркости, актеры безликие, умеющие лишь неразборчиво бормотать текст «под правду», а вернее, заменявшие подлинную правду унылым правдоподобием. Слишком часто мы предпочитаем настоящему, большому актеру модную звезду, быстро и бесследно исчезающую с киногоризонта…
До окончания съемок оставались считанные дни. Неожиданно я узнал: через неделю — шестидесятилетие Бориса Федоровича. При всем желании закончить работу к этому дню мы не успевали. Но дата серьезная, не отпустить артиста я не мог, а плановые сроки подходили к концу. Положение было серьезным.
— Старик, — Бэ-Эф сам начал разговор, — мы же с тобой договаривались. Шестьдесят… Не сладкий праздник… Да и торжества большого не жду… А то и вообще не заметят… — он горько улыбнулся, — работай спокойно. Никуда я не поеду…
Этот день группа отметила по-семейному тепло. Был общий чай, старательно приготовленные уральские пироги, искренние, сердечные пожелания. Был и подарок: поскольку Борис Федорович заинтересовался в Свердловске каслинским литьем, группа преподнесла ему большого, тяжелого чугунного медведя, чем-то напоминавшего самого юбиляра. И на столе — хоть и было это за много лет до указа — не было ни капли спиртного. Все знали, что здоровье актера не позволяло ему малейшего излишества, поэтому все берегли его любя и уважая.
«Картина «Назначаешься внучкой», задуманная и сделанная как рассказ реального, живого человека — разведчицы-радистки Евдокии Мухиной — о своей боевой юности, подверглась бессмысленным, лишившим ее своеобразия переделкам». И все же в лаконичной рецензии («Известия» от 7 апреля 1976 года) прозвучали радостные для нас слова: «…кажется, трудно было сделать более удачный выбор актера на роль Деда, чем Борис Андреев. И тут дело не только в колоритности актера, так ярко воспроизводящего характер Деда, описанный в воспоминаниях Мухиной, а в мастерстве перевоплощения и в той большой правде жизни, которую привносит этот художник в картину. За его суровой ворчливостью, испытующим взглядом — особая глубина доброты, драматизм чувств израненного войной человека, на глазах которого погибли сын, близкие люди».
Незадолго перед расставанием я, не удержавшись, спросил как-то: а насколько верны легенды о его буйной молодости?
— Да было… — Бэ-Эф добродушно, с грустинкой улыбнулся, — дрался я много… Только не для того, чтобы зло причинить человеку, больно ему сделать… Нет… Я — от широты души дрался…
Пожалуй, этими двумя словами он сам определил сущность своего человеческого и актерского обаяния.
Широта души. Качество истинно русского человека. Таким он и остался в памяти нашего зрителя, нашего народа — широким, щедрым, добрым русским богатырем.
Однажды я гулял с дочкой в парке и вышел с ней на берег Днепра. Неожиданно нам открылся необъятный первозданный простор, почти не обремененный соседством города. Дочке было тогда годика три, и мы долго стояли и смотрели с ней, как стелется быстрая весенняя вода в реке, как дружно зеленеют лобастые днепровские склоны, как сверкает колокольня лавры.
— Вот видишь, — сказал я дочке, — видишь, какая красота… Придем домой — возьми краски и нарисуй.
Дочка долго молчала, рассматривая все вокруг, и я было подумал, что она старается запомнить подробности, чтобы потом похоже нарисовать. Через некоторое время она повернулась ко мне и серьезно сказала:
— Не получится.
— Почему? — спросил я.
— Листика не хватит.
Теперь я сижу перед своим листиком и боюсь того же самого: не хватит листа… И дело, конечно, не в том, что Борис Федорович был большой, с большими руками, с большой красивой головой, с могучим, сильным голосом. Дело в том человеческом даре, которым он был наделен.
Писать о нем очень трудно. Не заметил я в его облике того рекламного и эффектного, что так легко пересказать и что является расхожим штампом околокиношной журналистики.
Вспоминается другое — с каким самозабвением он, сыгравший, казалось, все мыслимые варианты судьбы «простого парня из народа», взялся за прозу А. П. Чехова. Это была его тайная любовь.
Думаю, не надо быть очень опытным кинематографистом, чтобы отличить, когда актер готовит дежурное блюдо и когда он выкладывается. Даже если нет совсем никакого опыта и отсутствует чутье, надо просто прислушаться к съемочной площадке…
Вспоминаю тишину… И только голос Бориса Федоровча…
— Яма-то эта съела тридцать пять лет жизни, и какой жизни, Никитушка! Гляжу на нее сейчас и вижу все до последней черточки, как твое лицо!..
Так говорил старый, больной трагик Блистанов, стоя на краю сцены перед провалом ночного зрительного зала, такому же бесприютному, как и он сам, театральному суфлеру Никитке…
И после команды «стоп!» тоже тишина…
И только топот ног — тяжелые шаги Блистанова, семенящая пробежка Никитки и шаги, шаги из всех углов декорации… И вот уже вся группа тяжело дышит, сгрудившись в маленькой выгородке внутри павильона. Сюда тянутся кабели, и здесь японский видеомагнитофон возвращает нам только что ушедшее мгновение. Загорается экран переносного телевизора… И снова тишина и голос Бориса Федоровича:
— Боже мой… Это ты, Никитушка? За… зачем ты здесь?
— Я здесь ночую в литерной ложе. Больше негде ночевать, только вы не говорите Алексею Фомичу. Впрочем, теперь уже все равно…
— Ты, Никитушка… Боже мой! Боже мой!.. Поздравляли… Поднесли три венка и много вещей, все в восторге были, но ни один не разбудил пьяного старика и не свез его домой. Я старик, Никитушка. Я болен. Томится слабый дух мой… Не уходи, Никитушка… Стар, немощен, помирать надо… Страшно!
Дубль докручивается до конца, маленький экран гаснет.
— Нет. Не то, — говорит Борис Федорович. — Еще раз надо бы…
Снимается еще дубль. И снова — голос в тишине:
— Страшно мне одному, некому меня приласкать, утешить, пьяного в постель уложить. Чей я? Кому я нужен? Кто меня любит? Никто меня не любит, Никитушка!
— Публика тебя любит, Вася!
— Публика? Публика ушла и спит!..
Удивительная работа — жить жизнью другого человека…
Мне кажется, особенно дорога эта чужая жизнь была для Бориса Федоровича тем, что на этот раз он рассказывал об актере, о театре, то есть о том, что знал и понимал, пожалуй, лучше всего. Напрашивается: он играл себя. Думаю, это не так. Он играл те судьбы, которые сгорели в театре, тех людей, которые не выдержали единоборства с черным провалом зрительного зала, с коварными перепадами от вершин известности до полного забвения — не выдержали единоборства со своими страхами, амбициями… Он старался выявить в Блистанове распространенную страстишку, переходящую в хроническую болезнь, — растрату души. И именно с этих позиций он вел со зрителем серьезный разговор, выходящий далеко за пределы театральных подмостков.
Удивительно стойки и живучи стереотипы восприятия.
— Почему Андреев? — спрашивали меня, узнавая, кто будет сниматься в главной роли. Другие пожимали плечами:
— Актер, конечно, прекрасный, но… Чехов и Андреев?!
На многих актерах лежит эта кара — определенная раз навсегда судьба их персонажей, какое-то внешнее, поверхностное сходство. А многие из них могли бы поразить своих поклонников неожиданными ролями, удивительными характерами, неповторимыми образами своих героев, открыть зрителю не один уголок своей души, а распахнуть ее всю… если бы не этот «пожизненный приговор». Но вот странно — именно поклонники и предпочитают чаще всего узнаваемое, привычное… И вдруг — Чехов и Андреев. Поклонники косились и недоумевали, Андреев сопел и как-то по-детски огорчался.
Когда еще не было сценария и я только садился за него, я чувствовал себя счастливым человеком. Никогда не забуду странного чувства, с которым я переписал первую фразу из томика Чехова.
Когда сценарий был утвержден и запущен в производство, я почувствовал себя не только дважды счастливым… Трудно объяснить, но я готов был пригласить сниматься всех актеров: им есть что предложить. Однако в тот момент, когда оператор-постановщик фильма Вадим Ильенко назвал имя Андреева, я понял, что еще не совсем счастлив — ведь Андреева надо было еще уговорить…
Борис Федорович позвонил поздно ночью.
— Эту роль могу сыграть только я, — сказал он.
И столько было простой, не показной уверенности, столько азарта и предвкушения работы… Стало даже страшновато — как такой сильный, могучий сыграет слабого, стоящего на самом краешке жизни перед черной ямой зрительного зала?
Позже я убедился в справедливости старой истины: только очень сильный человек может сыграть слабого.
Глядя со стороны казалось, что Борис Федорович все время живет жизнью своего персонажа. Но это только казалось, что он живет чужой жизнью. Это была работа.
И когда долго не ладилось что-то на площадке и Блистанов угрюмо плакал час-другой, ожидая команды «мотор!», я, чувствуя вину перед актером, предлагал Борису Федоровичу: мол, не перенести ли нам смену?..
— Зачем? — с недоумением спрашивал он, вытирая слезы. — Ты не торопись, а я… ничего… Только чтобы не шумели…
И, заметив мой растерянный взгляд, пояснил:
— Это моя работа… — И снова заплакал.
В тот день мы сняли очень дорогие для меня кадры: рыдающий Блистанов оплакивает свою уходящую жизнь.
— А помнишь, как я антрепренера Савойкина бил? — забормотал Блистанов, поднимая голову. — Да что говорить, бил я на своем веку многих антрепренеров, а что меньшей братии, то и не упомню. И каких антрепренеров-то бил! Таких, что и ветрам не позволяли до себя касаться! Двух знаменитых писателей бил, одного художника!
— Чего же ты, дурило, плачешь? — с недоумением спросил герой-любовник в помятом фраке, с цветком в петлице.
Блистанов всхлипнул, по-детски вытерся ладонью.
— В Херсоне лошадь кулаком убил… А вот теперь шабаш, чувствую. В Вязьму бы уехать!
Это была слабость сильного человека.
Вспоминается не только сила Бориса Федоровича, но и его усталость, обыкновенная человеческая утомленность, раздражающая его самого зависимость от возраста, болезней…
В этой связи само собой напрашивается: придумано в нашем кинематографе много… Например: если вы снимаете в фильме лошадь, медведя или козу, если у вас в кадре снимается маленький ребенок, вы можете рассчитывать, во всяком случае теоретически, на снижение нормы выработки в смену. Как известно, в съемочном периоде, когда материал еще не сложился и режиссеру особенно трудно отстаивать свою правоту, свою точку зрения, чуть ли не единственным критерием его таланта, его дальновидности, мудрости, его организаторских способностей, его перспективности является показатель в графе, обозначенной двумя буквами — «ПМ». Расшифровывается это очень просто — «полезный метраж». Это количество метров, отснятое по утвержденному режиссерскому сценарию за определенное время, например за рабочую смену. Когда снимается кино, «ПМ» превращается в страшный рок. И вот оказывается, что «ПМ» благосклонен к детям, кошкам, попугаям, он милостив к медведям, ослам, он готов пощадить парнокопытных, травоядных, живородящих, чешуйчатокрылых, — но никакого снисхождения к возрасту актера, к его заслугам у него нет. Не так уж много доброты и чуткости проявляет наше кинопроизводство к актерам, причастным к его славе. А им, записанным в Красную книгу нашего кинематографа, не так легко подняться по лестнице, сидеть под осветительными приборами, укладывать текст, стоя в темноте перед микрофоном…
И как мы ни стараемся, мы не можем измерить этих людей священным эталоном — полезным метражом. Слишком несоразмерна единица измерения, как тот листочек из альбома для рисования, в который не укладывается могучее течение Днепра, морщины днепровских склонов, бездонное небо.
Очень вредным для актеров старшего поколения становится этот полезный метраж.
Вспоминаю, как ненавидел его Борис Федорович. Особенно непривычными были для него темпы съемки телевизионного фильма.
— Меня выпустили на ринг и сказали: стой! И я стоял! — так сказал он на премьере фильма в Киеве.
Что поддерживало его силы? Любовь к Чехову? Профессиональная гордость, азарт? Резервы опыта? А может быть, и понимание того, что его неготовность, его слабина — это невыполнение плана со всеми вытекающими из этого последствиями. Последствиями для всей группы — от реквизитора до режиссера-постановщика.
И он снимался каждый день.
Иногда в выходные дни мы с оператором-постановщиком заезжали к нему в гостиницу. Приглашали за город — побродить по лесу, подышать. Борис Федорович отодвигал томик Чехова, смотрел поверх очков.
— Не могу. Работаю. — Он перебирал на столе свои записи, помешивая в стакане чай.
Второпях или по душевной небрежности мы часто смещаем акценты. И тогда получается, что выношенная роль, заработанная на ринге премьера превращается в иллюстрацию работы телевидения. Вначале была лекция об успехах и планах в создании телевизионных фильмов, об их проблемах и достижениях, перспективах и затруднениях, о специфике и проблематике, о «ПМ»… в конце — фильм, где Борис Федорович впервые предстал в облике одного из героев Чехова. А в середине — он сам, собственной персоной на сцене: исполнитель главной роли, почти ручной динозавр, приглашенный чуть ли не в последний момент на просмотр в Доме кино. Просмотр, который потом послужил поводом для отказа от премьеры. Отказа актеру в праве поделиться своим счастьем с друзьями, коллегами, со зрителем.
А публика? Так и хочется вернуться к цитате из Чехова, которая уже прозвучала в начале этих записок… Лекция о проблемах телевидения оказалась длинная, время позднее, троллейбусы в эту пору ходят не часто…
Уверен, даже если это происходит в целях развития и усовершенствования всего нашего телевидения, нельзя пользоваться нашими великими, как наглядным пособием, — не умещаются они в эти рамки, не та марка, не тот листочек…
Вот так наспех, походя опустили на плечи артиста тяжесть. Не сбросить ее и не передохнуть, а шагать и шагать…
Шагать оставалось не так уж долго…
Я вспоминаю эти прошлые события не для того, чтобы ворошить старое. Просто мне кажется, мы все должны уметь извлекать уроки из своего или чужого опыта. И если ошиблись в чем-то прежде, вовсе не обязательно повторять эти ошибки впредь.
Воспоминания о человеке — это ведь не только его милые и мудрые чудачества, которые приятно перебрать в памяти, это не только ностальгия по прошлому: это еще и взгляд на нас самих и взгляд в будущее.
Хочу вспомнить еще один эпизод. За точность слов не ручаюсь, но ручаюсь за смысл.
Разговор накануне первого съемочного дня с директором фильма.
— Борис Федорович, на какое число вам брать обратный билет?
— А когда у вас последний съемочный день?
— Десятого октября.
— Берите на одиннадцатое.
Это тоже был стиль работы. Стиль общения с ролью, с коллегами.
Скажите, что нас всех мятёт?
М. Ломоносов
В этом человеке было все: и гармония, и согласие с собой, с миром, и некий созерцательный покой, но и дисгармония, и мятежность, и неровности, и изломы мятущейся души.
Что же все-таки это было за явление — Борис Андреев? Может, и в самом деле некий загадочный метеорит, наподобие Тунгусского? Тунгусский не Тунгусский, а то, что это явление очень российское, — очевидно.
Он ходил вперевалку, чуть косолапя, большой, как домна, как печь… Говорят, глаза — зеркало души, но его глаза мало могли сказать о его сложной и неуемной душе. Через другое его надо было понимать, не через глаза.
Снималась на Одесской киностудии картина. Про море, про пароход. Кинофильм обещал быть остросюжетным — с пожаром, с паникой, с выстрелами. Андреев играл роль русского купца Грызлова — (персонаж этот, с натурой размашистой и неспокойной, в сюжете, впрочем, участвовал довольно косвенно), а я — его секретаря.
Почти все съемки проходили на пароходе, в открытом море. Плавали долго. Началась экспедиция весной, а закончилась глубокой осенью. Когда я вспоминаю эту экспедицию, в моей памяти и корабль, и Андреев как-то сразу сливаются в одно целое, хотя вместе с тем я вижу их и раздельно, то есть, с одной стороны, вижу Бориса Федоровича стоящим на палубе, как и всех других, а с другой стороны, — и сам он для меня как корабль, с палубами и трюмами, со всеми хитросплетениями мачт и стропов, — мятущийся человек-корабль.
Не будем, однако, предварять наш рассказ выводами, лучше понаблюдаем за Борисом Федоровичем как в минуты, когда скрипят и лопаются снасти, так и в те блаженные минуты равновесия, штиля, когда и гроза и ветер уже позади.
РАВНОВЕСИЕ. ШТИЛЬ. МИККИ.
«ВСЕ ОБРАЗЫ — ЛЮБИМЫЕ»
Утро. На море тихо. Гармонична, как классический стихотворный размер, линия гор в легкой розоватой дымке.
Борис Федорович стоит на палубе. Согласно и умиротворенно дышат мехи его легких.
— Какая библейская красота! — произносит он после длительной паузы.
Затем, еще раз глубоко вздохнув, медленно, вперевалочку покидает палубу. И палуба под ним подобострастно поскрипывает.
В столовой завтракает съемочная группа.
— Здравствуйте, дорогие братья и сестры! — добродушно гудит Борис Федорович, появляясь в дверях столовой.
Все приветливо отвечают ему, кроме одного — Николая Афанасьевича Крючкова.
— Ну и что? Что ты этим хотел сказать, Боба? Идея какая? — ворчит добродушно его старый друг в дальнем углу столовой.
Я сижу за одним столом с Борисом Федоровичем, ем кашу. Он смотрит на меня и нежно басит на мой счет:
— Обратите внимание, тощий и злоехидный Костька благодаря врожденному ехидству уплетает вторую порцию манной каши! Каков?
Я привык к этим замечаниям и спокойно продолжаю есть кашу.
За окном виден прогуливающийся по палубе дрессировщик со своей обезьянкой. Обезьянку зовут Микки.
Сидящая напротив меня актриса, всплеснув руками, вскрикивает:
— Смотрите, Микки!
— Очаровательнейшая в своем ехидстве обезьянка, — констатирует Борис Федорович. — Что-нибудь из ехиднейшего племени макак. Похожа на сценариста Мику Аптекаря.
— Вам нравится Микки? — закатывая глаза, спрашивает актриса.
— Просвещенные народы полагают, сударыня, что мы с вами произошли от обезьян… — уклончиво отвечает Борис Федорович.
— От Микки? — приходит в неописуемый восторг актриса.
— Нет, от тех, которые поздоровей.
Актриса машет на него платком, — дескать, какой ужас, уж лучше пускай от Микки, все не так грубо.
Некоторые принимают эту игру как застольную импровизацию, на самом-то деле, я знаю, он просто репетирует свою сцену. И слова о «просвещенных народах» придумал он сам.
— Да, Борис Федорович, сейчас бы вам в самый раз Тараса Бульбу сыграть, — пытаюсь я отвлечь его от меланхолических рассуждений. — Самая пора.
Но получается еще хуже. Борис Федорович вздыхает, сердито отодвигает в сторону так и не начатую кашу, долго трет затылок и, глядя в окно, печально заключает:
— Бульбу мне уже не сыграть! Все уже сыграно, шабаш!
За окном изо всех сил гримасничает Микки.
— Осталось одно: рожи корчить в паре с бесстыжей Микки. Хе-хе!.. Эх… Хм!.. Пст!..
Видимо, здесь ему пришла в голову какая-то озорная мысль — весь он как-то наливается ею, хочет, должно быть, высказать ее, но, вспомнив, что здесь дама, машет головой, выпуская из себя это накатившее на него смешное в виде причудливых междометий, вздохов, присвистов.
— Борис Федорович, а какой ваш самый любимый образ? — спрашивает его пожилой актер окружения, из дотошных.
— Какой?.. Х-хм… Разве я знаю?! Все они как дети. Всех их по-своему любишь, стараешься не обижать. Но, разумеется, есть и самые любимые. Лазаря Баукина люблю, Ерошку…
Он сидит и смотрит в окно на смирное, притихшее море, сам внешне спокойный, умиротворенный, а все-таки там, в глубине души, что-то непокоит его, что-то напоминает, ровно малое облачко, что возможен и шторм, очень даже не исключен.
Вот уже несколько суток подряд съемок на пароходе нет по каким-то непонятным, как это часто бывает в кино, причинам. Борис Федорович часами стоит на палубе, вздыхает, смотрит на море. Море по-прежнему спокойно.
Рядом крутится все тот же окруженец, из дотошных.
— Борис Федорович, как самочувствице?
— Что?! — спрашивает Андреев, словно очнувшись.
— Я говорю, как чувствуете себя?
— A-а… Хм, как? Как свинья на цепи. Представляете, такое вольнолюбивое животное, как свинья, — и вдруг на цепи. Это, знаете ли, очень грустно.
И говорит это искренне и даже серьезно.
И голос его при этом почему-то слегка дрожит.
НАРУШЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ. ШТОРМ.
КОВАРНЫЙ МИКА. УЧЕНИК СЕНЕКИ.
«ВСЕ ОБРАЗЫ — НЕЛЮБИМЫЕ»
И вдруг однажды все задвигалось, заскрипело, палуба качнулась и пошла ходуном. Люди шептались и трусовато смотрели туда, откуда доносился его рокочущий бас:
— Вон с корабля! Трусы и прихлебатели!!!
Потом раздавалось пение — широкое, разбойное, с шаляпинскими «профундами».
И вдруг оборвал пение.
— «Все равно против нашей Волги этот океан лужа». Что это? Какой вздор! Кто написал для меня этот текст? Мика Аптекарь? Опять Мика? Где он? Здесь, на корабле? Позовите его сюда!
Мика Аптекарь — это у Бориса Федоровича собирательный, обобщенный образ безответственного кинодраматурга, виновного во всех сценарных недостатках.
— А знает ли ваш Мика, что и я из тех самых… из волгарей? Не знает небось. Ничего, узнает!!!
Несдобровать бы, я думаю, Мике Аптекарю, окажись он в это время на пароходе. Воображение тут же нарисовало барахтающегося в морской пучине сценариста Мику.
— Мика, Мика, чертов кукиш, где твоя совесть! — гремел, как морской царь, Борис Федорович.
И вот поздней ночью слышу стук:
— Костька, открой!
Открываю. Стоит в дверях. Глаза как у ребенка, обиженные и печальные, а сам непомерно большой, раздавшийся, словно разбушевавшаяся в нем стихия расшатала, растолкала его внутренние крепления, раздвинула шпангоуты ребер, перетянула и спутала снасти… И было что-то очень трогательное, вызывающее сочувствие в его жалобных детских глазах, в его огромной незащищенной фигуре.
Большой корабль, терпящий крушение… Что с ним, почему мятется его душа?.. Почему эта клокочущая стихия угадывалась в нем еще и тогда, когда все было покойно и тихо и, казалось бы, ничто не предвещало грозы?..
Он тяжело опустился на диван и заплакал. Шумно, со всхлипами, с присвистами. Совсем как его Ерошка из «Казаков». Старый казак — сирота Ерошка.
Что мне было делать? Как утешить этот океан? И нужны ли были ему мои утешения?
Наивно попробовал свести разговор к любимым ролям, а в ответ-то и получил:
— Нет у меня любимых ролей, нет! — Откуда! Все нелюбимые!
Что это? Парадокс? А может быть, жестокое откровение?
И тогда не разгадка ли это мятущейся души?..
— Все спят, — пожаловался он, — разбежались по норкам, притаились!.. А радость-то и смысл, господа, в другом… в самораскрытии, в бесшумном и величественном парении души… в постижении пространства и времени, в постижении себя, козявки, в этом пространстве и в этом времени, и себя — человека, человека! Эх! Я часто думаю: кто я, откуда такой кипяченый?.. Наверное, от тех волжских громыхал и задир… Ох, чую я в себе, Костька, дрожжи бунтарей этих, бродят они во мне, Костька!.. И ты не смейся, я, братец ты мой, — вся Россия, вся земля наша советская, ей-ей, меня не повернешь, не своротишь, я сам кого угодно сворочу, есть еще сила, да! Я, брат, всей шкурой своей землю нашу ощущаю. Какая-нибудь дальняя деревенька, а и ей место на мне обозначено, приложишь ухо и обязательно почуешь: тикает, живет деревенька! Вот здесь, в башке моей, заводы, фабрики трудятся, на груди моей трактора стараются, пашут… Нога, скажем, — периферия, а и там какой-то заводишко-хлопотун нужное производит. Так-то вот, Костька, смекай мою аллегорию. Ты понимаешь, брат, про что я?..
Я закивал согласно.
— Врешь поди, что понимаешь! Меня, брат, все реже понимают. Вот и они, драмоделы эти, хитрованы и фарисеи, вроде Мики, хотели приручить меня, приспособить, как некое экзотическое типажное сооружение, эмблему. А ведь я не так прост, как думают некоторые. Я мыслю, черт возьми, я ученик Сенеки, да! И я докажу это!..
«Почему же — Сенеки?» — думал я смятенно, растревоженный и выбитый навалившимся на меня признанием.
— Лакировщики, клепальщики, лудильщики… Андреев не знак, не эмблема!.. Однажды во мне заговорит Сенека! И они рухнут. И Мика. Хе-хе, М-Мика!.. Я долгожитель, я дуб, мои корни — в истории земли, а кроны уходят в небо! Во мне Россия гудит’ А они? Кто? Потому и страшит меня будущее, что не знаю я. кто они и надолго ли они, хитрованы и фарисеи!
И уже ко мне:
— Послушай, а ты-то сам кто такой? Чем живешь? Нужна ясность, открытость!.. Где ваши позиции? С кем вы? Эх!.. — Он махнул рукой и жалобно попросил: — Послушай, дай закурить! А?..
— У меня нет, Борис Федорович.
— Будь другом, найди!
— Где же найдешь? Все спят…
— Да найди же, найди! Я тебе приказываю! — закричал он на меня, но тут же смягчился, объяснил: — А вообще обижаться на меня не смей! На меня нельзя обижаться, слышишь?!
Стучать в каюты было неловко — я поскребся к одному знакомому, к другому. Все спали или не хотели открывать,
Я вышел на палубу. Море по-прежнему было неспокойно. Выручил меня вахтенный матрос. Он отсыпал мне несколько сигарет. Потом появился и сам Борис Федорович.
Глядя на море, заметил тоскливо:
— Что там, а? Там, за этим мраком?.. Страшно, а?.. Эх, Костька, вырежут наши с тобой сцены, вырежут и бросят к медузам. Не работаем мы с тобой на сюжет, кончено, брат! Но Мика, Мика…
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ.
БЕРЕГ. БАЗАР. РАЧКИ.
СТИХИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ.
РАБЛЕЗИАНСТВО.
БЕРЕГ, ТВЕРДЬ, ЯЛТА…
Борис Федорович мирно глядит с палубы на ослепительно расфранченную Ялту. Я приглашаю его прогуляться по набережной. Он отвечает неохотно:
— В Ялту я не пойду… Я здесь одного нечаянно с крыши сбросил.
— Цел остался?
— Цел. У меня рука тяжелая, но и легкая.
Зато, придя в Одессу, отправляемся на знаменитый одесский рынок. Небо пасмурно, и на случай дождя я надеваю плащ.
— Косточка, — спрашивает меня Борис Федорович, настроенный благодушно, — зачем ты надел плащ?
— А вдруг дождь?
— А вдруг метеорит? — Так что ж, и ходить в каске?.. Хе-хе!.. Хм!.. Пет!..
И вот пестрый и живописный духовитый одесский рынок наваливается на нас. Ходить по базару, расспрашивать, пробовать — любимейшее занятие Бориса Федоровича. Он проплывает, покачиваясь меж рядов, как знатное торговое судно. Его узнают, его угощают.
«…Сквозь зазывания старух,
Сквозь шорох сельдереев,
Сквозь терпкий и укропный дух
Базаром шел Андреев…».
Ему охотно прощали шутки над товаром, в то время как другому никогда не простили бы этих шуток.
— Ваш мед, мамаша, я беру, — великодушно объявляет он одной торговке, аппетитно снимая пробу указательным пальцем. — Он мне нравится. Он очень похож на манную кашу.
— Скажи, любезный, — обращается он к одному грузину, — сколько нужно съесть лаврового листа, чтобы на голове вырос лавровый венок?
— Сколько скушаешь, дорогой, — не сморгнув отвечает обитатель гор.
Дух стоит над базаром пряный, ядреный. Проходим к рыбному ряду.
— Сколько стоит эта ехидна? — спрашивает он, тыча пальцем в висящую на крюке похожую на модную дамскую сумку камбалу.
Потом смотрит по сторонам и громко, словно его обокрали:
— Позвольте, а где же рачки? Знаменитые одесские рачки?
— Может быть, рачки? — уточняю я.
— Да нет, по-нашему, конечно, рачки, а по-одесски — рачки! И не спорь, Костька!
— Ах, креветки! — осеняет меня. — Ну, так бы и сказали!
— Не креветки! — сердится он. — А рачки, рачки, мой друг!
И правда, что-то не видать знаменитых одесских рачек.
«…Вздохнул, испробовал медок,
Купил халвы три пачки.
И вдруг протяжно, как гудок:
— А где же, братцы, рачки?!»
— Мамаша, куда девались рачки? — спрашивает он у бабки, торгующей таранью.
Бабка смущенно пожимает плечами.
— Господа, где рачки?! — уже почти с отчаянием вопрошает Андреев у всего базара. — Какой срам, исчезли одесские рачки!
Упреки Андреева базар воспринимает как справедливые. Базар прячет глаза, базару стыдно.
«…Примолк пристыженный базар:
Нигде не видно рачек.
«Одесса, прячь свои глаза!»
Глаза Одесса прячет».
И вот, когда уже все надежды обнаружить рачков были потеряны, когда весь базар уже готов был сгореть от стыда, из-за стоявшего на отшибе киоска чей-то голосок задавлено пропищал:
— А кто желает рачки, кто?
«…Табак, видать, твои дела!
— Кончай, отец, подначки!
И вдруг, как писк, из-за угла:
— А кто желает рачки?»
Голос этот принадлежал маленькой носатой старушке. На старушке была затрапезная шляпа с каким-то тряпичным фруктовым натюрмортом на полях. И сама она была вся скрюченная, точь-в-точь как креветка.
— Я, я желаю рачки, мамаша! — загремел Борис Федорович и чуть было не задушил старушку в своих объятиях. — Отсыпь, мамаша, отмерь со всей присущей тебе щедростью! Осчастливь!
Я осмотрелся по сторонам: весь базар, осклабившись, благодарно смотрел на старушку. Спасибо, спасибо, тетя Соня, выручила, поддержала Одессу!
«…Вздохнул, осклабился базар,
Вздохнула рыба, птица,
Вздохнула старая коза
(По паспорту девица).
Затараторили ряды:
«Спасибо тете Соне!
Она спасла нас от беды!
Поклон ее персоне!»
— Прости, Одесса, виноват!
Как говорят, «пробачте!»
Все ж убедиться был я рад,
Что не исчезли рачки!»
И если до этого момента все делали вид, что не узнают Андреева, то теперь уже отовсюду и наперебой шумели: дескать, узнали, узнали знаменитого артиста, кушайте, товарищ Андреев, рачки у тети Сони!
— Товарищ Андреев!
— Я не товарищ Андреев, я купец Грызлов!
— Чтоб я так жил, Саша с Уралмаша!
— Товарищ Андреев, вы?
— Я! — басит он спокойно, без тени самодовольства.
— Ох, сердце подсказало, шо вы! Ну прямо копия вы!
Нагруженные рачками, таранью, медом, халвой, помидорами, грушами, мы идем мимо лавок, где выставлена трикотажная и ситцевая одежда в соседстве со всякой мелочью, вплоть до булавок и дешевых запонок.
— Эх, Костька, — вздыхает Андреев, — купить бы нам сейчас с тобой по паре великолепно-небесных штанов да и податься куда глаза глядят. Дойдем до Индии, примкнем к йогам, а? На сюжет мы с тобой все равно так или иначе не работаем… В самый, стало быть, раз в Индию чесануть.
Заинтересовавшись вывешенными на палке, яко хоругвь, трусами, спрашивает:
— А на меня есть что-нибудь?.. Нет? Все на него? (Кивает на меня.) Безобразие! Вся промышленность работает на худых! Впрочем, оно и правильно. Худые показали себя в войне, и я думаю, не раз еще покажут себя худые. Как ты считаешь, Костька?
Я стою, навьюченный покупками, сгибаясь под их тяжестью, и согласно, по-верблюжьи киваю.
И вот наконец приносим всю снедь, весь этот огород к Борису Федоровичу в каюту и вываливаем на стол замечательной пирамидой — натюрмортом невообразимым. Какое-то время молча всем этим любуемся. Это ведь как щедра и обильна земля, и это ведь сколько всякого такого можно на свет сотворить! Много прекрасных и нешаблонных мыслей приходит к нам в эту минуту.
Потом Борис Федорович садится за стол, как за орган, так, чтобы все было у него под рукой, чтобы к каждой клавише был ему свободный доступ. Фламандский дух щедрости и расточительства, культ еды и плоти витает над столом и щекочет мне ноздри. Раблезианством дышат все его поры, каким-то вселенским аппетитом.
Первым делом он приступает к рачкам. О рачки, о блаженство! Сто лет здоровья и счастья тете Соне. Рачки ссыпаются на блюдо. Я откупориваю пиво. И вот он уже запустил в них свои большие пальцы… Хруст и чавканье… В комнату проникают запахи порта, моря…
«…А дома, водрузив очки,
Он ел их, как в горячке:
— Они по-нашему рачки,
А по-одесски — рачки!»
Вслед за рачками следуют какие-то паштеты, намазываемые на большие ломти хлеба.
— Как щедро накладывает он краски!.. Как пастозно, как жирно! — думаю я в каком-то тумане. — Так творил кто-то из сезаннистов… Может быть, Кончаловский или Осьмеркин… Как масло на хлеб…
«…А на столе — невпроворот!
Рдел помидор румянцем —
Стол полыхал, как натюрморт.
Написанный фламандцем!
— Вгрызайся сыне, в колбасу,
Чехвости паламиду!
Обратно, чай, не понесу
Я эту пирамиду!»
Какое-то умиление накатывает на меня, восторг перед жизнью, перед ее мощным напором и щедростью, перед ее размахом и великанскими пропорциями. Перед ее пантеизмом, перед ее языческой силой.
«— Маслята, рыжики греби.
Они всему основа!
Махнули, Костька, по грибы
В душистый лес сосновый!
Халву одесскую круша,
Не игнорируй финик!
Малинка также хороша!
В малинник, брат, в малинник!
— Малинка хороша с чайком!
— Чаек уж на приборе!
Как говорится, что при ком,
А чай всегда при Боре!..»
Не спорю, образ медведя, лакомящегося в малиннике, также посещает меня. Борис Федорович многолик, многообразен в этом процессе. То он уже не художник, не фламандец, а тихий, мечтательный пастор за органом. А то вдруг сидит, как Будда, симметричный и уравновешенный. Вот, думаю, последние могикане, самородки… уходят. Уйдет и он…
Выбрав момент затишья, передышки, спрашиваю его опять:
— И все-таки какие образы любимые, а какие пасынки? То вы сказали, что все любимые, а то вдруг — все нелюбимые! Почему так?
— Вон ты опять про что, Косточка. В обоих случаях, наверное, говорил чушь! — Потом ухмыльнулся по-доброму и сказал: — Всякая абсолютизация — чепуха! Истина — она потоньше, попричудливее. Не согласен?
— Согласен.
Он посмотрел на меня, спросил ласково:
— Ты почему не ешь, Косточка?
— Куда уж мне, с язвой-то! Я уж потом, как чай закипит, примкну.
— А ты презри ее, Костька, выше будь, слышишь, наплюй, а?
Я посмотрел на него страдальчески.
— Ну, ладно, как знаешь, — помилосердствовал он.
И снова он то впадал в восторг, то в меланхолию.
— Примыкай, Костька! — скомандовал Борис Федорович, снимая с плитки чайник.
В чаепитии Борис Федорович тоже знает толк и относится к этому ритуалу с особым тщанием, а после обильной и тяжелой пищи оно, чаепитие, звучит как некое избавление, очищение, как райский душ.
— Чуешь, Косточка, как душа-то переселяется? — спрашивает он меня, блаженно всхлебывая чаек.
— Чую… — ответствую я ему в лад, — чую, батьку!..
И самоварный чувственный дух нежно окутывает и обволакивает нас обоих.
— Эх, Косточка, — вздыхает Борис Федорович, слабея и обильно струясь потом, — вырежут нас с тобой из картины, как пить дать вырежут. Вставной мы с тобой номер, Косточка! Кабы еще на сюжет мы с тобой хоть немного работали, а то ведь и на сюжет мы с тобой ни хрена не работаем.
— Ну, вас-то не вырежут, не посмеют, — изнуренно возражаю я, допивая четвертую чашку, выпучив по-рачьи глаза и не в силах оторваться от счастья.
— Вырежут! В том-то, братец ты мой, и штука, что и меня вырежут! Отошел я, как овощ, как переспелая груша…
— Не вырежут вас…
— Вырежут, Костька, и не возражай…
Иногда я думаю, что он прошел над людьми как благодатное весеннее грозовое облако, окутал, оглушил громами по-доброму, обдал живительной влагой и ушел за горизонт, оставив после себя ощущение чуда, радостное чувство приобщения к чему-то несказанно большому и русскому, к такому же, как лес, как река, как пашня, а выглянувшее солнце обернуло эту счастливую влагу в поднимающийся от земли душистый пар, в готовность и нетерпение жить, дышать и плодоносить.
Такое было ощущение от общения с ним. Такая таилась в нем живительная сила.
Так в чем же, спросите вы, причина, загадка мятущейся души?..
Его вынесло на гребень популярности кино в середине тридцатых годов. Роли, которые он играл, отличались народностью, простотой и прямодушием. Особенно он стал популярен в фильмах предвоенных и военных лет: «Трактористы», «Большая жизнь», «Два бойца». Широта и простодушие его героев не требовали от него каких-либо психологических усилий, — герои были обаятельны и открыты. Однако уже тогда, надо полагать, роли эти вряд ли могли устраивать его сполна. Кино же все надежнее и окончательнее его в этом амплуа закрепляло. И в душе артиста, мятежной и глубокой, стал намечаться разлад между его обаятельными, но наивными ролями и ролями многослойными и драматическими, которые он еще не сыграл, но на которые был нацелен и приготовлен самой природой. Многих режиссеров, я думаю, обманывала его внешность, на первый взгляд предполагавшая в нем укоренившееся уже амплуа добряка, даже простака, которому «силы некуда девать». Недаром ведь в середине пятидесятых годов он сыграл роль Ильи Муромца, богатыря силы недюжинной.
Популярность артиста росла. В пятидесятые же годы им сыграна была роль Журбина в фильме «Большая семья». Роль замечательная. Но драматический разлад между тем, что делал и что мог, все же усиливался. Вот в это время я и встретил его на палубе «Цесаревича». Он не всегда говорил мне обо всем этом впрямую.
Но эту его драму я чувствовал постоянно. О ней отчасти и мой рассказ. Он трагически сознавал, что его могучий внутренний потенциал используется лишь частично. Он был на много голов умнее и выше своих ролей, сложнее и глубже их.
Потом уже, когда мы расстались после окончания съемок, мы встречались, увы, не так часто. Я с радостью отмечал, что Борис Федорович все больше стал играть роли сложные, неоднозначные, под стать Лазарю Баукину. Появились фильмы «Дети Ванюшина», «Ночной звонок». Потом была роль директора большого завода в телевизионном фильме «Мое дело» — характер своеобразный, глубокий. Была и драматическая роль Блистанова в фильме «Сапоги всмятку». Там, в этом фильме, словно разбудили вулкан, до сих пор мирно дремавший, такой им был обнаружен сокрушительный темперамент. Вообще в большинстве этих его последних ролей звучит уже иной Андреев, приближающийся к своей глубинной сути.
А встретил впервые я его давно. Еще задолго до фильма «День ангела».
ВЫСШИЕ КУРСЫ КИНОРЕЖИССЕРОВ В МОСКВЕ.
1965 ГОД…
Мы выходим в перерыве в небольшой и не очень освещенный коридор. В темном углу сидит кто-то очень большой и грузный. Угол этот темный сопит, вздыхает тяжело. Присматриваемся: знаменитая, почти хрестоматийная фигура. На лоб уныло надвинута устаревшего покроя мягкая большая кепка. Большое добродушное лицо его всем нам знакомо давно. С детства. Это Борис Андреев. Он сидит в углу и печально дышит. Вероятно, ждет кого-то. Смотрит равнодушно-вопросительно на нас. И издает вздохи. Сама же огромная фигура его почти неподвижна. Здесь, в этом темном коридоре, он кажется большим пароходом, заплывшим по недоразумению в тесную, не по его размерам гавань — ни повернуться, ни пошевелиться, остается только вздыхать тяжело, выпуская с шумом пары. Тесно ему, да и тоскливо отчего-то…
…Летом шестьдесят пятого Москва хоронила Петра Алейникова, артиста, составившего обаятельнейшие страницы в советском кино.
Толпа медленно спускается по широкой лестнице Дома кино на улице Воровского, несколько человек ведут под руки Бориса Федоровича. Слезы ручьями льются по его щекам. Он ничего не говорит, только плачет, хватая иногда, как большая беспомощная рыба на берегу, ртом воздух. Но вот он вдруг с силой пытается освободиться от людей, ведущих его под руки. От людей, висящих гроздьями на нем и тоже плачущих, так что непонятно, кто же кого поддерживает. Он сбрасывает их с себя, но они снова повисают на нем. И так, таким вот странным качающимся сооружением — большое дерево, а на нем другие, уцепившиеся за него деревья, поменьше, движутся вниз по лестнице за прахом своего товарища. Зрелище скорбное и запоминающееся. Словно дети шли и плакали, а самый большой ребенок — Борис Федорович.
А когда не стало и его, актерское племя дрогнуло. Умер не просто коллега — умер вожак, вобравший в себя широту и мудрость целого поколения актеров, человек, бывший долгое время их совестью, их патриархом — не по возрасту даже, но по замечательному средоточию опыта душевной мудрости, выраженного в могучем и емком русском слове — старейшина. Он был для них всем. Был даже лекарем. Я помню, как на озвучании фильма «День ангела» он «заговаривал» своему другу Ивану Федоровичу Переверзеву (которого называл шутливо Иван Перезверев) язву желудка. Это было по-своему трогательно и самим своим фактом и тем, как Борис Федорович это делал. Он бурчал что-то в темноте зала, неназойливо потирая «пациенту» область живота. И все вокруг завороженно следили за его врачеванием. Борис Федорович священнодействовал. Сам же больной кротко ждал, когда пройдет боль, покоряясь «лекарю» во всем. Я далек от мистицизма, но боль проходила. Тем более что факт психотерапии и гипноза медициной ведь еще не отменен.
…На пароходе собралось много его друзей и коллег: Крючков, Переверзев, Соболевский и многие другие. Это было принципиальное желание режиссера-постановщика Станислава Говорухина, снимавшего тогда вторую свою картину: собрать их, рыцарей кино сороковых годов, снять фильм, что называется, «актерский», воздавая дань нашим замечательным звездам, и в первую очередь Борису Федоровичу Андрееву.
И вот, когда не стало этого человека, я часто вспоминаю его традиционную шутливую перепалку с Николаем Афанасьевичем Крючковым. Я представляю себе его осиротевшего друга Никафо, уже без шутейности и добродушного ехидства задающего свой традиционный вопрос из дальнего угла столовой: «Ну и что, Боба? Что ты этим хотел сказать, идея какая?» А идея у Бориса Андреева была замечательная — постичь людей, в душу свою широкую их впустить и там отечески обогреть.
Еще во ВГИКе (а было это в начале пятидесятых) наш мастер по кинодраматургии Евгений Иосифович Габрилович пытался привить нам, своим студентам, вкус к записным книжкам.
— Не надейтесь на память, — говорил он. — Память — штука ненадежная. Сами события она, быть может, и сохранит, да и то со временем трансформирует, изменит, скособочит их. А уж детали, живые черточки так сотрет, что от них ничего и не останется.
Под нажимом мастера многие из нас завели тогда записные книжки. Кто из-под палки, а кто и с желанием. Записывали какие-то случаи, подслушанные разговоры, меткие словечки и фразы — словом, все, что, как думалось, когда-то сможет пригодиться.
Кто-то из моих товарищей и по сей день ведет эти своеобразные дневники. У кого-то это стало привычкой. Завидую им. Я же постепенно потерял к ежедневным записям интерес, веря в то, что в нужное время на помощь памяти придет фантазия.
Последняя моя записная книжка, очень скупая, страницы которой испещрены, скорее уж, назывными фразами (их и расшифруешь-то не сразу!), относится к 1964–1965 годам, ко времени, когда мы с Вадимом Ильенко ставили на Киностудии имени Довженко фильм «Над нами Южный Крест». Главную роль — летчика Федосеенко — играл у нас Борис Федорович Андреев.
Быть может, здесь уместно сказать, почему я занялся тогда кинорежиссурой, будучи выпускником сценарного факультета. Пройдя институтский курс в мастерской Е. Габриловича и И. Вайсфельда, мы узнали цену сюжету, характеру, диалогу, в меру способностей понимали, что такое драматургия. И все же… все же было еще кинопроизводство, у которого свои жесткие законы, диктуемые скупой сметой, сжатыми сроками, минимумом экспедиций, ограниченным метражом и многим-многим другим. Киноиндустрия. Не освоив ее законы, трудно стать профессиональным кинодраматургом.
В этом плане нам очень повезло: Борис Федорович Андреев на протяжении всего производства фильма щедро делился с нами своим практическим опытом и не раз уберегал нас от неудач.
Однако по порядку..
Перебирая страницы своей последней записной книжки, я пытаюсь воскресить в памяти те теперь уже далекие дни…
Поначалу мы предложили роль Федосеенко Сергею Владимировичу Лукьянову. Он прочитал сценарий, роль ему понравилась, но он вынужден был отказаться — из-за занятости на «Ленфильме». Однако увидев огорчение на наших лицах, Сергей Владимирович внезапно предложил:
— Братцы! Да ведь это роль для Бориса Андреева. Да-да! Вы обратитесь к нему, мне кажется, эта роль стопроцентно ляжет ему на душу.
И Лукьянов тут же позвонил Борису Федоровичу. Положив трубку, сказал нам:
— Езжайте к Андрееву. Он ждет вас.
Взвесив сценарий на руку, Борис Федорович со смешинкой в глазу сказал:
— И сценарий тонкий… и сами молодые… Ну, да ничего. Молодость — это тот недостаток, который со временем проходит.
Потом на протяжении двух недель я звонил Борису Федоровичу, и каждый раз он уклонялся от ответа.
— Читаю, — говорил он. — Вы уж не подгоняйте меня. Я очень медленно читаю. И медленно думаю. Сумею натянуть на себя вашего летчика, будем работать. Нет — извините.
Он сам позвонил мне и сказал, что готов приехать на пробы.
— Да что вы, Борис Федорович! И съемочная группа и дирекция студии уже утвердили вашу кандидатуру на эту роль, — поторопился сказать я.
— Я очень благодарен всем вам за доверие. Но пробы нужны мне.
В один из летних дней он появился на студии — большой, угловатый, но совсем не шумный, даже наоборот, тихий, застенчивый. Помню, он забивался в угол кабинета и с интересом наблюдал за предсъемочной сутолокой. Мог сидеть так часами, не проронив ни слова. Покорно шел в гримерную и по нескольку часов искал для себя грим.
Немало дней мы потратили на одежду. Мне сейчас кажется, что Борис Федорович извлек со студийных костюмерных складов все, что можно было извлечь. Мерил. Отбрасывал. Снова мерил. И снова отбрасывал. На чем-то останавливался. Ходил по студии в выбранной им одежде. И, наконец, браковал и ее. Особенно долго искал обувь. Отверг сапоги, ботинки, домашние тапки. Почему-то долго настаивал на бурках — белых бурках, прошитых коричневой кожей. Но таких бурок не было. Кажется, никаких бурок не было.
— Ну что вам, в самом деле, дались эту бурки? — не выдержав спросил как-то я.
— Ему удобно в них. Они теплые и мягкие… У него ведь обмороженные ноги.
— Откуда вы это взяли?
— Сценарий надо читать, — с шутливым вызовом говорил он мне, автору сценария. — Он совершил вынужденную посадку в тундре. И несколько суток добирался до базы. Так ведь?
— Ну, так.
— Вот тогда и ноги поморозил…
Про «вынужденную» в сценарии было, про обмороженные ноги — нет. Это уже сам Борис Федорович оснащал биографию своего героя.
Наконец достали бурки. Кто-то принес свои, из дома. Он принялся их разнашивать, старить…
То же было и с одеждой. Ее приносили со складов выстиранной, отглаженной, отутюженной. И он заставлял костюмеров заглаживать рубцы, мять ее — «оживлять», что ли.
— Выйди в студийный коридор, — словно оправдываясь, говорил Андреев. — Или лучше во двор. Вот идут люди. Эти вот — в своей одежде. А вон те, они нафталином пахнут, — ряженые. Их только что одели. Вот так все это и будет выглядеть на экране. А ведь с таких, казалось бы, мелочей начинается доверие к образу, характеру.
Вспоминаю эту въедливость, дотошность и думаю, что это тоже принадлежность высокого профессионализма.
Я уже говорил, Борис Федорович любил присутствовать на съемке в те дни, когда сам в работе не был занят. Придет на съемочную площадку, забьется в уголок между декорациями и наблюдает. Особенно часто он делал это на первых порах, — быть может, присматривался к нам, молодым режиссерам.
Не доверяя никому, Борис Федорович на своем экземпляре режиссерского сценария делал различные относящиеся к фильму и его герою пометки, в том числе и такие, как, скажем, в чем он был одет в той или иной сцене, был ли расстегнут ворот рубахи и тому подобное. А ведь эту работу обязаны делать ассистенты художника по костюмам.
Одно короткое воспоминание. Снимали мы в Керчи продолжение сцены, которую начали еще в Киеве. Наш герой (его играл киевский школьник Андрей Веселовский) выходит из комнаты во двор: комнату снимали в Киеве, а двор, спустя три месяца, — в Керчи.
И вот во время небольшой паузы Борис Федорович отзывает меня в сторонку и говорит:
— Извини, но, по-моему, Андрей выходил из комнаты в красной рубашке, а сейчас на нем белая. Проверь, пожалуйста, чтобы не пришлось переснимать.
Проверили. Борис Федорович был прав. Оказывается, там, в Киеве, он почти машинально сделал пометку в сценарии. Нам это сэкономило несколько тысяч рублей.
Порой мы поражались: Борис Федорович на многие месяцы запоминал свою позу в конце той или иной сцены, поворот головы, держал в голове весь текст, даже оговорки, если таковые случались, — словом, мельчайшие детали, которые в дальнейшем имели значение при монтаже и тонировке фильма.
Высочайший профессионализм.
С первых съемочных дней, с первых репетиций мы с Борисом Федоровичем пытались добиться не просто бытовой естественности звучания диалогов, но и некоторой виртуозности, что ли. Или, как называл это Борис Федорович, куража. Как люди разговаривают в жизни? Перебивая друг друга, наступая на окончания фраз, пропуская слова, допуская логические прорывы, повторяя слова и даже фразы, желая привлечь внимание к какой-то мысли. То есть диалог, записанный на бумаге, выглядит совсем иначе, нежели произнесенный вслух. С Борисом Федоровичем мы на репетициях и пытались добиться вот этого естественного, бытового звучания диалога.
А потом начинался следующий, с моей точки зрения странный, этап работы. Репетируя, Борис Федорович все убыстрял и убыстрял ее ритм. На первых порах у нас из-за этого дело доходило до небольших конфликтов. Я с отчаянием говорил:
— Все пропало. Все, чего с таким трудом добивались, пропало. Это уже не диалог, а какая-то детская считалка.
— Экран рассудит, — начинал сердиться и Борис Федорович.
— Я уже вижу, что будет на экране. Скороговорка. «Клара у Карла украла кораллы», — ехидничал я.
— Хорошо. Сделаем два варианта, — примирительно предлагал Борис Федорович.
Делали два варианта. В картину шел тот, убыстренный. Он-то и оказывался нормальным.
Вот тогда я понял, что экранное время выглядит совсем по-иному, нежели время в жизни. Позже об этом кинематографическом парадоксе я прочитал в лекциях М. И. Ромма по кинорежиссуре. А тогда, в 1964 году, этот урок режиссуры я получил у Бориса Федоровича Андреева. Впрочем, не только этот…
Зима. Съемочная группа выехала в экспедицию в Подмосковье, где нам предстояло снять эпизод схватки Федосеенко с волками. Снимать должны были на зоологической базе киностудии «Центрнаучфильм» (тогда «Моснаучфильм»), в Петушках Владимирской области.
А эпизод был такой: после вынужденной посадки Федосеенко пытается пробраться к людям. Уже которые сутки бредет по тундре. Его преследует стая волков. Волки выжидают, когда человек потеряет силы… Летчик отстреливается от волков, кончаются патроны, и он вступает в схватку с матерым хищником…
С большим трудом мы добыли в Киевском зоопарке по каким-то причинам выбракованного волка и с помощью нескольких камер сняли этот эпизод, причем сняли с разных точек и в разных ракурсах.
Во время съемок на зообазе я отметил про себя, что Борис Федорович здесь стал более молчалив, более замкнут. Справился о его здоровье — нет, все в порядке.
После завершения съемок в Петушках, как-то вечером, когда мы остались одни и гоняли чаи, Борис Федорович вдруг сказал:
— А знаешь, у фильма не будет успеха.
— Почему вы так решили? Вы ведь видели пока не весь материал, а уж делаете такой поспешный вывод…
— Материал, снятый в Петушках, войдет в картину? Вы ведь не откажетесь от эпизода схватки с волками?
— Нет, конечно.
— Не будет успеха… не будет… — упрямо повторил Борис Федорович. И затем изложил, почему он так думает…
Когда в художественном фильме герой умирает от выстрела или под колесами поезда, прыгает в пропасть или тонет в море, — зритель знает, что это лицедейство. Происходит как бы некий уговор создателей фильма со зрителями: мы вам с предельной точностью, с максимальной приближенностью к жизни поведаем некую житейскую историю. Зритель принимает условие и с определенным вниманием следит за происходящим. Если достоверность повествования нарушается, он может несколько расконцентрировать свое внимание. И если это нарушение не резкое, то и расконцентрация будет легкая, почти не влияющая на восприятие фильма в целом. Это — как сон, который бывает то более глубоким, то менее.
Но вот во имя предельной достоверности создатели фильма подменяют лицедейство подлинной жизнью. Либо это куски жизни, снятые скрытой камерой, либо, как в нашем случае, настоящая смерть волка…
Искусству трудно соперничать с подлинной жизнью по части достоверности. Кадры, снятые скрытой камерой, всегда выбиваются из ткани повествования. Они бьют по глазам, вызывают шок. В результате — расконцентрация зрительского внимания. Зритель выходит из состояния сопереживания. А ведь это беда для создателя фильма, ибо он-то стремился к обратному.
Еще в большей степени это относится к кадрам, где рядом с лицедейством соседствует подлинная смерть. Последние десятилетия включением таких натуралистических кадров в художественную ткань повествования начали грешить многие создатели фильмов. Причем убивают животных лицедеи на глазах у зрителей.
Что кино — это театр в наиболее приближенной к жизни обстановке, знают даже дошкольники. А тут вдруг не в научно-популярном или документальном, а в художественном кино показывают, как вонзают в грудь животного нож или копье, как хлещет кровь, как животное агонизирует… Какое уж тут сопереживание вашим выдуманным героям, если зритель на длительное время просто оглушен этой жестокой сценой. И чтобы вновь вернуть его внимание к происходящему на экране, к сопереживанию вашим героям, потребуется немало творческих усилий создателей фильма.
За смысл этих размышлений Бориса Федоровича Андреева ручаюсь. В записной книжке по этому поводу всего лишь две строчки: «О смерти в жизни и лицедействе. Несовместимо… Расконцентрация».
Кстати, это ли не тема для серьезного научного исследования, которого я, как мне кажется, до сих пор не встречал.
И еще одна запись: «Два Б. Ф. и крестьянский вопрос».
Вспоминаю. Снимаем в Киеве, в павильонах. И я и Борис Федорович живем в гостинице «Украина». Вместе ездим утром на студию, вместе возвращаемся. Наверное, о чем-то говорим, о чем-то спорим — время все стерло.
Но вот однажды встречаю в гостинице своего земляка и знакомого — заместителя председателя Херсонского облисполкома Бориса Федоровича Беньковского. Знакомлю Бориса Федоровича с Борисом Федоровичем. Оба в восторге от совпадения имен и отчеств, от херсонской тирании и от десятилитрового бочонка «Аксамита Украины», привезенного Беньковским. Они оккупировали мой номер, вероятно потому, что был он в самом низу, в полуподвале, близко от выхода на улицу, и сутки ровно просидели за вином и беседой.
Насколько я знаю, Борис Федорович Андреев был человек городской. Но как же он знал крестьянские заботы того времени! Об этом свидетельствовали вопросы, которые он задавал Беньковскому. А спрашивал он о садах, восстанавливают ли их крестьяне, не возникла ли заинтересованность у колхозника вновь завести на подворье корову, об урожаях в южных степях, о поливе и засухах… Они много в тот день говорили о колхозах, о том, что либо несовершенна сама форма такого хозяйничанья на земле, либо что-то недодумано в их экономической структуре. Чем еще объяснить, что крестьянин, испокон веку рвавшийся к своему наделу, к своему клочку земли, получив ее из рук Советской власти в виде колхозов, вдруг охладел к ней, его дети и внуки стали покидать село, мигрировать в город и даже в леса, леспромхозы. Парадокс истории: то зажиточного крестьянина насильственно отрывали от земли и высылали в леса, на разработки, но прошло время — и уже крестьянин сам, добровольно стал покидать ее, уезжать туда же, на лесоразработки. Значит, не удовлетворяет его труд на земле.
Я не стану приводить этот длинный спор-разговор, хотя, кажется мне, я хорошо его запомнил. Запомнил потому, что было это в шестьдесят четвертом году, когда все эти вопросы — о сложностях нашей недавней истории, о сложностях нашей жизни — задавали себе многие. И не получали на них ответа…
Запомнил я этот разговор еще и потому, что увидел совершенно иного Бориса Федоровича Андреева, непривычного, мыслящего глубоко и современно.
Помню его манеру спорить. Он молча выслушивал оппонента, не вступая в пререкания, а затем, помедлив немного, словно бы давая оппоненту остыть, тихо говорил:
— Да-да, все верно… почти. А если точнее, то почти все неверно…
И неторопливо, весомо, аргументированно доказывал свою мысль. И очень четко.
И вообще был он человеком четким, даже, я бы сказал, пунктуальным. И в словах и в поступках, делах.
В связи с тем, что я тут уже упомянул о бочонке «Аксамита Украины», — не скрою, иногда это случалось. Может быть, и не так редко, как хотелось бы. Но не помню случая, чтобы Борис Федорович пришел на съемки с помятым лицом или невыученным текстом — словом, не готовым к съемке. Не было такого. Ни разу не было за год нашей совместной работы. И никто из моих коллег не мог припомнить такого.
Борис Федорович очень любил юмор, меткое слово, сам был веселым человеком и… не любил анекдоты. Когда на площадке в перерывах между съемками начиналась травля анекдотов, он как-то незаметненько отходил в сторону, присаживался на каком-нибудь ящике и, посасывая пустой мундштук, щурясь, глядел вокруг. Когда его звали в компанию, отмалчивался и не шел. Если его все же блокировали в компании, внимательно слушал анекдоты, но я никогда не видел, чтобы он смеялся. В лучшем случае слегка, едва заметно улыбнется…
Чем больше я узнавал Бориса Федоровича, тем глубже убеждался, что он совершенно, ну ни чуточки не походил на тех героев ранних, да и не очень ранних своих фильмов — ни на Назара Думу, ни на Яшу Бармака… И всю жизнь он пытался поломать этот навязанный ему кинематографом стереотип. Иногда это удавалось. Но об этом не мне судить, пусть об этом скажут критики.
Борис Федорович очень хотел сыграть в фильме под условным названием «Усы». Он сам придумал сценарий. И даже пытался его записать. Несколько раз он читал мне отдельные, довольно смешные сцены.
Усы — мастер производственного обучения, которому «фэзэушники» дали такую кличку за длинные, холеные усы. Вероятно, это был реально существовавший в жизни персонаж, может быть, даже мастер, обучавший в юности Бориса Федоровича. Он выглядел эдаким Макаренко, воспитывавшим трудных подростков. Почти каждая сцена строилась на том, что, делая добро для ребят, он вступал в конфликт с официальной педагогикой.
Образ мастера у Бориса Федоровича время от времени трансформировался. Скажем, однажды Борис Федорович рассказал мне историю о старшине милиции, которому было поручено найти угнанный мотоцикл. Усы (читатель, конечно, догадывался, что это он и был старшиной милиции) находит похитителей, мальчишек-«фэзэушников». и разбитый мотоцикл. Естественно, он не выдает ребят, а помогает им восстановить мотоцикл и возвращает его законному владельцу.
И все же больше всего Борису Федоровичу нравился тот герой — мастер Усы, который вместе с ребятами находил на свалке изуродованный кузов автобуса. Пройдя семь кругов административного ада, они чинили автобус, кажется, пытались зарегистрировать его в ГАИ, но это им не удавалось. Наконец, плюнув на все хлопоты, ребята вместе с мастером уезжали путешествовать. С песней. Навстречу солнцу и дождям…
Хорошая история. История о том, как добрый, отзывчивый человек сплотил в коллективе разных (благополучных и не очень) ребят, как оторвал их от улицы, привил им уважение к труду, научил их мечтать.
…Мне очень жаль, что не сбылась мечта Бориса Федоровича сыграть и короля Лира. А ведь это была не просто мечта. Он всерьез готовился к этой работе, мог часами рассказывать о ней — и было это так интересно. Во всяком случае, это был бы еще один король Лир, не похожий на других, но достойно украсивший бы Шекспириану. Жаль, что в кинематографе он был востребованным лишь на пятьдесят процентов. Он был рассчитан на большее…
За глаза мы его звали Б. Ф. (БэФэ), лень было выговаривать: Борис Федорович. Да он и сам любил сокращения. Николая Афанасьевича Крючкова, например, называл Никафо.
До того, как мы с ним встретились, я представлял: простой, простоватый, как те персонажи, которых он играет… грубый, прямой, правду-матку лепит в глаза… все-таки из народа, из самой гущи. Как потом выяснилось — из Саратова, с Волги. Я тоже вырос на Волге, тут мы с ним сошлись, — я ужасно любил слушать о том, как они пацанвой ордовали по волжским берегам, как, закопав трусишки в песок, плавали на острова, на плоты, плывущие вниз по течению.
Потом, когда сошлись довольно близко, многое подтвердилось. Действительно прямой — говорит то, что думает. Грубоватый, я бы сказал, нарочито грубоватый — это немножко маска, чтобы не разрушать имидж, созданный у зрителей. Простой. В самом деле, простой, как земля, которая его родила, как народ, из которого он вышел. Но не простоватый, упаси боже!
Он был весьма сложный и хитро устроенный человек. Всегда неожиданный — никогда нельзя угадать, что он скажет или ответит. И еще поражало: о чем ни заговоришь — слышал, знает. Хоть в общих чертах, но знает, имеет собственное представление, свое к этому отношение. Любил читать, слушать новых людей. Говорил: «Мало будешь знать, скоро состаришься». И при этом был простодушен, как ребенок. Эта детскость в нем — а когда мы познакомились, ему было пятьдесят два — особенно трогала.
Как-то наш пароход стоял в Ялте. Спускаюсь по трапу на берег, вижу — Б. Ф. стоит у борта, сорит в воду шелухой от семечек. В руках целлофановый мешок. Он был человеком масштаба. Если семечки — то мешком, чтобы всех угощать, одаривать налево и направо.
— Идемте погуляем, — говорю ему.
— Не-ет, — гудит он своим низким басом, — я в этот город ни ногой…
— Почему? — Поднимаюсь, встаю рядом, знаю уже, что сейчас расскажет что-то интересное. Запускаю руку в мешок с семечками.
— Понимаешь, снимали мы тут «Илью Муромца». Выпили как-то с одним милиционером. Он мне: «Вот ты здоровый, вон какой… Илью Муромца играешь… А я тебя поборю. Давай бороться! Кто кого в воду скинет, тот и победил…» Начали мы возиться. Он верткий оказался, сильный. Все-таки я его сбросил в море. Там глубоко было, еле вытащили…
— А дальше?
— А дальше — фельетон в газете: «Илья Муромец распоясался… Управы на этого Андреева нет… Милицию в воду кидает…» Обижен я на этот город. Ну их всех…
Вон ведь как! И редактора того уже нет, и прыткий журналист в столицу перебрался, а он все помнит обиду и действительно ни ногой в этот город, сколько мы ни стояли в Ялте. Позже, правда, пришлось ступить на вражескую землю. Тут, в Ялте, снимался «Остров сокровищ», и ему досталась роль Сильвера. Роль прекрасная, ему она пришлась по душе, но, по-моему, не удалась до конца. Сильвер, как его ни рассматривай, все-таки злодей. Но злодейского, злого в Андрееве не было ни капли. И как он ни пыжился, ни делал страшные глаза, все равно не верилось, что вот этот человек на экране способен убить, зарезать мальчишку. У андреевского Сильвера добрый, доверчивый взгляд. Он не страшен. Отсюда — не страшно за молодого героя. Андреевскую натуру спрятать не удалось. Режиссер совершил ошибку, пригласив на роль злодея Бориса Андреева.
Это не значит, конечно, что злого должен играть только злой, а доброго — добрый. Но тут же настолько очевидный случай, настолько бросается в глаза доброта, доверчивость, беззащитность, что никто из режиссеров и не пытался перекрасить его в другой цвет. А тот, кто пытался, терпел неудачу.
Большой ребенок. Образ банальный, но он как нельзя больше подходит к Борису Андрееву. Даже если он хотел кого-то очень обидеть, то обижал как-то по-детски, не жестоко. Скорее, готов был обидеть себя, чтобы досадить обидчику.
Был у него в молодости закадычный друг — Петр Мартынович Алейников. Буйная была молодость, что говорить. Оба до одури были любимы народом, сумасшедшие поклонники сделали и свое черное дело — со всех сторон тянулись к любимцам рюмки с водкой. Выпивали, что греха таить. Иной раз — крепко, по-русски.
— Составляет на них милиционер протокол… — Это рассказывает уже Николай Афанасьевич Крючков. Андреев сидит тут же, рядом, заваривает чай — дело происходит у него в каюте.
Он хмурится, не любит эти разговоры — ну что старое поминать… Ну дак вот, составляет он протокол, а Борька стоит над ним, насупился, губу нижнюю выпятил — ну прямо малое дитя. И ворчит: «Пиши, пиши, чернильная душа. А чернил не станет, чем будешь писать?» Взял да и выпил всю чернильницу до дна…
Кстати, когда Петр Алейников умер, Андреев совершил поступок — в чисто андреевском духе, — который на нас, студентов ВГИКа, произвел большое впечатление. Потом, когда познакомились, я спросил его — оказалось, правда.
Алейников, безусловно наипопулярнейший артист тридцатых — пятидесятых годов, как ни странно, не имел ни почетного звания, ни иных регалий. По бюрократическому, неизвестно каким мерзавцем выдуманному статусу он должен был быть похоронен на непрестижном московском кладбище. И вот когда Андреев позвонил в самые «верха», не помню уж куда, и спросил:
— Меня, когда помру, вы по какому разряду будете хоронить?
— Ну что вы, Борис Федорович, что за мысли…
— Да знаю я, знаю, что у вас и на это разряды есть. Дак по какому?
— По первому, конечно, — усмехнулись на другом конце провода.
— Это где ж?
— На Новодевичьем.
— Отдайте мое место Петьке Алейникову.
И Петра Мартыновича похоронили на Новодевичьем кладбище. Когда же умер сам Борис Федорович, на Новодевичье не пускали уже ни покойников, ни посетителей. Его похоронили на Ваганьковском. Получилось, что он в самом деле отдал свое место на кладбище дорогому другу.
Вот с таким человеком свела меня моя счастливая звезда.
Осенью 1967 года я снимал свою вторую картину. Это была экранизация небольшого рассказа Бориса Житкова, фильм назывался «День ангела».
Все действие житковского рассказа разворачивается на большом пассажирском пароходе, плывущем из Америки в Россию. Нам повезло: удалось заполучить в полное свое распоряжение пассажирский лайнер, бывший флагман Черноморского пароходства — «Крым».
«Крым» плавал последние деньки. По Черному морю уже ходили новые, только что спущенные со стапелей суда, и старый, отслуживший положенный срок пароход вскоре должны были распилить и сдать на металлолом. А пока на нем проходили практику курсанты Средней мореходки. Курсантам же все равно было, где практиковаться — в каком порту, на каких широтах, и получилось, что мы могли командовать пароходом как хотели. Звонили, например, в Батуми и спрашивали:
— Солнце у вас есть?
— Есть, — отвечали веселые грузины. — Жара, как летом.
— Причал дадите?
— Для вас, генацвале…
И наш корабль ложился курсом на юго-восток. Относились к нам в любом порту хорошо. Еще бы — на борту любимые артисты кино: Андреев, Крючков, Переверзев, Петр Соболевский — звезда еще немого кино, Женя Жариков, Наташа Фатеева… Старое название парохода мы закрасили — старинной вязью на черном борту было выведено: «Цесаревичъ».
Просыпались мы от петушиного крика. О петухе стоит рассказать особо. Однажды в Батуми, где вместо обещанного грузинами солнца зарядил на неделю дождь — и такой же мрак повис над всем Кавказским и Крымским побережьем, — в группе воцарилось уныние. В съемочных группах всегда так: если нет ежедневной тяжелой работы, нет и настоящего веселья. В одно из воскресений Леша Чардынин, наш оператор, надел «болонью» — тогда эти плащи были в большой моде — и ушел на базар. Вернулся он без «болоньи», мокрый насквозь, но зато на плече у него сидел роскошный петух. Смотреть на петуха сбежался весь пароход. Такого петуха никто из нас, российских жителей, никогда не видел. Огромный, царственно важный, с живым, осмысленным взглядом. Все цвета радуги были в его оперении. Ярко-красный гребень, рыжий бок, малахитовая шея, павлиний хвост с черными, фиолетовыми и зелеными перьями. Обедал он теперь только на столе, за которым сидели могикане — Крючков, Андреев. Расхаживал по белой крахмальной скатерти, клевал кашу из тарелки Никафо. Поклюет кашки, потычет горбатым клювом в масло, опять — кашки и снова — в масло. Вот такой умный был петух — сразу сообразил, что кашу маслом не испортишь.
Петух быстро поправил нам настроение. А там и солнце пробилось. И снова пошли съемки. Поселили петуха в темной каптерке нашей буфетчицы. И каждое утро, где бы мы ни были — в порту или в открытом море, — мы просыпались от радостного, жизнеутверждающего петушиного крика.
Ранним утром, когда бы ты ни встал, на палубе можно встретить Никафо. Спит Николай Афанасьевич мало. До поздней ночи сидит в каюте Андреева — там у нас была главная треп-квартира, — рассказывает свои байки, ближе к полуночи уже не рассказывает, а только слушает и, наконец, когда у него начинают слипаться глаза, встает и тихонько пробирается к выходу. Бормочет:
— Не расплескать бы сон по дороге…
С первым лучом солнца он уже на ногах, на палубе. Если дело происходит в открытом море, вокруг него — матросы. Они его обожают. Особенно любят послушать, как травит Никафо. Травля эта идет весь день, все свободное от съемок время. Рассказывать, по-морскому — травить, Никафо большой мастер. Но рассказы эти чисто мужские, не для дам. И не для печати, конечно.
Если же судно стоит у причала, Никафо ловит рыбу. Более страстного рыбака нет во всем советском кинематографе. Как-то признался мне:
— Знаешь, как я теперь сценарий выбираю? Если, например, сценарий начинается так: «По оживленной городской улице…» — я говорю себе: «Нет, это мне не подходит». А если сценарий начинается со слов: «На берегу пруда…» — я говорю: «О! Это как раз по мне!»
Никафо умудряется ловить рыбу всюду: в море, в речке, в озере, в пруду, в бассейне; на червяка, на хлеб, на перышко, на голый крючок, сетью, спиннингом, руками… В кино он непререкаемый авторитет по части рыбалки, президент «Академии рыболовецких наук». В эту академию, в ноябре 1967 года, был принят и Борис Федорович. Наши пароходные рыбаки Крючков, Живаго, Уральский, Валька-подшкипер, второй после Никафо авторитет по части рыбалки, долго готовили его к этому событию, инструктировали, показывали крючки, самодуры, говорили про повадки ставриды — как раз шли по осени косяки ставриды. Утром, затемно еще, на моторном боте уехали в море. Вернулся Андреев счастливый, уставший — шесть ведер ставриды наловили они в тот день. Вечером решили отметить событие — прием в академию нового члена. Капа, буфетчица, сварила уху, сели за сверкающий чистыми приборами стол в кают-компании — ждали только Вальку-подшкипера, он что-то запаздывал. Но вот появился и подшкипер. Разлили по тарелкам дымящуюся уху, подшкипер, как хозяин рыбалки, первый снял пробу… Да вдруг этой ложкой — по тарелке с ухой! Брызги — на скатерть… Ну и на Капу — шестнадцатиэтажным…
Оказалось, Капа от желания угодить своим любимцам, и особенно обожаемому ею Никафо, бросила в уже готовую уху ложку сливочного масла. Чтобы пошли по поверхности золотые кружочки… А известно, что сливочное масло перебивает любой запах. Масло в уху — как ложка дегтя в бочку меда. Исчезает аромат моря, специй, свежей, только что пойманной рыбы…
Но вернемся к Никафо. Наловит Николай Афанасьевич рыбы, так надо еще поймать кого-то, чтобы съел ее. К Андрееву с утра не подходи. Мрачен. Стоит у борта, смотрит в море — одолевают мысли о бренности существования. Переверзев еще спит.
Сам Никафо ничего не ест — все время жалуется на желудок. Стоит Никафо у дверей своей каютки, где у него в углу на плитке что-то скворчит, ворочается, дышит, и ловит едока. Поймал меня, тянет за руку:
— Ты только попробуй, ты ж такой рыбы никогда не ел. Я ее в сметане с лучком потушил. Ну…
Готовит Никафо действительно — язык проглотишь. Но на судне кормят четыре раза в день, а Никафо — рыбак неутомимый, всю выловленную им рыбу всем пароходом не съесть…
Ах, как мы жили тогда! Другой такой экспедиции уж точно никогда не будет. И какие же мы были дураки, что не записывали за Андреевым! Мы с Костей Ершовым, киевским актером и режиссером, уже тогда понимали, что совершаем преступление, допуская улетать по ветру замечательным мыслям и прекрасным остротам. Впрочем, Костя что-то там царапал в записной книжке… Но Костя умер. А я ленился.
Все казалось, что жизнь вечна, и Андреев вечен, и что не с одним еще таким Андреевым сведет судьба. А сейчас выяснилось, что интересных-то людей, по-настоящему интересных, таких как Андреев или, скажем, Высоцкий, которые встретились на твоем пути, по пальцам можно пересчитать. Одной руки, пожалуй, хватит.
И вот теперь многое, очень многое, почти все забылось.
Говорил Андреев мало. Но если уж он что-то произносил, то это бывало услышано всеми. И не потому, что громко (говорил он действительно громко — тяжелым, рокочущим басом), а потому, что весомо. Пустых слов не произносил. И длинных периодов не переносил. Выражал свою мысль в самой лаконичной форме. И вообще был склонен к афористическому мышлению. Но об этом я расскажу отдельно.
И острил он первоклассно. Всегда неожиданно, по-андреевски.
Идет по палубе мимо массовки. Мрачный, даже страшный — для тех, кто его не знает. Вдруг навис над девчушкой из массовки. А девчушка попалась совсем маленького росточка. Рявкает на нее:
— Ты что бунтуешь? — Девчушка перепуганно смотрит на него. — Расти отказываешься!
Потрепал обалдевшую от страха девчонку по голове, угостил семечками:
— Подсолнух — это как раз то, что надо для роста. Видала, в какую высоту он вымахивает…
Как-то собрались они с Костей Ершовым на Привоз, знаменитый одесский базар. Борис Федорович, надо заметить, очень любил базары. Всякие. Любил покупать всякую всячину. Прицениваться, торговаться, пробовать. Так вот. Андреев уже спустился, ждет Костю.
Появляется Костя. В плаще.
— Косточка, ты зачем плащ надел?
— А если дождь, Борис Федорович…
— А если метеорит? Всю жизнь в каске ходить…
В нашем фильме Андреев исполнял роль купца Грызлова. Одного из пассажиров парохода «Цесаревичъ». В сценарии роль была прописана плохо. Русский купец, эдакая широкая душа, — истертый, как рубль, образ. Вообще говоря, этой роли в сценарии могло и не быть, сюжет от этого бы много не потерял. Андреева в эти годы снимали мало, поэтому он согласился, поставив режиссеру, то есть мне, условие: роль по ходу работы надо будет переделать.
В итоге он не оставил ни одной реплики, написанной сценаристом.
— Да не мог так русский человек выразиться, — говорил он мне. — Слишком интеллигентно, уныло… Он же из народа, Грызлов твой, с Волги. И я с Волги. Давай я так скажу…
И придумывал свое, андреевское.
Придумывал он мастерски. Реплики были остроумные и всегда очень неожиданные.
Вот во время одного из дублей маленькая обезьянка спрыгивает с плеча дамы из массовки и взбегает по трапу на крыло капитанского мостика. Андреев тут же кидает:
— Видите, сударыня, в наше время каждая мартышка к рулю управления лезет.
Правда, потом эта реплика очень не понравилась редакторам. Пришлось ее вырезать.
Я с ним боролся за каждую сценарную реплику — предчувствовал, что возникнут неприятности со сценаристом. Сценарист-то был маститый. Но он так и не произнес ни одной.
— Ну ты пойми, — убеждал он меня, — не будет он себя так вести, Грызлов-то наш. Он человек масштаба! Он ведь не только о себе, он и о ми-ро-зда-ни-и думает. Для него есть Бог и есть людишки.
Шторм, пожар, людишки кричат, волнуются, кто барахло спасает, кто шкуру свою поганую, а он молчит, смотрит и презирает всех. Он даже себе такую присказку придумал — вроде как бы жизненное кредо. Вот послушай, какой стишок наш Грызлов сочинил:
«Безумно море, дни безумны…
Всегда спокойны люди умны».
Вот именно так: не «умные», что было бы гораздо грамотнее (что бы, казалось, стоило зарифмовать «умные — безумные»), а «умны». В таком повороте и юмора больше и авторство купца больше угадывается.
Короче, посмотрел М. Блейман (а он и был автором экранизации) наш фильм, где все до точки было сделано по сценарию, кроме андреевской роли, и… снял свою фамилию с титров.
Обиделся.
Конечно, если судить строго, от андреевского вмешательства роль абсолютно хорошей не стала — для этого в изначальной драматургии не было никаких предпосылок. Но она стала яркой, полнокровной и уж отнюдь не банальной: тут что ни слово, что ни жест — новы и достаточно оригинальны. Небось сделай то же самое с этой ролью Качалов, сценарист бы смолчал, а то и порадовался. Но тут… Как? Какой-то Андреев… лапоть деревенский… с его небось тремя классами образования… посмел его, Блеймана, редактировать!
К нему многие так относились. А он был, повторяю, широко и глубоко образованным и по-настоящему, без «штучек» интеллигентным человеком.
Как-то я попросил его представить мою картину «Робинзон Крузо» на премьере в Доме кино. Он стал отнекиваться:
— Не люблю я эту публику. Не поймут они меня. — Помолчал, добавил: — И я их никогда не пойму.
Он оказался прав. Говорил он, как всегда, с блеском — образно, художественно, чуть-чуть, может быть, литературно, с философскими, свойственными ему обобщениями. Слушали его невнимательно и снисходительно, что, на мой взгляд, хуже, чем если бы не слушали вовсе. «A-а, Андреев… — читалось в глазах. — Вчерашний день…». Как-то незаметно для Бориса Федоровича — а разве можно это заметить? — кинематограф заполнился людьми новыми — нигилистами, ниспровергателями, натурами «тонко организованными» и «непонятными», для которых Андреев был не то чтобы анахронизм, а как бы человек не из их круга.
Мне вот пришло в голову такое сравнение.
В те шестидесятые годы высотные здания, построенные на закате сталинской эпохи, воспринимались как верх безвкусицы.
Даже хрущевская пятиэтажка смотрелась элегантнее. Что уж говорить о многоэтажных коробках Нового Арбата. В глазах некоторой части публики они были пределом изящества.
Но прошли годы и все стало на свои места. Сегодня московский пейзаж немыслим без «высоток». И чем больше вырастало вокруг них всякого дерьма, тем очевиднее становилась их целесообразность, тем более радовали они глаз своей добротностью, надежностью, ясностью архитектурной мысли.
Мне кажется, Андреев был таким несколько неуклюжим, но основательным высотным зданием среди модных железобетонных стандартных коробок.
Так что не было у Блеймана оснований обижаться на Андреева, тем более что Андреев обладал уникальным литературным даром. Жаль, что дар этот проявился так поздно. Впрочем, раньше он и не мог обнаружиться. Жанр, в котором он к концу жизни стал пробовать себя, требовал большого жизненного опыта, глубокого философского осмысления жизни.
Как-то я звоню ему.
— Приезжай, — говорит, — хочу тебе кое-что почитать.
Я знал, что он сочиняет — иногда что-то записывал на листочках. Однажды читал свой рассказ со сцены — какие-то картинки из детства и отрочества. Слушалось это очень хорошо.
Я уж собрался было ехать, но тут вспомнил: Володя Высоцкий просил познакомить. Я ему про Андреева рассказывал много, Володя смеялся — нравился ему Андреев в моих рассказах. Позвонил я Высоцкому, говорю: «Еду к Андрееву, хочешь, поедем вместе…»
Думаю, дай перезвоню Б. Ф., предупрежу, что буду не один. В ответ услышал совершенно неожиданное:
— Да ну его… к бабушке!
— Почему??
— Да, знаешь… Он, наверное, пьет…
Я стал стыдить его:
— Давно ли сам стал трезвенником?
Потом только понял, что он просто стеснялся нового человека, да еще знаменитого поэта. В этот день он собирался открыть мне свою тайну.
Наконец Б. Ф. пробурчал что-то вроде согласия.
Приехали мы на Большую Бронную, где Б. Ф. жил последние свои годы. Володе, чтобы понравиться человеку, — много времени не надо было.
Через пять минут они влюбились друг в друга, через десять — перестали меня замечать, так много оказалось у них нужного сказать друг другу. Короче, Андреев перестал стесняться Высоцкого, повел нас на кухню, заварил чай в большой эмалированной кружке — она с ним была во всех его походах и достал толстую, как Библия, кожаную тетрадь.
— Эту тетрадь подарил мне мой друг, цирковой артист… Сказал: «Борька, ты у нас человек остроумный, напиши в ней что-нибудь смешное…» И я решил написать… афористический роман.
Мы с Володей переглянулись. Афористический роман! Роман из одних афоризмов. Жанр под силу лишь древним. А ну, как будет не смешно. Обидится автор…
— «Лев открыл пасть, — начал читать Андреев, — укротитель засунул в нее голову, и все зрители вдруг увидели, насколько дикое животное умнее и великодушнее человека».
Мы с Володей аж взвизгнули от смеха. Андреев благодарно покосился на нас, прочел следующую фразу:
— «Древние греки никогда и не думали, что они будут древними греками».
Читал он, не педалируя ни одно слово, ровно, даже скучно — словно выполнял неприятную обязанность.
— «Разливая пол-литра на троих, дядя Вася невольно вынужден был изучить дроби».
Через несколько минут мы уже не смеялись, а только стонали да корчились от душивших нас спазм.
— Вы, ребята, особенно не распространяйтесь, — сказал растроганный нашей реакцией Б. Ф. — Шутка, острота — она знаете как… Пошла гулять — и уж хрен докажешь, что это ты придумал…
Мы так и поступили — не распространялись, не запомнили, не записали.
Потом я клял себя за глупое благородство — иногда на встречах со зрителями процитировать бы его остроты, да они забылись.
Но, слава богу, не пропали. Я пришел к Андрееву-младшему, сыну Бориса Федоровича, он показал мне десятки записных книжек, заполненных афоризмами, — последние годы он полностью посвятил себя этому увлечению.
Показал мне Андреев-младший и ту кожаную тетрадь, с которой все началось. Я полистал ее — что же он нам тогда читал? Может быть, это?
«Я гулял по зоопарку, и животные нехотя разглядывали меня».
Или вот это:
«Корабль скрылся за горизонтом, а я стоял на берегу, все еще не в силах покинуть его палубу».
Это, ко всему прочему, и очень андреевские фразы. Сразу встает за ними живой Борис Федорович — да, он умел взглянуть на мир в совершенно неожиданном ракурсе.
«Настало время засолки огурцов, и Диогена стали выдворять из бочки».
«Бродяга Байкал переехал» — отраднейшее историческое событие, послужившее причиной радостного застолья для множества поколений русского народа».
«Мозговые извилины созданы для того, чтобы мысль не проскакивала по прямой».
А вот знакомые персонажи — Б. Ф. их презирал всей душой и определял кратко и образно:
«Подлец с программным управлением».
«Душа, оскудевшая в персональных условиях».
«Великий страдал отложением солей своего величия».
«Он страдал умно и расчетливо».
«Укушенный зубом мудрости».
Какая бездна юмора была в этом человеке. «Мир без шутки и фантазии — да разве это мир?» — говорил он.
«Попав на крючок, не потешай рыбаков плясками».
” Пегасы сначала брыкались, но вскоре привыкли к силосу и вот теперь уже стали воспевать его».
«В отличие от тыквы — голова человека в потемках не дозревает».
Как не похожи его философские формулы на те несносные нравоучения, которые, по выражению Марка Твена, «помахивают своим закрученным хвостиком в конце каждого произведения».
«Природа покрывается порой ядовитыми пятнами отвращения к нам».
«Талант без мужества — высшее горе художника».
«Творческих мук нет. Есть муки иссякнувшего творчества».
Афоризмы Бориса Андреева, его тайна, пока еще не открытая широкому читателю, — главное дело его жизни. Дело это оборвалось в самом начале. Но и того, что успелось, — много, очень много.
И глубоко убежден, что это большое событие в нашей литературе.
Смерть Андреева прошла незаметно для нашего искусства.
Газеты я тогда не читал: это был 1982 год, еще при жизни маршала Брежнева, — противно было тогда открывать газету. И вот спустя месяц, в случайном разговоре узнаю: Андреев умер. Вскоре ушла за ним и его жена — очаровательная, жизнерадостная Галина Васильевна. Помню, он рассказывал, как познакомился с ней:
— Едем мы с Петькой Алейниковым в троллейбусе. Не помню уж, о чем зашел спор, только он мне говорит: «Ну кто за тебя, лаптя деревенского, пойдет? Посмотри не себя…» А я ему: «Вот назло тебе женюсь. Завтра же женюсь». — «Это на ком же?» — «А вот первая девушка, которая войдет в троллейбус, будет моей женой». — «Ха-ха!» Остановка. Входит компания — ребята и девушки, все с коньками. Одна мне приглянулась — чернобровая, кровь с молоком… Кое-как познакомился, навязался провожать. А отец у нее оказался — комиссар. Комиссар милиции! Как узнал: «Кто? Андреев! Этот пропойца! Да никогда в жизни!»
И в этом ребяческом поступке — весь Андреев.
Они с Галиной Васильевной жили счастливо и умерли почти в один день.
В начале 1981 года редакция «Недели» решила пригласить за свой «круглый стол» группу знаменитых мастеров советского кинематографа: Марину Ладынину, Тамару Макарову, Лидию Смирнову, Людмилу Целиковскую, Бориса Андреева, Михаила Жарова, Николая Крючкова и Бориса Чиркова. Артистов любимых, киногерои которых воспитывали целые поколения наших соотечественников. Разговор о творчестве получился «за круглым столом» живым и оптимистичным. Выпало из общего тона лишь короткое словесное столкновение между одной из актрис и Борисом Андреевым.
— Все мы, артисты, большие друзья, — говорила актриса, обводя плавным жестом присутствовавших. — Питаем друг к ДРУгу самые добрые и искренние чувства, каждая наша встреча — большой праздник для любого из нас…
— Да брось ты! — вдруг проворчал Борис Федорович Андреев. — «Каждая наша встреча»… Мы сегодня впервые за два десятка лет все сразу собрались. И, как показывает реальная действительность, не очень-то рвемся друг к другу встречаться. А ты — «праздник, чувства»!..
Собратья по искусству по-доброму отреагировали на эту тираду: дескать, всегда ты, Борис Федорович, правду-матку в глаза режешь, и в самом деле мало мы уделяем внимания старым сотоварищам по актерскому цеху; но здесь такая мажорная получается встреча, удобно ли вносить в нее столь критическую нотку?..
— Удобно! — сказал Андреев. — Правду сказать всегда удобно! Ну а если им, — он кивнул на нас, репортеров, записывавших высказывания гостей редакции, — покажется «неудобно», они быстро вычеркнут, у них не заржавеет…
Он вдруг засмеялся и обратился к нам:
— Можете для красивости написать: Андреев потому не рвется встречаться с давними партнерами и друзьями, что они каждый — очень сильная личность. Оставляют чересчур глубокий отпечаток в моей душе, и я начинаю невольно им подражать, а во время съемок сие не рекомендуется!
Когда встреча завершилась, мы попросили Бориса Федоровича чуть задержаться. «Скажите, Борис Федорович, — на самом то деле почему редко встречаются люди, которые в нашем зрительском понимании просто родные, чья неразрывная связь скреп лена десятилетиями совместной работы?»
— Раньше встречались, — вздохнул Андреев. — А в послед нее время даже почти не перезваниваемся… Суеты много!
Он досадливо махнул рукой.
Мы давно хотели пригласить его быть гостем «13-й страницы» «Недели». Но Борису Федоровичу предложение не понравилось.
— А, еще одно интервью! «Каковы ваши дальнейшие творческие планы? Какую свою роль вы считаете любимой?» Неинтересно.
Мы огорчились; тогда после некоторой паузы Борис Федорович сказал:
— Давайте найдем золотую середину. Приходите ко мне домой. Я тут недалеко живу, на Бронной. Приходите просто так, не интервью брать, а потолковать. Может, я вам кое-что покажу любопытное. Звоните. Но предупреждаю: пить будем только чай или минеральную воду. «Этого дела» (он обозначил большим пальцем и мизинцем воображаемую емкость, при масштабах его ладони — литровую) не будет, и с собой не приносить!
Через несколько дней мы с коллегой Леонидом Корниловым позвонили Борису Федоровичу.
— Во, как раз вовремя! — оживленно сказал он. — А я цыплят «табака» жарю! Давайте, ноги в руки — и сюда!
Он встретил нас в переднике с цветочками, раскрасневшийся. Усадил за стол, а сам принес с кухни огромную сковороду с пышущими жареными цыплятами.
— Не-е-ет! — заявил Борис Федорович, завидев выложенный мной на стол блокнот. — «Номер не удалси», интервью не будет. Не обедали еще? Вот и славно.
Между прочим, мы спросили, в чем же видит он суету, мешающую встретиться старым соратникам — актерам.
— Кругом суета, — ответил Борис Федорович. — Когда встречаться-то, на это же время жалко. Кому-то в Доме кино надо показаться лишний раз, о себе напомнить. Кто-то кого-то куда-то устраивает. Кто-то в заграничные пределы навострил лыжи… Всюду же необходимо успеть, застолбиться, отметиться: «Ах, вернисаж!» «Вы уж, конечно, были на выставке «Париж — Москва»?»… Где уж тут сесть запросто с товарищем молодости, поговорить от души, старое вспомнить, пошутить и посмеяться… Нет, хочется быть «в вихре вальса», «в светской жизни», не отстать! Потому и выходят картины, которые никого за живое не задевают.
Эпизод за эпизодом фальшивые, смотришь — и словно кислый лимон сосешь… Ну, вот вы, к примеру. Уже не скажешь, что очень молодые люди, так? Скажите, как вы воспринимаете радостную весть?
— Радуемся.
— Понятно, но как радуетесь? Колесом ходите? Прыгаете и кричите, руками размахиваете? Нет. Иной раз просто стоите ошеломленные, все внутри переживаете. Или идете к кому-то, кто поймет вашу радость. Ведь так? Я много раз наблюдал в жизни, как воспринималась взрослыми, бывалыми людьми радостная весть. Даже наши солдаты в сорок пятом, в мае, у рейхстага, стали палить из всех стволов, а потом обнимались, по спине и плечам хлопали, кто вприсядку пошел, а кто и заплакал… Одного сильного взгляда крупным планом хватит, чтобы передать всю гамму чувств. А вот в одном современном фильме, так сказать передовой шеренги нынешней творческой элиты, взрослые и крепко понюхавшие пороха люди, узнав о победе, устраивают кучу-малу, бегут куда-то с диким хохотом, толкаясь и падая, и это продолжается долго-долго, чтобы в зале зрители сообразили, насколько велика радость… Смотрю — и ни на вот столько не верю. Вижу, что это режиссер им велел кучу-малу устроить и они его установку из кожи лезут выполнить. Такое только от суеты и рождается… Да черт с ним, с этим кино! Вы-то как живете-можете?
Борис Федорович расспрашивал нас о газетной работе, о нашей репортерской технологии, какие бывают у нас казусы. Историями про газетные казусы, которые в газете не напечатаешь, журналисты обычно переполнены. Мы высыпали ему все смешное, что происходило в редакции за много лет. Андреев от души смеялся.
Попрощались с ним уже по-приятельски. Шагая в редакцию, обменивались впечатлениями: почему так расположен? В отличие от других — интервью он не хочет, надобности практической в нас у него нет, а он зовет приходить еще… Наверное, просто не хватает живого общения. Чтобы можно было и высказать наболевшее, и пошутить, и чтобы слушали с искренним интересом, как слушаем мы, и чтобы ему рассказывали искренне…
Вскоре он позвонил сам.
— Здорово! Это Борис Андреев говорит. Старик Боб! — Он засмеялся: слово «старик» газетчики часто употребляют в разговорах между собой и имена свои превращают в прозвища.
— Чего не звоните? Текучка небось заела? А то зашли бы посидели. Сможешь? И Леньку с собой тащи… — Он уже называл нас по-свойски, без церемоний, и это было лестно. Мы поспешили на Большую Бронную.
— Глядите, — Борис Федорович раскрыл перед нами свою заветную тетрадь. — Всю сознательную жизнь записываю сюда мысли, какие в голову приходят. Если они стоят того, чтобы записать. Ну-ка, гляньте: есть тут какой-нибудь смысл или все чепуха?
Многие афоризмы Андреева поразили нас свежестью взгляда, точностью адреса, оригинальностью подхода, остротой.
— Что, не ожидали? Значит, тоже думаете: всю жизнь битюгов играет с пудовыми кулаками, где ему философствовать?..
— Обижаете, Борис Федорович. Мы ведь видели и «Путь к причалу» и «Дети Ванюшина», «Оптимистическую трагедию», «Жестокость»… Вашего «ночного директора» видели.
— Ладно, я не вас имел в виду.
— А скажите, Борис Федорович, когда вы записываете?
— Когда гложет эта мысль. Обида ли, спор ли какой серьезный или с характерным человеческим типом столкнешься, наблюдение яркое. Или вдруг открывшийся парадокс. Такова, знаете, природа мышления.
Ему было сподручно слово «природа», оно у него обозначало и «суть, смысл», и «особенность», и «происхождение».
— А еще, братцы, записи эти отражают объективную нехватку собеседников. Ведь не писатель же я. Это писатель не может не писать, а я могу. Но иной раз хочется высказать то, что самого меня удивило, или поразило, или подвело итог размышлениям. Не всегда ведь выскажешь: не все ж домашних мучать своими «открытиями».
— Борис Федорович, кого вы можете назвать своим другом — в полном смысле этого слова?
— Петра Алейникова. Петра Мартыновича. Петя был мой истинный друг, в полном смысле слова Не знали, не знали люди, какой он был человек… Для всех — Молибога, Ваня Курский, «ты пришла, меня нашла, а я растерялси!». А он был мыслитель, редкий умница, честная душа! С ним я чувствовал себя вдвое сильнее, я у него силы черпал. А сам он был раним, остро воспринимал непонимание. На нем ведь тоже был ярлык: Ваня Курский. А он многое, ох как многое мог играть… Ну и еще дружили мы с Марком Бернесом. Сколько вместе снимались… Но тут я был сильнее, я поддерживал. Бывало, придет он к нам грустный, выскажет свои печали, а мы с Галей ободрим, попробуем развеселить. Скажем: да брось, ты у нас чудесный, таких больше нет! Он и воспрянет, отрешится от своих огорчений. А огорчения у него бывали.
Жена Бориса Федоровича, Галина Васильевна, старалась не прерывать наши разговоры. Но тут она заметила:
— Обижался Марик, что в кино стали редко снимать. «Не нужен больше», — говорил. Мы и утешали.
В гостиной Андреевых были очень заметны два фотопортрета: Галина Васильевна, явно в гриме, в головном платке и в старинной шляпке. И роли легко угадывались.
— Галина Васильевна, в каком театре это было?
— Чуть позже объясню, вы скажите — в каких я ролях?
— Лариса Огудалова в «Бесприданнице», а это — Катерина, «Гроза».
— Верно, только это не в театре. Это я своему хозяину, — она кивнула на Бориса Федоровича, — доказывала, что актерская профессия — какая-то ненастоящая. Что вот не актриса, а подгримировалась, нужную мину состроила — и пожалуйста, всякий узнает роли!
— Большая мастерица, — с улыбкой басил Борис Федорович. — Мне до нее далеко!
— Борис Федорович, а какие роли свои вы считаете наиболее стоящими?
— Ты, значит, все-таки берешь у меня интервью тихой сапой? Настырный ты парень! «Какие роли»… Ну, Ванюшина, Вожака, Лучкина в «Максимке», Росомаху, Чугая в «Хождении по мукам». Литвинова в «Диком бреге», Сашу Свинцова в «Двух бойцах», с него надо было начать.
— А Джона Сильвера в «Острове сокровищ»?
— Чего ж тут стоящего? По природе — тот же Вожак, только в английском, да и то относительном варианте. И в старинном костюме. Есть, конечно, нюансы, но для меня не шибко ценные.
— А Илья Муромец?
— Так это ж не я, это в основном шлем и панцирь. А вот Лазарь Баукин в «Жестокости» действительно роль. Глубина есть, конфликт с самим собой и обстоятельствами, с самой жизнью. Не схема, а живой, мятущийся человек в трагической ситуации.
— Вас привлекают именно такие роли, сложные, психологические?
— А какого актера (если он в самом деле актер, а не петрушка) не привлекает сложная работа? Кому охота глупости с экрана говорить, оправдывать фальшивую коллизию? За то и жалею рабочих лошадей нашего актерского цеха и многое им прощаю, что они люди зависимые. Это я — отказался от сценария и могу ждать, пока подвернется хороший, да и то не очень могу, годы-то того…) А он, бедолага, без звания «народный артист», без длинного послужного списка, — как он откажется? Его в следующий раз не позовут. Вот и берется за чепуху. А режиссера того, который эту туфту упорно ставит, просаживая казенные деньги, я бы гнал из кино. Сколько эти киношные Хлестаковы средств студийных профурсетили…
— Борис Федорович, почему у вас так мало классических ролей? Сами не хотели или предложений не было?
— И так бывало и этак. Знаю, что маловато. Но — причины уважительные. Война: кого в такое время играть надо — Сашу с Уралмаша или Гамлета? «Три танкиста» в киносборнике или «Три мушкетера»? То-то. В сорок четвертом «Малахов курган» был важнее, чем «Дворянское гнездо». И после Победы надо было делать «Сказание о земле Сибирской», — с нынешней точки зрения сладкая, лакированная картина, но тогда она, убежден, была нужна: люди навидались горя и развалин, светлого хотелось, красивого, яркого. Потому, считаю, и «Кубанские казаки», по поводу которых уже много лет ухмыляются, в сорок девятом свое положительное дело сделали. Хотя бы тем, что в них два человека, разлученные судьбой и войной, вновь находят друг друга. И тем, что бабы по всей России поют: «Каким ты был, таким остался»… Ну а потом, взгляни на меня внимательно… Внимательно посмотри: могу я Гамлета играть? Нутром, может, и смог бы, а внешне? Ты такого Гамлета себе представляешь? Ты себе такого Назара Думу представляешь. «Могучий русский молодец» — вот он я кто…
— Ну а разве не сыграли бы вы Отелло? И внешность вполне позволяет. Или Болинброка, «Стакан воды». Был же у вас Сильвер. Имею в виду роли «неандреевские», в которых ваше появление было бы вроде как неожиданным.
— Сыграл бы Отелло, сыграл бы, успокойся. Как говорится, «он-то съесть да хто ему дасть?» Возможно, что и Болинброка сыграл бы, и Короля Лира, и Фальстафа, и Мальволио, раз уж тебя на иностранцев потянуло. И в отечественном репертуаре хватает персонажей «неандреевских», которых можно было сделать «андреевскими». Но что гадать? Проверить не придется. Это ты, добра мне желая, предлагаешь Отелло. Ну, валяй снимай, я согласен!.. Ладно, кончили про это. Ешьте лучше, а то все стынет.
Так и продолжалось наше общение. Не желая оказаться назойливыми, мы не злоупотребляли гостеприимством Бориса Федоровича, но он вдруг звонил сам и велел «брать ноги в руки».
— В очередную бригаду попал, от Бюро пропаганды киноискусства. Как же все-таки люди нас, артистов, почитают! А мы чем им отвечаем? Из десятка новых картин одна более-менее, остальные барахло. Перемены нужны, перемены… Ну а вы-то как? Приняли ту статью, которой ты никак разродиться не мог? И что сказал ваш Главный? Нет, стой на своем…
Спустя какое-то время он возвращался к мучавшей его теме.
— Какова природа творческого простоя? Съемки по плану в августе, а на дворе май. У тебя прорва времени для размышлений. Вот и играешь мысленно все, что хочешь: хочешь — Чацкого, хочешь — Фамусова. Мне-то Фамусов подходит. Дело к семидесяти приближается. А, как говорил один зарубежный трагик, «играть Ромео надо в семнадцать лет, но как его играть, я понял только в семьдесят». Точно: я тоже только-только понимаю, как играть ту или иную роль. Но, по правде говоря, в современность тянет. Сегодняшний конфликт раскрыть. Не «конфликт прекрасного с замечательным», а настоящий, из жизни, насущный. Чтоб столкнулись характеры, чтобы зритель кипел, переживая то, что происходит на экране… Да бодливой корове бог рога не дает…
Рассказывал он нам о своей молодой жизни на Волге, о работе слесарем на комбайновом заводе, о первых опытах в театральном техникуме, вспоминал разные киношные казусы. Исподволь набирался материал для 13-й страницы, которую мы уже запланировали в один из ближайших номеров.
Неоконченной осталась эта тринадцатая страница.
Мы с Корниловым часто вспоминаем великого актера и человека, встречами с которым наградила нас жизнь. Говорим о нем как о старшем товарище, близком и родном: «Наш Борис Федорович». Не совсем он у нас совмещается с понятиями «народный артист», «лауреат», «кинозвезда»: мы общались дома, запросто, откровенно. Он для нас вообще другой, нежели на известных всем фотографиях. Для нас он усталый, чуть грустный, бесконечно добрый, готовый созорничать. Мудрый и справедливый друг.
Храню дома подаренный им фотопортрет с очень сердечной надписью и с «газетной» подписью: «Твой Старик Боб».
Если ты врач и попал в досужее общество, тебя бесконечным потоком избитых и надоевших узкопрофессиональных вопросов изолируют от всех окружающих радостей и житейских интересов.
Я замечал это неоднократно и вот сейчас, находясь в гостях, спокойно наслаждаюсь этим не без ехидного злорадства. Помимо прочих приглашенных в компании находится доктор. Милый доктор… Я — актер и, подобно доктору, постоянно нахожусь в поле зрения публики. И сейчас отлично понимаю его состояние. Доктора пытают на моих глазах, и я радостно наблюдаю это беззлобное общественное истязание. Но доктору легче. Его не разглядывают в трамвае бесцеремонно, часто молча и упорно. О нем не шушукаются, его не трогает дух праздного любопытства, от него не ждут пикантной изюминки, его не пытаются превратить в источник общественного развлечения, его не подозревают в зазнайстве.
Сейчас доктора прижали между книжным шкафом и радиолой. Он объясняет разницу между грыжей и глаукомой и нервными пальцами ощупывает живот какого-то ответственного гостя. До меня доносятся вопросы, которые сыплются как из рога изобилия. Из шумной неразберихи лишь иногда четко пробивается всплеск настойчивой сопрановой ясности: «Ах, доктор, если бы вы посмотрели на гланды моего ребенка!..»
…Нет, я не доктор… Я не дам отравить себе гостевой вечер!
Я не дам замкнуть себя в каторжное кольцо узкого профессионализма… Не выйдет! Сегодня я не буду с академическим видом рассказывать историю о том, как я работаю под образом, как хожу в библиотеку, как наблюдаю жизнь и мечтаю сыграть образ своего современника. Сегодня вам этого не слыхать!.. Я не буду выслушивать примитивных вопросов и давать примитивные интервью. Я буду молчать! Я никому не отвечу, есть ли у меня жена и дети! И вы так и не узнаете, как и почему разошлась актриса Зверушкина. Переступив порог, я преднамеренно потерял голос. С предельно сиплым звуком мучительно произнес: «Здравствуйте» — в сторону хозяев, а остальных приветствовал кивком головы и молчаливым рукопожатием. Обмотанный кашне, я торжественно уселся на указанном месте и изредка внушительно чихал, имитируя зловредное гриппозное заболевание.
Гости вежливенько отодвигались в сторону, а я радовался, радовался свободе и с наслаждением пользовался ею. Я рассматривал лица окружающих, вслушивался в чужую жизнь. Наблюдал пикантные подробности человеческих отношений, слушал чужие анекдоты, вовлекаясь в круговорот познания мелочей, из которых складывается жизнь.
Не без затаенного ехидства я спросил у соседки, как она работает над образом, и услышал, что дама предпочитает крем «Лосьон» и любит блеклые тона губных помад…
Затем на мой проникновенный вопрос, есть ли у него жена и дети, наглого вида блондин, ошалело проглотив салат, с обиженным видом отвернулся в сторону…
Откушав хорошую стопку водки, прикрыв глаза и вытянув ноги, я наслаждался общим шумом праздничной суматохи, амплитудой взлетов и угасаний вдруг прерывающегося или затихающего веселья.
…Из всех вопросов, которые мне когда-либо задавали, самым неприятным казался вопрос о том, какой образ является любимым. В этом вопросе, как мне казалось, звучала какая-то мелкая, оскорбляющая неосведомленность, вмешательство в святая святых.
Мне казалось бы — просто нелепым вдруг спросить у многодетной матери: покажите, мол, мне, пожалуйста, из всех детей своих самого любимого, я на него порадуюсь. Многодетная мать, как мне представляется, посмотрела бы на меня строго, и обиделась, и сказала бы, пожалуй: «А идите-ка вы своей дорогой, здесь у нас все любимы поровну». И мать была бы права. На каждое свое дитя истинная мать возлагает лучшие чаяния и надежды, каждому ребенку отдает поровну свою душу и все тепло своего материнского сердца.
Я всегда придерживаюсь святого правила: не любишь роль — не берись, ничего не получится. Не слышишь в ней светлого голоса — не сажай в душу: не взрасти колосу! Так говорил мне один старый актер. Бедняга, правда, чересчур часто отказывался от ролей и умер в безделье и неизвестности.
Все свои роли, казалось мне, я любил поровну, в каждой из них находил свое особое, неповторимое зерно радости, в каждом зерне предвкушалось явление цветка еще неведомого и неповторимого. Не желая выделять какой-либо из сыгранных образов, я всеми путями избегал неприятного вопроса. Но как-то я вдруг понял, что любимый образ у меня все-таки есть.
…Все началось с каких-то неприятностей. Картина, в которой я начал сниматься, по целому ряду разумных и справедливых соображений в середине производства была законсервирована, а в дальнейшем просто снята с производства. Но дело не в этом. Исполнял я в этом фильме роль сержанта; по ходу действия должны были снять взрыв мотора на аэродроме. И вот в один из чудесных весенних дней мы приступили к съемке этого зловещего кадра. Начали бодро, весело, но дело у нас явно не клеилось. Возились мы долго и настойчиво. Мотор не взрывался. Потом мотор взорвался — снять не успели!.. Трудовой день закончен — иду разгримировываться. Лицо у меня замазано, грудь нараспашку, пилотка в кармане, планшетка — через локоть, по траве волочится. Настроение — отдыхновенное! Вокруг ни души, передо мною — поля чистые. Солнышко к горизонту клонится, свет нежный, ласковый, вечерок весенний, погожий, в небе жаворонки поют, запах трав доносится. Боже мой! Благодать-то какая, думаю.
Ах, как странно мы, люди, устроены! Вот так идем — давим землю, порою и не замечаем вокруг себя несказанной прелести земной и этого чудесного единства себя, здорового и сильного человека, с красотой и гармонией природы. А ведь вот ляжешь в больницу и думаешь тогда: господи, хотя бы пучок травы увидать в окошко, или хоть бы собака залаяла… Так возмечтал я себе и оказался, как говорится, на седьмом небе. И слышу вдруг — в поднебесье идут позывные с матушки-Земли. Слышу, кто-то ругается, и чувствую, что ругань идет явно в мой адрес. Опустился на землю — вижу: стоит передо мной младший лейтенант. Ну, лет на двадцать пять моложе меня. Губы белые и кричит: «Товарищ сержант! Почему не приветствуете офицера?..» И интонация — злобненькая, как гвоздем по стеклу корябает. Прав, думаю, форма-то на мне сержантская. Быстро надел пилотку, поправился, козырнул по форме, посмотрел ему в светлые очи, да и говорю с подтекстом: «Слушай, парень! Разве можно так неистово требовать себе рангового поклонения! Да ведь ты же так быстро износишься!»
В общем, разобрались, разошлись мы с ним. Плетусь разгримировываться. Во рту горечь какая-то, пить хочется, а тут еще трава под ногами мешается… С поля какой-то полынью несет!.. Только этим чертям жаворонкам весело. И солнце прямо в глаза лепит. Нашло время тоже!.. Черт возьми, думаю! Двадцать пять лет работаю в кинематографе, имею за плечами около десятка одних только воинских картин, двадцать пять лет своеобразно служу в армии. Числю себя на воинском вооружении, а за двадцать пять лет так и не поднялся почти ни разу выше звания старшины.
Тут я почувствовал вдруг, как в душу мою стал проникать червь начальнического тщеславия.
И вот я вспомнил свои воинские роли, и в памяти ожили солдаты в пробитых ватниках, с помятыми, усталыми лицами, сержанты с хриплыми голосами, матросы битые и бьющие — в разорванных тельняшках или шикарном клеше. Вспомнился и угрюмый боцман… Все со временем уходит… Но вот года три назад приглашают меня в картину. Дают мне роль. Генерала армии. Помню, надел я на себя генеральский костюм. Подошел к трюмо. Посмотрел на себя в зеркало, и сразу мне вспомнился тот неприятный случай на аэродроме. «Н-ну, — грозно промурлыкал я, — попался бы мне сейчас этот младший лейтенант…».
Исполнил я роль генерала, да и пришла ко мне сразу же мысль грустная. Да, подумал я, генерала в погонах я сыграл. Сыграю, наверное, и роль полковника в отставке — в тапочках. Но никогда мне уже в жизни не сыграть роли молодого, наивного, где-то еще неуклюжего в возрасте своем, самого дорогого и близкого мне человека — сына, брата нашего, простого нашего солдата-первогодка… Не сыграть уже! Тут и понял я: вот ты, мой любимый образ! Ушел ты от меня… И никогда уже не вернешься вновь…
И сейчас мне, сидящему в одиночестве средь шумного общества, страшно захотелось поведать историю о своем любимом образе. Закутанный кашне, по привычке шмыгая носом, я подошел к компании, но она вежливо рассыпалась. Я увидел за шкафом усталое лицо почему-то одинокого доктора и решительно направился к нему…
Быть может, немного странно, прожив годы, сыграв в кинематографе десятки ролей, — начать объясняться ему в любви, по-юношески восхищаться его безграничной силой и властью над человеческой душой.
Несмотря на всю свою конкретность, кино не наглядное пособие к жизни. Его влияние сложнее, интереснее, глубже. Начать с того, что кинематограф углубляет наш взгляд, делает его зорче, а обзор жизни — шире.
Каждое новое поколение — ново по-своему. Но каждое должно оказаться способным ответить на требования своего времени, полнее использовать возможности, которые оно дает.
Моя актерская жизнь сложилась, не побоюсь сказать, счастливо. Снимался я более или менее часто, исполнял в основном большие роли, и работать мне довелось со многими крупными мастерами. Но если бы дело ограничилось только этим, я, пожалуй, побоялся бы употребить это большое и ко многому обязывающее слово — «счастье». Я выразился бы скромнее — «удача». И если я все же говорю о своем актерском счастье, то только потому, что многие роли из сыгранных мной были наполнены большим гражданским содержанием и фильмы, в которых я играл, нашли, как я думаю, отзвук в душе народа.
Быть может, историки кино и критики поправят меня, но я не боюсь отнести к таким фильмам и «Трактористов», и «Большую жизнь», и «Двух бойцов», и «Сказание о земле Сибирской», и «Большую семью», и «Поэму о море», и «Повесть пламенных лет»…
Помню, в детстве, мальчишкой лет семи-восьми, впервые попав в кино, я углубленно был занят вопросом: живой человек в фильме или нет? Как только в зале гасили свет, я ящерицей подползал к экрану и, когда там появлялись люди, пытался схватить их за башмаки, юбки, брюки. Увы, пальцы лишь царапали холст экрана.
Теперь-то, много лет спустя, имея сорокалетний опыт работы в кинематографе, я знаю, что человек на экране живой и что выражает он высшие человеческие радости и надежды. Да и зритель сегодня тоже отлично чувствует, как бьется в картине пульс, стучит человеческое сердце, ощущает напряженную работу своего разума.
Много воды утекло с тех пор, как сыграл я первые свои роли в кино. За плечами остался не один десяток фильмов. Мне часто приходится выезжать на творческие встречи со зрителями, порою в самые отдаленные уголки Родины. И отрадно бывало видеть и чувствовать, что повсюду ты — старый друг и что заслужил эту часто неведомую тебе дружбу своим участием и фильмах.
Часто задумываешься: за что же это тебе так открыто и щедро дарится дорогая человеческая любовь? Да и вообще, за что народ так любит киноискусство? А ответ может быть только один — за жизненную правду. Не случайно почти каждая встреча со зрителем обычно выливается в горячую дискуссию, в самый настоящий спор. Вопросы возникают самые острые, самые актуальные — так бывает всегда. Вспоминаю, как обсуждал со строителями КамАЗа фильмы о жизни и труде рабочего класса.
В разговоре том открывалось глубочайшее понимание целей и средств искусства нашим зрителем. Он без труда определял, где таится зерно истины, а где фильм подсовывает ему плохо раскрашенные картинки.
Сегодня сам зритель, особенно рабочий, неизмеримо вырос. В художественном произведении он ищет ответа на самые острые вопросы. И если смотрит фильм рабочей тематики, то его интересует не столько изображенное производство, не голая машинерия, а душа героя, то, насколько она жизненна. Зрителя волнуют этические проблемы, то, как выковывается и складывается характер, определенный человеческий тип, как складываются взаимоотношения между людьми, стремящимися к разрешению важных общих задач.
Для меня важно, что почти каждая сыгранная за сорок лет кинороль была как бы ответом на запрос времени. И это прежде всего касается фильмов, рассказывающих о человеке-труженике. Герои «Трактористов», «Большой жизни» были самым тесным образом связаны со своим временем. Без этих ранних «разухабистых» парней уже почти нельзя представить определенный период истории нашего кино. Они отражали процесс становления характеров моих современников, их гражданского мужания. Взбалмошные и непокорные Харитон Балун и Назар Дума, смело вошедшие в большую жизнь страны, росли вместе с нею, становились опытнее, взрослее. Возможно, без их молодого задора, без их стремления к совершенствованию и не появился бы Илья Журбин — дорогой для меня образ советского рабочего, активного, горячего, твердо знающего свое место в жизни.
Сегодня на экран и в мою жизнь пришли новые герои — умудренные жизненным и трудовым опытом, люди, для которых работа является делом всей жизни, для которых общественное неотъемлемо от личного. Но ведь те же самые черты, что характеризуют моих нынешних героев — Литвинова из картины «На диком бреге» и Друянова из телефильма «Мое дело», — были присущи и Журбину. Только время поставило перед ними новые задачи, новые проблемы, подняло, укрупнило их личности.
Актеру как художнику, когда он работает над образом нашего современника, очень многое приходится черпать, общаясь с самыми различными людьми. И это, на мой взгляд, единственный путь к правде образа. Но как непрост порой бывает путь к этой правде, к человеческой душе!
Помню, когда создавалась «Большая семья», меня познакомили на судостроительном заводе со старым рабочим, который был литературным прообразом моего Ильи Журбина. Но, увы, это знакомство почти ничего мне не дало: человек чувствовал, что его осматривают, подглядывают за его поведением, и… замкнулся. Стал напряженным и застывшим, как фотография на паспорте.
С образом Журбина все сложилось неожиданно. После долгих мук творчества работа вдруг пошла легко и свободно. Я даже начал побаиваться этой удивительной легкости — уж не покатился ли мой герой по наезженной колее штампа? Но немного позже, когда мы просматривали отснятый материал, увидел я, что на экране движется на меня не книжный Журбин, а один очень давний мой знакомый. Узнал вдруг в своем герое старого слесаря с комбайностроительного завода, где я мальчишкой начинал свой жизненный путь. Узнал и походку его, манеру речи, узнал человека, который мог тебя, салажонка, и подзатыльником походя наградить и солоно пошутить, но который никогда не поступился бы своей рабочей честью, который от каждого — и от себя в первую очередь — требовал самой высокой меры ответственности в повседневном деле.
Тогда-то и пришел я к выводу, что лучше всего натура дается, когда ты входишь своим в среду, родившую, вырастившую твоего героя, — среду, где он проявляется во всем комплексе своих человеческих качеств.
Картину «На диком бреге», где я играл Литвинова, начальника строительства крупной гидроэлектростанции, мы снимали в Дивногорске, там, где в ту пору строилась Красноярская ГЭС, а работами руководил легендарный Герой Социалистического Труда Андрей Ефимович Бочкин. Естественно, мне хотелось дополнить характер своего литературного героя чертами личности такого замечательного человека. Но, к сожалению, самого Бочкина в это время в Дивногорске не было — встретиться нам тогда не довелось. Я много говорил о нем с рабочими, его коллегами, и передо мной открывался удивительный образ руководителя нового типа, который среди больших и важных государственных дел ни на минуту не забывает о «мелочах», если они касаются быта, досуга, жизни людей. Как-то, проходя мимо столовой, я услышал недовольные голоса. Оказалось, в тот день по чьему-то недосмотру не завезли каких-то продуктов или завезли, да плохого качества. Я поинтересовался, часто ли такое случается. «Да что вы, — ответил распалившийся, только что «митинговавший» парень, — это когда Деда нет, такое случилось. А у него-то глаза на все хватает…»
Казалось бы, мелочь, деталь. Но как-то этот случай «перевернул» в моих глазах образ экранного героя. Ведь и мой Литвинов должен быть такой, чтобы его «на все хватало».
Фильмы о современниках, рабочих людях, бесспорно, одно из важнейших направлений в нашем кинематографе. И отрадно, когда на экраны страны выходят произведения жгучие и страстные, бередящие душу размышлениями о, казалось бы, самых привычных, обыденных вещах, переосмысленных честным художником, как это произошло в фильмах «Премия» или «Старые стены». Но далеко не всегда наши кинематографисты радуют нас такими лентами. Как часто, встречаясь с нашими современниками — рабочими, колхозниками, инженерами, командирами производства, — ощущаешь, насколько их судьбы и они сами ярче, полнокровнее, интереснее, чем те блеклые, проповедующие с глубокомысленным видом банальные мысли персонажи, которые, кажется, переходят из фильма в фильм, разнясь лишь цветом волос, профессией да занимаемой должностью. А ведь такой «герой» дискредитирует большую и важную тему.
Говоря о нашем современнике языком искусства, стараешься постоянно общаться с людьми, для которых ты творишь. Я охотно и часто выезжаю на встречи с рабочими крупных заводов, нефтяниками, металлургами, сельскими тружениками. Общаясь со зрителем, стараюсь как можно полнее постичь природу человеческого духа, как можно полнее приблизить себя к понятиям современности.
Такие встречи, письма людей, взволнованных судьбами нашего советского искусства, необходимы сегодня художнику. Они дают оценку твоей работе «из первых рек», заставляют глубже задуматься над каждой новой ролью, над тем, что хочешь и можешь ты сказать людям. Особенно остро это почувствовал, когда после демонстрации по телевидению фильма «Мое дело» стали приходить послания от зрителей к моему Друянову. Они еще раз утвердили меня ” мысли о необходимости создания «производственных» фильмов об умных, деятельных, талантливых наших современниках. Размышляя об образе Друянова, один из моих корреспондентов, киевлянин Иванов, выявил главную для себя черту этого экранного героя — «коммунист». И добавил: «Целая биография страны — в одном образе. Человек, о каких мы немало говорим и пишем, но как мало его еще на экране».
«Мало еще на экране» — эти слова, я думаю, являются не только признанием сделанного, но и социальным заказом нашего зрителя, нашего времени, нашего народа.
…Как рассказать читателю о профессии артиста? Честно говоря, побаиваюсь основываться на каком-нибудь конкретном образе, на какой-либо роли. Обрисованный словами образ как бы теряет свою природу. Вот почему, начиная разговор об актерской профессии, я попытаюсь рассказать не о секретах мастерства и не о трудностях этой сложной и в то же время необычайно радостной работы. Я попробую рассказать о том прекрасном, из чего слагается творчество артиста.
Основной для меня процесс в работе над образом — это сбор материала для будущей роли, познание еще неведомого мне времени, эпохи, людей. Затем происходит сопоставление всего собранного с тем авторским материалом, который мне предстоит воплотить на экране.
А дальше идет молчаливый процесс раздумий, когда ты остаешься наедине с текстом. Процесс этот постепенно выкристаллизовывается в интонационное звучание, в ощущение физической готовности к выражению некоторых особенностей его проявления.
Вот тут-то и начинает прорисовываться характер моего героя. Я долго сижу над текстом, пока ясно не представлю себе и не прочувствую внутреннее движение образа. Нет ничего прекраснее, когда ты чувствуешь, как позвала тебя в новый, неведомый мир твоя новая роль, как она раскрылась перед тобой и как ты раскрываешь ее зрителям. Частично это удавалось мне, и тогда я ощущал человеческую благодарность. Я никогда не забуду, как в разрушенном Новороссийске, только три дня назад отбитом у гитлеровских оккупантов, смотрели солдаты и матросы фильм «Два бойца». Они и сейчас передо мной — взволнованные люди, в которых фильм как бы обнажил все лучшие чувства, охватившие их сердца.
Безмерно счастлив художник, видя, как благодарны ему зрители. После таких встреч хочется работать и работать, сделать еще больше.
Не скрою, бывают порой моменты, когда начинаешь сомневаться в своих силах, когда ослабевает дух. И тогда пускай даже мимолетная встреча, улыбка прохожего, его взгляд, брошенный вроде бы мимоходом, приносят нам, артистам, внутреннее удовлетворение. Ты чувствуешь себя причастным тем, кто трудится на заводах и шахтах, на полях и в лабораториях… И ты как будто приникаешь к живому источнику силы своего народа.
Поистине прекрасно это чувство отдачи хорошего, доброго людям. Отдачи, в которой нет ощущения отданного. Кто прикоснулся к этому святому чувству, знает, что такое прекрасное. Но только ли артисту доводится испытывать его? Думается, в любом деле, в любой профессии есть свои прекрасные мгновения, когда ощущаешь, что твой труд, твоя работа нужны людям.
Когда художнику удается повести за собой зрителя в мир познания? Когда зритель отвечает художнику самым лучшим — своей благодарностью? Тогда, когда познание это дает ему ощущение широко раздвигающихся перед ним горизонтов, когда открывается для него что-то большое и важное. Истина в этом случае познается зрителем не с помощью учебника, а через сложный процесс сопереживания, когда сам он или делается судьей, или ставит себя на место героя и вместе с ним преодолевает трудности.
Наше искусство формирует человеческую личность, приносит радость человеку, придает ему веру в себя, объединяет людей. Именно такую задачу и видит перед собой советский артист. И когда ощущаешь результаты своего труда, не можешь не осознать: как прекрасен, чудесен мир искусства, как многим человек обязан ему! Ты, артист, тоже причастен к этому. Но как много еще надо сделать, чтобы зритель умел черпать в искусстве силу добра, силу твердого стояния на земле, силу для борьбы.
Мне никогда не забыть, как фильм «Падение Берлина» демонстрировался за рубежом, как толпы людей окружали нас на площадях и стадионах, где показывали картину, как тянулись тысячи рук к русскому солдату — освободителю…
А добрые взгляды, улыбки после картин «Трактористы», «Большая жизнь», «Сказание о земле Сибирской». А слова: «Свой, наш человек», который слышит артист, — это ли не высшая оценка его творчества!
Иногда я слышу, как говорят о художнике, что он самовыражает себя. В этих словах для меня звучит что-то непривычное, неприятное, оскорбляющее меня. Здесь я вижу нездоровое стремление некой персоны обособить себя от народа, подчеркнув якобы исключительность своей личности. Для такого художника главное — показать себя. Откуда же ему, подобному «самовыражателю», черпать извечно волнующую нас правду человеческой жизни, как не из общения с народом? Только слияние художника с народом делает его подлинно народным. Я признаю художника, вышедшего из народа, постоянно идущего с ним, впитывающего в себя его лучшие чаяния и надежды и помогающего ему выражать их в искусстве.
Я помню, как Николай Черкасов, уже смертельно больной, говорил мне: «Очень тяжело сознавать, что я не могу ответить, не могу возвратить зрителю через искусство ту бурю человеческой радости, тот огромной силы заряд счастья, который он посылает мне».
Вот в этой отдаче всего себя, своего искусства народу и проявляется самое прекрасное, с чем связана наша профессия. Профессия советского актера.
Я глубоко убежден, что кинематограф в нынешней жизни — одна из плодотворнейших систем совершенствования природной сущности человека. Художественный кинофильм способен творить структуру духовного величия и совершенства в наивысших формах.
Кинокартина обладает удивительным свойством вовлекать зрителя в открывающийся перед ним мир и активно, действенно пребывать в нем. Зритель — не пассивный наблюдатель экранных событий, он — активная личность, он напряженно внимателен к этической стороне конфликтов, самых разных взаимосвязей. Зритель, даже не замечая этого, всей природой своего взволнованного «я» ставится в положение обвинителя или защитника, судьи или подсудимого.
После просмотра умной художественной киноленты зритель незаметно для себя укрепляет свою гражданственную позицию, отказывается от неверного взгляда или предубежденности. И нет сомнения, что хороший фильм заставляет тоньше чувствовать мир, дальше видеть и предвкушать само движение жизни. Поэтому я всегда — прежде чем взять роль в картине — думаю: а в какой мир я позову зрителя, какие чувства вызову в душе.
Особенно остро такая взаимосвязь ощущается во время непосредственных контактов с аудиторией, когда происходят творческие встречи. Я вижу множество глаз и невольно по лицам читаю разум… Быстро растет наш зритель до неузнаваемости! По этим творческим встречам чувствуешь, как сильно изменились потребности, точки зрения, само внимание. Зритель все настойчивее прорывается в тебя, актера: его интересует твоя сущность как художника, манера и сила твоих суждений, твоя лаборатория, твоя система сложения образов. Зритель хочет понять тебя как индивидуальность, как человеческую особенность. Его интересует разница между тобою, актером, и художественным образом. Это — желание понять художественную природу чувств.
Заметно, что дух творчества делается частью трудовой и житейской деятельности самого зрителя. А значит, и законы творчества в искусстве рассматриваются зрителем с позиций приближенности к самому себе. Это неудивительно! Сейчас заметно, как творчески напряжено, накалено общественное сознание: позавчерашний «обычный» зритель сегодня, может быть, народный депутат.
Сам я пришел в киноискусство много лет тому назад, снявшись в фильме «Трактористы» замечательного кинорежиссера Ивана Александровича Пырьева в роли молодого колхозника Назара Думы. Образ этот изначально был мне близок. Ведь я с раннего детства находился в окружении простых людей, тружеников. Они всегда близки моему сердцу, невольно я отдаю им предпочтение при выборе роли. С понятием простого человека, труженика у меня связано представление об основах духовной и физической красоты нашего народа. Ну а любовь к искусству у меня — мальчишки из города Саратова, родившегося в рабочей семье, — проснулась неожиданно рано. Любительский спектакль, на который меня привел дядя, сцена, множество людей, огни, музыка — все это произвело огромное впечатление, неизгладимое, запомнилось как праздник. И, начав свою жизнь слесарем-электриком на комбайностроительном заводе, я сохранил радостную мечту об искусстве, стремился участвовать в художественной самодеятельности, посещал драматический кружок. Тут и приглянулся одному из своих будущих учителей — Ивану Артемьевичу Слонову, замечательному русскому актеру. С его благословения долгий путь в искусстве начался.
Не оставляя работы, учился я в Саратовском театральном училище: там готовился к сложным драматическим ролям, сыграв на учебной сцене Несчастливцева в «Лесе», Колычева в «Василисе Мелентьевой», Чепурного в «Детях солнца», Булычова в «Егоре Булычове». Это было замечательное время знакомства с классической драматургией Островского, Горького… Потом я пришел в Саратовский’ драматический театр имени Карла Маркса, где довольствоваться пришлось самыми скромными ролями. Но я не унывал — и это уже была большая победа. Радовался тому, что в театре. Твердо верил: придет время, когда заговорю со сцены в полный голос. Однако сложилось так. что весь свой творческий путь я отдал трудной, специфической работе актера чисто кинематографического. Зато сыграл не один десяток ролей в самых разных фильмах и работал с непохожими, удивительными мастерами…
Я понимаю, что в небольшой статье не изложишь углубленно теоретические особенности творческого процесса в кинематографе. Но считаю обязательным сказать, что наибольшую приверженность я испытываю к старой школе щепкинского направления. Пытаясь понять природу чувств, выражаемых в образе, я занялся изучением материалистической психофизиологии, увлекся трудами Павлова, Сеченова, Быкова… И. над этими именно трудами работая, начал я понимать сущность теоретической сложности школы Станиславского, которая осознавала невозможность возбуждения в природе актера действительных жизненных чувств: они «ускользали» и при попытках вжиться в предлагаемые обстоятельства и при использовании метода физических действий.
Я начал ясно понимать, что во время игры никакого действительного жизненного чувства никогда из себя не выманю: эти усилия бесполезны, и не только у меня, а у любого актера. Но я могу как бы охватить себя воображаемым подобием любого переживания, и оно будет внешне соответствовать внутренней природе персонажа. В своем разуме я слагаю самую суть человеческого поведения, конструктивность, его соотнесенности с миром, природу его логики, идущей от особой, присущей ему или воспринятой им манеры…
Я ни в чем не путаю и ни в чем не отождествляю себя с образом, не являюсь самим собою в предлагаемых обстоятельствах, но всегда и во всем выражаю образ другого человека средствами своих возможностей.
Мне никогда или почти никогда не приходилось переживать чувства выражаемого мною персонажа. И я уверен, что истинно пережить чувство другого человека не дано никому.
Так что же это для актера: подделка, подражание или милое обезьянничанье, как утверждает Дидро?
Нет, это — чувственное выражение своих точных знаний, необходимых для достижения художнических задач в искусстве. Это — выражение действительного чувственного процесса другого человека, созданное умением артиста, художника. Впоследствии — как бы ни были тяжки выражаемые им чувства — артист с радостью ощущает их как радостный результат своей деятельности творца, сумевшего подчинить собственной воле такой удивительный и сложный, трепетный мир чужих переживаний.
Идеи Шепкина преподавались нам в Саратовском театральном училище как самостоятельный предмет — наряду с системой Станиславского. Вела занятия старейшая актриса Елена Евгеньевна Астахова. Эта школа выразительности состояла из сотен человеческих эмоций, почерпнутых в произведениях классики. Это были различные проявления любви, ненависти, гнева, человеческих страданий и радостей…
Я помню, как однажды кто-то из бойких учащихся сказал:
— А не преподаете ли вы нам бесконечную систему штампов, годных ко всякому случаю переживаний в образе?
Елена Евгеньевна была старухой с резким русским характером, мудрой и много повидавшей женщиной.
— Да, для дурака это останется штампом, — ответила она. — А для умного актера — эскизом умения выражать чувства: пользоваться чувственной выразительностью, как живописен пользуется красками.
Это особенно врезалось в мою память.
Для актера важна еще и внутренняя, глубинная связь всех образов, им созданных. Здесь проявляются мировоззренческие, философские позиции актера — видна та единственная и главная мысль, которую он последовательно проводит через все этапы своего творчества. Для меня эта связь образов была очень важна: в каждой роли я стремился раскрыть типичные черты замечательного русского характера. И ни один образ не строился на пустом месте. Он имел предшественников, был их продолжением.
Думаю, что любой из моих молодых героев мог стать в мирные дни мудрым народным философом, как директор совхоза Савва Зарудный в фильме «Поэма о море», или деятельным, активным руководителем, как Литвинов из фильма «На диком бреге» или Друянов в «Моем деле». Это неудивительно. Таков реальный путь советского человека. И в этом мне хочется видеть еще одну нить, связывающую художественные образы с жизнью.
Действительно, на пустом месте ничего не возникает. А это большая радость — почувствовать, что тебе удается нести в своем творчестве здоровую плодотворную традицию. И сейчас мне кажется, что большинство моих героев имели в нашем кино давнего предшественника. Ведь подобные образы людей, сформировавшихся в народной глубинке, были созданы еще в двадцатые годы замечательным актером Иваном Чувелевым. Радостную перекличку с ними я невольно чувствовал во всех молодых героях своих первых кинокартин.
Помню, сколько радости доставила работа над ролью боцмана Зосимы Росомахи в фильме «Путь к причалу» у одного из любимейших моих режиссеров, Георгия Данелии. Герой вроде бы необычен, даже неожидан. Характер сформировался в тяжелых условиях войны, а затем работы на Севере. Но и в нем порыв истин но красивой души — упорной, настойчивой и выносливой. Где-то перекликается герой с образом революционного матроса Чугая из кинофильма «Хмурое утро».
В последнее время я играю возрастные роли. Ну, это и понятно. Но я особенно люблю стариков! Люблю удивительную природу человеческой завершенности — эту мудрость, трогательно озабоченную всеми началами людей, вступающих в жизнь.
В телевизионном фильме «Назначаешься внучкой» я играл роль деда-лодочника, который борется с фашистами. Образ этот, пожалуй, желанный еще с юности. В нем должны были выразиться и приобретенные жизненные знания и глубочайшая моя любовь к народности мудрой, необычайно чуткой и доброй.
И здесь образ нашего современника во многом четко перекликается с могучей природой народного характера деда Ерошки из кинокартины «Казаки», поставленной давно уже по повести Льва Николаевича Толстого… Человеческая доброта старика Ванюшина — дореволюционного купца минувших времен — имела свою перекличку с сердечной озабоченностью старого Сергея Ивановича из фильма «Приключения пенсионера».
Вот так я глубоко уверился, что артисту, художнику, писателю, чувствующему себя в природе исторического долголетия своего народа, обязательно ощущение такой преемственности. Обязательно чувство тесной связи с прошлым, чувство здорового жизнелюбия.
Традицию эту мало понимать: ее надо подсознательно чувствовать в себе самом. Чувствовать как главное и беспрерывное движение и направление жизни, идущее от наших революционных идей. Не может в искусстве существовать образ без точной соотнесенности с исторической правдой, без высшей веры художника в ее совершенство.
И вот поэтому волнуется в буднях уже много прожившая твоя душа… Придет ли праздничная искорка радости, сольется ли произведение со зрителем-современником? Явится ли взаимосвязь. Взаимность…
И сам думаешь в буднях своих: «А что же ты сам, артист, — что двигает тобою? Чем волнуется душа твоя?» А она волнуется все тем же: все той же силою жажды принесения радости. Той же жаждой ощущения себя в общем движении к совершенству.
Поездишь по городам и весям, посмотришь на людей, на их доброе проявление себя, получишь хороший заряд, а что дальше?.. Дальше ждешь. Придет или не придет?.. Ждешь образ, ждешь сценарий. Ведь быть спокойным в искусстве невозможно. И месяца не пройдет, как закончил картину, а уже ощущается какой-то душевный зуд. Уже меряешь квартиру нервными шагами. Еще не ясно, чего ждешь, а ждешь. И вот зазвонил телефон. Снимаю трубку.
— Борис Федорович, прочитали сценарий?
— Да, прочитал.
— Ну, как? Даете согласие?
— Нет.
— Ну что вы! Вам там и играть-то ничего не надо. Вы — фигура колоритная, ну посидите «на собрании»… Да и времени всего-то на несколько дней.
— Друзья мои милые! Я давно уже не колоритная фигура. Я работать готов хоть год изо дня в день. Без выходных. Было бы во имя чего…
Вешаю трубку.
Большая квартира кажется тесной, как бы стены сузились. Нет-нет, да и подойдешь к пустому чемодану… И всплывает в памяти Дивногорск, встают образы Зейстроя, КамАЗа… В комнату врываются просторы — знакомые и близкие дали, где прикоснулась твоя душа к живому, к тому, что волнует и заставляет актера терпеливо ждать. Ждать свершения надежд, радостного праздника сотворения образа.
Идут дни простоя… Завидуют некоторые легкомысленные души: ведь месяц, а то и два, три бывает свободен киноактер. Ну и жизнь! Гуляй себе беззаботно! Так думает иной добрый и наивный человек. Нет, ошибаешься, дружок. В эти месяцы у актера нет счастья. Идут будни, текучка. А разуму покоя нет. Предлагают что-то для работы, но взять нельзя: с честью не выйдешь. А за честью мастера следят люди ревниво и придирчиво. Да прежде всего самому себе она дорога…
Вот так и идут будни артиста: от мысли к мысли, от раздумья к раздумью. А тайное желание — это готовится к главному празднику жизни артиста — празднику сотворения образа. Я почти никогда не мыслил его тематической схемой. Пусть будет рабочая тема, колхозная или воинская. Это для меня никогда не имело особого значения. Ибо, как видится мне на склоне лет, — я снимался все время в своей единственной картине — картине о человеческой душе…
Киев. Брест-Литовский проспект. Киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко. Вот уже второй месяц я приезжаю сюда на съемки. Иду через яблоневый сад, прохожу мимо «щорсовского» павильона, где снималась знаменитая лента классика советского кино. Смотрю на окна Музея Довженко. В этой комнате находился рабочий кабинет режиссера.
Впервые я прошел этой дорогой почти сорок лет назад. Здесь, на Киевской студии, началась моя киноактерская биография. Здесь я усвоил творческие принципы, которые не раз помогали мне, да и сейчас помогают в работе. Перед моими глазами, можно сказать, прошли все этапы жизни студии. Мне посчастливилось сниматься в фильмах, которые создавали ведущие мастера советского киноискусства.
Художники эти создавали не только фильмы. Они создавали свою студию. Их творческое горение, высокая требовательность, партийная принципиальность определяли основы студийной жизни. Успех одного режиссера, даже самого талантливого, не может возникнуть на пустом месте. Для этого необходима истинно чистая, доброжелательная атмосфера созидания. Ее принесли на студию Довженко и Пырьев, Савченко и Луков… Я помню, как тянулись к кинематографу известные литераторы — Тычина и Корнейчук, Рыльский и Бабель —. как молодые актеры кино впитывали уроки прославленных мастеров — Мордвинова, Бучмы, Михоэлса.
Мы все часто собирались за одним столом, спорили до утра, а потом шли купаться на днепровские пляжи. Не думал я тогда, что мне придется писать воспоминания о моих друзьях, коллегах, учителях… Они до сих пор для меня живые люди, а не герои мемуарной литературы.
Могучий, резкий порой характер, удивительный творческий темперамент… Иван Александрович Пырьев. Он первый раскрыл в кино присущие моему актерскому диапазону краски. Назар Дума стал одним из героев его украинской картины «Трактористы». Я играл эту роль, а на площадке рядом со мной ярко, талантливо работали Николай Крючков и Петр Алейников.
Потом мы с Алейниковым снимались в картинах Леонида Лукова «Большая жизнь» и «Александр Пархоменко», а с Марком Бернесом — в фильме «Два бойца». Разноплановые характеры довелось мне создать в содружестве с Луковым. Харитон Балун из «Большой жизни», шахтер, горячий парень, грубоватый, озорной, но талантливый, самоотверженный. В «Двух бойцах» — Саша с Уралмаша. Красноармеец, верный товарищ, робкий, когда дело касается объяснения в любви, и отчаянно храбрый в бою… Мы, актеры, любили Лукова. Он умел создать в кадре настроение жизненной правды, заразительное, эмоциональное, непременно захватывающее зрителя. И мы всегда с удовольствием помогали ему в этом.
Уже после войны, в 1953 году, снялся я на Киевской студии в фильме В. Брауна «Максимка». Сыграл роль матроса Лучкина. Этот фильм дорог мне, и я знаю, что его и сейчас с удовольствием смотрят дети…
Большой жизненной и актерской школой была для меня совместная работа с Игорем Андреевичем Савченко, замечательным человеком и режиссером. Когда Савченко предложил мне сниматься в картине «Богдан Хмельницкий», я, признаюсь, согласился не сразу. Было уже известно, что в фильме соберется целое созвездие прекрасных актеров. Мордвинов, который для нас, молодых артистов, был воплощением лучших традиций русского романтического театра; Жаров, находившийся в расцвете таланта и славы, являвший собой образец острохарактерного актера; Милютенко, Дунайский, Капка — колоритнейшие украинские артисты. Сложно было не потерять свой голос в этом ансамбле. Но отказать Игорю Савченко я не мог… Увлекающийся, эмоциональный художник, он не жил — он сжигал себя. Во время работы был неудержим. Мохнатые брови сдвинет, суров — и вдруг улыбкой засияет, как ребенок. Его неравнодушие заставляло и окружающих быть неравнодушными.
Игорь Андреевич предложил мне играть роль Довбни. На эту роль пробовались многие известные борцы, силачи, но безуспешно. На экране же — рядом с Мордвиновым, Жаровым и Дунайским — все силачи терялись. Оставались мышцы, а масштабность характера, широта души пропадали.
Стал я думать, как же сделать этот образ. Ведь особой богатырской фигурой я не располагал. Так, чуть выше среднего роста! Долго ходил я по Киеву и вышел на Владимирскую горку. Люблю это место. Днепр виден, склоны. День был осенний, сумрачный, кругом желтые листья, трава жухлая. На небе тучи, ветрено. Поднялся я на бугор. Ветер налетел, погнал листья. Смотрю — листья и травы бегут, а среди них камень лежит. Серый, тяжелый, устойчивый такой. Все бегут, а он стоит. Вот природа образа — подумал я. Силу богатырскую выпячивать на первый план не нужно, она должна проявляться как бы вторым планом. Все бегут, мельтешат, сабельками размахивают, а богатырь Довбня стоит себе тихонько с огромной дубиной на плече и думает: бегайте, бегайте, вот размахнусь я дубиной, где вы со своими сабельками будете!
Вышел я на пробы спокойный. Мордвинов — Богдан зажигал сердца, веселил всех Жаров в роли дьяка Гаврилы, а мой Довбня стоял уверенный в своей богатырской силе. Получилось. Савченко был доволен. Правда, обиделись на меня киевские силачи. Один молодой боец даже предложил мне силой померяться, а я сказал: «Чудак, я ведь не борец, я художник. У тебя — сила, а у меня воображение».
Однако, по совести говоря, умению создавать образ, выявлять на экране его философскую сущность я научился далеко не сразу. Ведь первая моя попытка сняться в кино окончилась позорным провалом. В конце тридцатых годов меня, молодого артиста саратовского театра, пригласил сниматься сам Александр Петрович Довженко. Второй режиссер фильма «Щорс» Лазарь Бодик, увидев меня на сцене, сказал, что мой типаж подходит на роль Петра Чижа, молодого красноармейца, того самого, который уводит со свадьбы чужую невесту. «Что же, если типаж подходит, буду сниматься», — решил я. У нас на Волге тоже жили украинцы, и мне казалось, что создать характер украинского хлопца не так уж сложно.
Позднее, живя в украинских селах во время съемок, знакомясь с народными песнями и фольклором, а именно они были источником творческого вдохновения Александра Довженко, я понял, насколько органичен для него возвышенный склад мысли, поэтичность мировосприятия, ощущение тесной связи человека с природой, частицей которой он предстает на экране. Отсюда и святое отношение Александра Петровича к творческому процессу как акту рождения, сотворения новой жизни.
Но, приехав впервые на пробы, я еще не знал всего этого. Мне предстояло выучить за ночь длинный монолог, а утром прочитать его на съемочной площадке. Учил я монолог не очень старательно. Не знаю, как Довженко дослушал меня до конца. Он сидел на стуле, ссутулившись, опустив руки и даже не взглянув на меня. По-моему, «снимали» меня без пленки. Кое-как дочитал я до конца и скрылся поскорее с глаз долой, растворился среди декораций, но выйти из павильона не смог — заблудился. Александр Петрович решил, что я ушел, и сказал сердито: «Бодик, кого вы поставили перед мои очи!» И я понял, что этой роли мне не видать.
Все-таки я сыграл в фильме «Шорс» крохотный эпизод, который не значится ни в одном справочнике. Молодой красноармеец говорил: «Прощайте, тату» — и уходил из дома на борьбу с врагом. Но сыграть в фильме Довженко даже такой эпизод было для меня тогда большим счастьем.
Конечно же, Довженко был человеком, оказавшим на становление коллектива Киевской студии гигантское влияние. Всякий молодой кинематографист, работавший в то время в Киеве, не мог не попасть в поле воздействия идей Александра Петровича, его особых требований к художнику и к студии. Место, где создаются фильмы, он считал храмом.
Большая, чистая, сильная мысль всегда сопутствовала выступлениям Довженко на художественных советах, обсуждениях, собраниях. Она во многом определяла лицо студии.
Не случайно и не из прихоти Александр Петрович решил посадить на студии сад. Он последовательно претворял в жизнь свои философские взгляды. Студийная молодежь с радостью помогала ему и даже не предполагала, что в эти часы, когда мы окапывали деревья, происходило чудо рождения художников.
Потом, через несколько месяцев после первого знаменательного для меня урока, когда я уже снимался там же, на Украине, в фильме «Трактористы», Довженко заговорил со мной. Приходил на съемки, ревниво присматривался к моей работе. Посте-пенно мы познакомились поближе, и темы для наших разговоров Александр Петрович выбирал все более серьезные. Он любил поспорить о главных законах бытия, и смысле человеческой жизни.
Спустя много лет Александр Петрович встретил меня в Москве, на «Мосфильме», завел меня в свой кабинет, сказал: «Я хотел бы поставить картину. Может быть, это будет моя лебединая песня. Всю мою любовь к жизни, природе, человеку, все мои мысли я изложу в ней. Главный герой — председатель колхоза Савва Зарудный, человек от земли, философ, крупная личность. Эту роль я ориентирую на тебя».
Для меня как актера задача, поставленная Довженко, была чрезвычайно интересной. Я никогда не играю себя в предлагаемых обстоятельствах. Для меня важно постичь и передать истину другого характера. Найти его душу, главные черты, а затем воплотить их в пластическом рисунке роли. Для этого я должен «приживить» к себе эти черты, как приживляют ветку к яблоне. В роли Зарудного я хотел использовать некоторые черты самого Довженко: манеру говорить, особую продуманность каждой реплики, мысли, отношение к действительности, добру и злу. Великий художник не успел осуществить свою мечту. Он снял только пробы, над фильмом работала Ю. И. Солнцева.
Думаю, что общение с Александром Петровичем Довженко обогащало каждого человека, которому посчастливилось его слышать. Но, кроме того, остались фильмы, сценарии, книги, целый мир довженковских идей и мыслей об искусстве. Каждый кинематографист, который прочел их, впитал, прочувствовал, станет, я убежден в этом, творчески сильнее, увереннее в своем поиске. Не подражателем, нет, а самостоятельно мыслящим человеком.
Сейчас я вновь снялся на киностудии, носящей имя Александра Довженко. Сыграл главную роль в телевизионном фильме «Сапоги всмятку», в основе которого лежат рассказы А. П. Чехова о провинциальном театре. Мой герой, трагик Блистанов, — фигура сложная. Человек этот не лишен был таланта, но, угождая вкусам меценатов и купчиков, пошел легким путем в искусстве, потерял связь с правдой жизни, изуродовался как личность, спился — и в этом его трагедия. Блистанов одновременно смешон и трагичен в своих попытках порассуждать. на философские темы, оценивать развитие театрального искусства. Он смешон в своем бунте, когда осознает, что жизнь его пропала и пропал талант. Следовательно, у этого образа два крыла — трагическое и комическое. Это и определяет жанр будущего фильма.
Студия имени Довженко встречает свой полувековой юбилей обновленной. За последние годы здесь дебютировало немало молодых режиссеров, операторов, художников, актеров. Поэтому студия напоминает мне поле, которое засеяли и от которого ждут всходов. Не каждый из дебютантов принес и принесет настоящие творческие плоды. На подлинный успех могут рассчитывать только те, кто прижал к своему сердцу маленькую веточку яблоньки, посаженную добрыми и талантливыми руками Александра Петровича Довженко.
Двум людям я обязан тем, что стал артистом кино, — Ивану Пырьеву и Леониду Лукову. «Большая жизнь» (первая серия) снималась, как говорится, взахлест с «Трактористами» — фильмом, в котором я дебютировал.
Как-то в коридоре Киевской киностудии мне повстречался мощный человек — полный, широкий, показавшийся мне огромным и необъятным. Он гулко покашливал, попыхивая дымом трубки. Он чем-то напоминал Бальзака…
Остановился, пристально посмотрел на меня, отрывисто спросил:
— Вы Андреев?
Я робко кивнул. А он закашлял, запыхтел, заулыбался.
— Рад пожать руку. Смотрел ваш материал «Трактористов». Образ Назара Думы по характеру массивен, тяжел, но очень легок в вашем исполнении. Поздравляю. Молодец!
Крепко стиснул руку, затряс, весь сияя от радости.
— А ты меня любишь? — вдруг спросил он, неожиданно переходя на «ты» и с лукавинкой в глазах.
— Я не физиономист, — степенно ответил я, несколько ошарашенный неожиданным вопросом, — но внешне вы производите очень приятное впечатление.
И снова он закашлял, запыхтел, обволакивая себя дымом.
— А ты знаешь мою фамилию? Кто я?
— Наверное, режиссер. Ибо вижу, как проходящие мимо актеры особо подчеркнуто с вами здороваются.
Неожиданно он громко и раскатисто расхохотался. Похлопал по плечу. Обнял.
— Здорово! А ты видал мою картину «Я люблю»? Понравилась?
— Я считаю эту картину очень близкой, родной моему сердцу, — волнуясь, ответил я. — Потому что сам выходец примерно из такой же среды: я из волжан. В этой картине я увидел не попытку показать правду жизни, а увидел саму жизнь.
Луков закивал головой, продолжая улыбаться.
— Эту картину любят люди твоего типа, — сказал он мягко. — Ее любит Донбасс. А это мне особенно дорого… Ну. я считаю, — вдруг как бы подвел итог он, — что мы с тобой уже познакомились и подружились. Ты, вижу, прошел «университеты
Небось многие профессии сменил. Наверное, и грузчиком был?
— Не без того. Работа эта знакомая. Платили знатно — целый калач за смену и банку консервов.
— Ну, я вижу, ты здорово вырос на этих харчах. Видно, волжские калачи пошли тебе на пользу!
Лицо его вдруг сделалось серьезным. Сказал, что хочет поговорить со мной о своем новом фильме, в котором хотел бы занять меня.
Так мы впервые встретились. А в один прекрасный день пригласил он меня и Петю Алейникова к себе домой. Рассказал о замысле кинокартины о шахтерах Донбасса. Читал отрывки из сценария, и я впервые познакомился с Балуном. А потом мы стали встречаться все чаще. И меня все больше захватывал образ сильного, своеобразного, противоречивого парня, черты характера которого вырисовывались из бесед с Луковым. Из первых же наших задушевных бесед я понял, что режиссер Луков не мыслит себе работы в кинематографе без предельного внутреннего контакта с актерами.
Это я почувствовал с особенной силой, уже столкнувшись с Луковым в непосредственной работе над фильмом «Большая жизнь».
Луков был шумным человеком, но творчество его рождалось в напряженной тишине, когда остро замечаешь тонкость и задушевность авторского замысла. Эту творческую тишину Леонид Давыдович умел создавать удивительно. Он всегда любил, подсев поближе к актерам, слушать диалог, моментально подмечая малейшую фальшь в интонациях. Он умел необычайно тонко находить причины, породившие эту фальшь.
Снимали мы фильм «Большая жизнь» в городе Шахты под Ростовом. Поначалу он все время добивался того, чтобы мы как можно чаще опускались в шахту, в забой, занимались отработкой молотка, чтобы на шахте мы чувствовали себя так же, как чувствует себя истинный шахтер, — органично, естественно. Луков добивался того, чтобы мы ощутили в себе качества труженика, который живет своей будничной суровой жизнью и как бы не чувствует героики своей профессии.
— Пусть эта романтика, — говорил Луков, — будет сама собой разумеющейся. Пусть она не будет ничем педалирована. Красота — в простоте. Величие — в безыскусственности, в естественности.
В конце концов мы стали такими же простыми и обычными, как и все шахтеры. Луков вырабатывал в нас органичность поведения человека в определенной среде и его единство с этой средой. Работа с Луковым над этой картиной была и большой школой мастерства и школой жизни, так как помогла мне, во-первых, познать очень многое в профессии актера, а во-вторых, приобщиться к великой и неисчерпаемой теме показа рабочего класса и рабочего человека.
Луков редкостно умел радоваться ощущению правды. Он дышал правдой. Он не признавал ничего другого в искусстве, кроме правды. Он был, как ребенок, непосредствен. Он весь светился радостью творчества. И для меня каждый съемочный день, каждая встреча с Луковым были счастьем творчества. Радостью познавания, открытий, находок.
Потом мы встретились с ним в работе над картиной «Два бойца». Об этом писать надо отдельно и очень подробно, это я сделаю в другой раз. Луков очень хорошо знал человека в мирное время. И он отлично знал, как поведет себя простой человек на войне. Мне трудно говорить об этом фильме — я играл в нем одну из главных ролей, но то, что благодаря, я бы сказал, подлинно вдохновенному режиссерскому труду Лукова был найден этим фильмом ключ к сердцу простого солдата, — бесспорно.
Мы очень любили друг друга. Были очень дружны, хоть последние годы не встречались на съемочной площадке по разным причинам — чаще случайным. Об этом я горько сожалею, ибо до сих пор редко испытываю такое острое, трудно передаваемое словами творческое наслаждение, какое испытывал я в то время, когда работал с Луковым, когда учился у него великой жизненной правде.
Спасибо тебе, мастер, за все, что ты сделал для меня, за то. что дарил ты мне свое вдохновение, любовь, дружбу.
Невозможно представить себе советское киноискусство без кинорежиссера Ивана Пырьева. Нет у нас человека, который не знал бы и не любил его картин. Они очень разные: веселые, лирические, трагические, но всегда удивительно народные по духу. В этом, мне кажется, и заключается их всеобщая популярность.
Пырьев принадлежит к числу тех художников, которых не надо было «звать в народ», призывать понимать народную душу. Выходец из бедняцкой деревенской семьи, сам познавший тяжесть и благородство крестьянского труда, он через всю свою жизнь художника пронес самозабвенную любовь к земле, к людям, возделывающим ее. И эту любовь режиссер выразил по-своему: звонко, озорно, ярко.
Он был человеком бойцовского характера, неугомонного темперамента, неуемной энергии. Мне думается, именно потребность выразить свою кипучую натуру определила его творческую жизнь. В четырнадцать лет он в поисках романтики отправляется на фронт. Это был 1915 год. Проявляет себя героем и награждается за храбрость двумя Георгиевскими крестами. Потом он боец Красной Армии. Необыкновенное время — революция, гражданская война, первые годы Советской власти — оказывает огромное влияние на молодого человека, на формирование его мировоззрения, его гражданских позиций.
К Ивану Александровичу Пырьеву у меня отношение особое еще и потому, что в его фильме «Трактористы» я дебютировал в кино.
После окончания театральной школы в 1937 году я работал в Саратовском драмтеатре, когда меня пригласили на киностудию «Мосфильм». Первая встреча с известным советским кинорежиссером разочаровала. Мои представления о внешнем облике людей этой профессии складывались по киножурналам двадцать пятого года, которые я как-то купил на саратовском базаре. Вместо ожидаемой импозантной фигуры в гольфах, крагах, клетчатом пиджаке и неимоверных размеров кепи я увидел мужика выше среднего роста, подчеркнуто небрежного в одежде. Он даже напоминал агитатора, которого все мы тогда, после стихов Маяковского, искали. Сейчас я понимаю, что тут была, скорее, своеобразная бравада, рассчитанная на определенный эффект, но в молодости все принималось за чистую монету.
…Итак, я в первый раз увидел Ивана Пырьева. Кепка с выпирающего затылка была сдвинута на серые глаза, которые беспокойно, внимательно и недоверчиво ощупывали меня из-под козырька.
Он рассматривал меня да и вообще каждого актера, впервые им приглашенного, словно прикидывал прочность, добротность строительного материала, подлежащего приобретению, и при этом локтями согнутых рук подтягивал постоянно сползавшие с тощего живота брюки, деловито пошмыгивая носом.
— Ну-ка, повернись, — сказал он голосом, не предвещавшим ничего хорошего.
Я повернулся.
— Пройдись!..
Я лениво зашагал по кругу.
— А ну, бегом!.. — сказал он очень сурово, и в голосе зазвучала сталь закрученной пружины.
Я посмотрел на своего мучителя глазами затравленного волка.
— Подходяще, — сказал Пырьев. — Не протестую, будем пробовать на Назара Думу.
— А ведь я приглашал его на Клима Ярко, — прозвучала запоздавшая реплика ассистента режиссера.
Слегка побледнев и набрав полную грудь воздуха, Пырьев произнес монолог, исполненный трагического пафоса. Я не помню дословно всего сказанного тогда Иваном Александровичем, но сказал он примерно следующее:
— Это какому же кретину могло прийти в голову пригласить такую шалопутную человеческую особь на роль Клима Ярко, на роль героя-любовника?!
И он злобно впился в меня глазами, отчего мне стало совсем неловко.
— Клим Ярко — урожденный Крючков с Красной Пресни! А вот Назар Дума теперь будет Андреев с Волги!.. Он же рожден для того, чтобы прийти в искусство и уйти из него Назаром Думою!
Теперь глаза его смотрели на меня ласково и интонация подобрела, стала почти умильной, хотя и с оттенком еще непонятного мне сарказма…
Я не остался только Назаром Думою. Снимался много, в разных картинах, у разных режиссеров. Но работу с Иваном Пырьевым рассматриваю как период жизни необычайно своеобразный и значительный. Я имел возможность часто наблюдать его в деле, но, как ни странно, ни тогда, ни сейчас не могу даже для себя объяснить до конца сложный, противоречивый характер Ивана Александровича.
Человек необузданно стихийный, он напоминал мне Чапаева, но Чапаева, который так и не принял Фурманова до конца. В его любви к искусству, в отношении к собственной работе было что-то религиозное, фанатическое, что-то истовое.
Понятно, что в этих словах не надо искать характеристику мировоззрения Пырьева: я пытаюсь только найти выражение для своего ощущения характера режиссера. Трудно, очень трудно и, по-моему, мало кому удалось проникнуть в личный мир Ивана Александровича. Мало кому открывалось то сокровенное, сокрытое в глубинах его души, что составляло его суть. На поверхности же… В свое время некоторые режиссеры, которым приходилось работать рядом с Пырьевым, часто жаловались на его необъективность — он судил их работы по законам, которые сам исповедовал. И суд его был суров и непреклонен. Но многие ли понимали, как он был одинок в своих сокровенных чувствах и как сполна «выкладывался» в своем искусстве. И редко позволял себе открываться, искать интимной близости даже с теми, с кем работал долго и согласно. При мне, скажем, актерам никогда не удавалось вовлечь его в какую-либо задушевную беседу. И в то же время он был нераздельно и постоянно со всеми, но в этом «со всеми» для человека чуткого и внимательного опять-таки существовала некая особенность: он был со всеми, но как с людьми, исполняющими дело его жизни, его творческую волю. Да, он любил хорошего сопостановщика, как любил добросовестного парикмахера, даже рассыльного, кого угодно, любил всех, кто обладал его, пырьевской, преданностью делу, беспредельной выносливостью, терпением и отличным знанием дела. Это была любовь требовательная, любовь владельца к хорошо отлаженному механизму, способному безупречно выполнить поставленную задачу. И это было во многом прекрасно. Тем более, что тоже очень важно, он умел подбирать людей и поддерживать в них дух целеустремленной активности. Ведь, начиная сниматься, ты попадаешь не только в круг общения с милыми людьми, но и в сложнейшую трудовую атмосферу. И меня, когда я работал с Пырьевым, всегда захватывало настроение внутренней напряженной готовности к труду, стиль высокого профессионализма.
Достигалось это прежде всего благодаря настойчивой и усиленной отработке кадра до начала съемки. Гонять нерадивого актера на репетициях он мог, как говорится, до седьмого пота. И он гонял беспощадно и настойчиво до той поры, пока не возникал окончательно устраивающий его вариант. Взаимоотношения актера и режиссера во время съемок порой могли обостриться, так что я, например, почти всегда выходил на съемочную площадку так, как боксер, очевидно, выходит на ринг. Я всегда был во всеоружии, был готов немедленно приступить к «поединку».
Мне нравилось работать с Иваном Александровичем еще и потому, что в процессе репетиций и съемок он никогда не ставил перед актером умозрительных задач. Он давал конкретное решение эпизода, сцены, а потом уже сам актер, вдохновению интуиции которого режиссер доверял, мог развивать и обогащать характер своего героя. Иван Александрович хорошо знал цену актерскому вдохновению, никогда не подавлял его тяжестью теоретических умствований или школьных правил. Именно он первый обратил мое внимание на то, что до окончания съемочного процесса актер не должен много оговаривать свою роль, закреплять сущность создаваемого образа в законченных формулировках. От высказанного, выговоренного возникает — пусть неосознанно — ложное ощущение уже достигнутого, пережитого. Работа на съемочной площадке тогда становится всего лишь повторением пройденного. Может быть, это мое личное ощущение, но оно проверено многими годами работы в кино. Я лично больше всего боюсь потерянной свободы и угнетенной интуиции во время съемки. Этого же всегда боялся, не терпел Иван Александрович Пырьев. Я помню, как одному из актеров он не без присущего ему лукавого ехидства заметил: «Каждый художник в школе заучивает правила для того, чтобы потом не думать о них. Так что, дорогой друг, помимо школы неплохо бы иметь в своей черепной коробочке еще и личную академию».
…Поистине величава и прекрасна украинская ночь, да еще у такой чудесной реки с тихими камышовыми заводями, как Буг, да еще в таком чудесном, добром селе, как Гурьевка под Николаевом, где мы снимали картину «Трактористы». Мила моему сердцу и незабываема Украина с гостеприимными и великодушными ее жителями, с добрым вином и незабываемо чудесными песнями, услышанными тогда мною впервые в жизни и живо воспринятыми. Особенно когда, бывало, часа в четыре утра возвращались с Петром Алейниковым с сельской вечеринки, возвращались, когда на селе все уже спали и только светилось окно у Ивана Александровича.
«Рисует формулы вдохновения», — тихо фыркает в кулак Петро. Листы с этими формулами мы видели потом неоднократно. Там с точностью до сантиметров бывали расписаны будущие кадры картины: кто и откуда появляется, где стоит аппарат, что должно быть в кадре, начиная от могучих тракторов и кончая пригоршней семечек. Поэтому задания режиссера для всех тружеников группы были всегда точными, а исполнение — неукоснительным. В противном случае гнев шефа мог разгореться с необычайной силой. Все об этом постоянно помнили. И потому редко кому приходило в голову испытывать своеобразие некоторых воспитательных приемов Ивана Александровича.
Ясность желаний и точность выбора средств для достижения цели лежали, как мне кажется, в основе его творческого метода. Актеры, как правило, выбирались точно и наверняка. У меня даже складывалось впечатление, что сценарий он с самого начала рассчитывал на определенный круг исполнителей. Сценарий он знал наизусть, а фильм представлял во всех подробностях, как бы слышал его внутренним слухом. Я неоднократно ловил себя на мысли, что он проводит репетицию, как бы сравнивая ее течение с невидимой для нас картиной, до мелочей уже отпечатанной в его сознании.
Пырьев любил иногда показать актеру характер его героя, — это свойственно почти всем режиссерам, которые пришли к своей профессии из актерской среды. Хотя в его показе и проскальзывала карикатурная приблизительность, сам он этого не сознавал. Да и актерам его преувеличения были понятны. Его показы надо было уметь расшифровать. И все расшифрованное естественно выразить в манере и стилистике всей картины. Когда же актер ограничивался абсолютно точной имитацией показа, Пырьев негодовал. Он менее всего почитал актера зеркалом и бешено оглядывал его, как строптивого кривляку, исказившего вдохновение великого лицедея.
Когда Пырьев чувствовал неточность или даже ничтожную недоделку, недотяжку до желаемого результата, он снимал иногда до тридцати дублей кряду, впадая в состояние своеобразного злобного исступления. Режиссер при этом ничего не объяснял актеру и как бы сек его дублями.
…Ивана Александровича вообще, как правило, характеризовали необузданная человеческая неистовость и частые захлесты темперамента. Вот и сейчас смешная трагикомическая картина встает перед моими глазами. Летняя, опаленная зноем украинская степь. Обжигает горячий ветер. Во рту полынная горечь. Прямо от камеры ретиво мчится задыхающийся от усилий трактор, стараясь для кино проявить несвойственную ему прыть. Ветер несет, поднимает столбы черной пыли, из-за которых драматически проглядывают солнечные блики. Трактор мчится, съемочная бригада в напряжении у камеры, стоим и мы, пока свободные от съемки артисты. Все с волнением следят за тем, как выполняется поставленная режиссером и оператором задача. В этот момент неистовый крик, усиленный жестяным рупором, вдруг оглашает съемочную площадку. Все невольно содрогнулись. Подобно тигру, наступившему на горячий окурок, режиссер метнулся вперед, что-то неистово крича трактористу. Тот оглянулся и, увидев лицо режиссера, прибавил газу. Режиссер тем не менее быстро настиг удирающий от него механизм и, уцепившись за трактор левой рукой, правой колотил его рупором. Нам было понятно — тракторист не обернулся в нужный момент и не помахал рукой, как это было задумано. И эта ошибка привела режиссера к тому, что, полузаваленный добротным черноземом, он судорожно пытался удержать могучую машину. И все это было всерьез! Во всем этом и был характер Пырьева. Характер человека страстного, неуемного в труде своем, человека удивительно противоречивого, всегда вздыбливающего и будоражащего окружавшую его среду.
…Об этом человеке, так недавно ушедшем от нас, трудно поэтому слагать привычный заупокойный псалом. Да псалом и не к лицу этому удивительному человеку, с его своеобразным нравом.
Неистовое брожение души никогда не прекращалось в этом замечательном художнике, фильмы которого были так любимы массовым зрителем. И удивительно: любя актера, он был и до конца остался сторонником режиссерского кинематографа, сторонником режиссерского диктата. И это несмотря на то, что вся прелесть его картины в богатстве ярких человеческих характеров, в своеобразной — применительно к жанру его картин — тонкости актерского мастерства. Будучи председателем актерской секции, я не раз сталкивался с ним, досадуя на его диктаторские замашки. Досадовал и… любил его, этого единственного в своем роде, неповторимого, постоянно сжигаемого вдохновением человека.
Любил творческие напряженные встречи с ним в кинокартинах. Любил стилизованно подчеркнутую широкую народную натуру героев его картин. Любил раздолье и широту просторов, на которые он звал нас своим ярким, праздничным искусством.
Душа его всегда была напряжена, как туго закрученная пружина. Вряд ли он когда-нибудь испытывал состояние расслабленного покоя. Его работы никогда не делились на большие и незначительные. Каждой из них всегда сопутствовал неистовый поиск красоты углубленной человеческой характеристики. Этот художник любил человека и с чудесной проникновенностью понимал всю его сложность и многогранность. Настороженная ревность к образу никогда не покидала его сознания, в работе он не знал предела.
Марк порою буквально изматывал режиссеров и сценаристов, добиваясь более полной характеристики своего героя. Каждая незначительная на первый взгляд фраза оттачивалась и перекраивалась в десятках вариантов. И кропотливым отбором утверждалась драгоценная ясность как результат его дотошного поиска. Он настойчиво и упорно отстаивал яркость и первоплановость своего героя. Стоял за него непоколебимо, как старый, видавший виды солдат — за свое окопное хозяйство.
Некоторые усматривали в этом проявление своеобразного эгоизма. Но вряд ли можно упрекнуть художника за разумное и настойчивое стремление к предельно возможному совершенству. Здесь чаще всего проявлялась обостренная добропорядочность Марка, идущая от повышенного чувства ответственности. Неоднократно работая с Бернесом, я всегда с удовольствием вовлекался в круг его благодатной творческой напряженности.
Мы подружились еще в тридцатых годах, когда все то, что стало сейчас воспоминаниями, было впереди.
Нынче моему другу, коллеге и партнеру, Николаю Афанасьевичу Крючкову, исполнилось семьдесят лет. Он сыграл в кино более ста ролей, и я душевно рад, что встретил он свой юбилей в добром здравии, находясь, как говорится, в строю.
В искусство, а точнее — на сцену, Крючков пришел в годы, когда бушевали в театре творческие страсти — Художественный и «Синяя блуза», Таиров и Мейерхольд… Молодому и неопытному парню, вчерашнему граверу-накатчику с Трехгорки, ставшему актером, легко было растеряться в такой разноголосице школ и направлений. Но ему помогли правильно сориентироваться социальная среда, в которой он вырос, пролетарское чутье.
Николай Афанасьевич «чистых кровей» пролетарий. Родился и вырос в рабочей семье, где было восемь детей. В детстве знал он голод и нищету, но узнал и цену крепкой рабочей дружбы, настоящей человеческой доброты, щедрости, солидарности.
Николай Афанасьевич принадлежит к славному поколению комсомолии двадцатых годов, которая с энтузиазмом строила будущее своей страны. Крючкова привело в искусство страстное желание рассказать о своих замечательных современниках. С ним он и вышел на подмостки только что образовавшегося в Москве ТРАМа — Театра рабочей молодежи.
В образах героев, сыгранных им в театре и кино, отражена биография страны, славная судьба поколения, одухотворенного пафосом созидания новой, счастливой жизни.
Впервые я встретился с ним на съемках картины И. Пырьева «Трактористы». Герой Крючкова был, как и он сам, «рубаха-парень», с открытым сердцем и душой, сплошная доброжелательность. И в то же время человек абсолютно бескомпромиссный в деле. Уже тогда я заметил, что Крючкова отличает редкая скромность, хотя в то время, когда снималась картина «Трактористы», он был уже известным кинематографистом.
Более сорока лет прошло с тех пор, и по сей день мы дружим с Николаем Афанасьевичем. Припоминаю сыгранное им на экране и думаю о том, что природа щедро одарила его истинно народным талантом. Это проявляется в любом созданном им характере — будь то Клим Ярко («Трактористы») или Сергей Луконин («Парень из нашего города»), Кухарьков («Бессмертный гарнизон») или комиссар Евсюков («Сорок первый»), таксист Батя («Горожане») или дядя Коля («Осенний марафон»).
Николай Афанасьевич обладает удивительным даром перевоплощения. И это результат не только огромного таланта, мастерства, но и трудолюбия, природной любознательности актера, постоянно вглядывающегося в людей, изучающего их психологию, манеру поведения. Он очень общителен. Люди это чувствуют и тоже тянутся к нему. В том числе и те, кому довелось слышать от Крючкова отнюдь не только лестные для них оценки. Видимо, дело в том, что он всегда искренен с человеком, всегда доброжелателен — это и привлекает.
Он одинаково прост и естествен в разговоре со знаменитым коллегой и с начинающим актером, в дебатах на художественном совете и в дружеской беседе с монтировщиком декораций. В работе Николай Афанасьевич по-настоящему отважен. На съемках ему приходилось и в танке гореть, и управлять самолетом «У-2», и прыгать с высоты на припорошенный снегом лед Москвы-реки. Однажды на съемках фильма «Суд» он сломал ногу, но на следующий день срезал гипс и продолжал сниматься, превозмогая боль, — не хотел подвести товарищей.
Хочется подчеркнуть, что талант Николая Афанасьевича — это истинно русский талант, необычайно чуткий ко всему, что трогает сердца его соотечественников. И в этом, наверное, тоже разгадка его необычайной популярности, которая поистине не имеет границ — Крючкова одинаково знают и любят как в столице, так и на дальних окраинах нашей страны. Немало у него друзей и среди зарубежных зрителей и кинематографистов.
Кроме актерского у Николая Афанасьевича есть еще талант — талант рыбака! Если там, куда отправился он в киноэкспедицию, есть хоть крошечная речушка, — ищите его на рассвете на берегу. И, конечно, не столько добыча его влечет, сколько любовь к природе, к ее неисчерпаемой красоте и вечной свежести.
Семьдесят лет народному артисту СССР Н. А. Крючкову — моему давнему и доброму другу. Право же, не верится — настолько активен он в жизни, в том деле, которому посвятил себя без остатка.
Доброго тебе здоровья, Николай Афанасьевич!
Его Максима узнал, кажется, весь мир. Когда Борис Петрович Чирков выезжал в зарубежные поездки, на улицах Праги, Парижа, Калькутты люди улыбались ему.
— Здравствуй, Максим!
Это большое актерское счастье — привести в кино героя. А вернее сказать, привести его в жизнь. Потому что такие, как Максим, перестают быть только героями фильма, становятся почти реальными, живыми людьми.
И недаром Борис Чирков хранит письмо третьеклассника, адресованное Максиму. У мальчишки не ладились школьные дела, и ему позарез надо было посоветоваться с надежным человеком. «Пожалуйста, — писал он, — разыщите в Москве Максима и сообщите мне его адрес…».
Если бы народный артист СССР Борис Чирков сыграл только одну эту роль, то и тогда он бы вошел в историю советского кино как замечательный актер — такой силы и правды образ, образ живой на все времена, он создал. Но в его творческой биографии уместились еще десятки героев — людей разных возрастов и профессий, непохожих характеров. Как забыть его человека с ружьем, его бородатого крестьянина из «Чапаева»?
До сих пор продолжается жизнь и его учителя Лаутина, интеллигента в первом поколении, одного из тех, кто первым принял в свои руки судьбы ребят Страны Советов, кому доверено было растить первое советское поколение.
Сейчас, через десятилетия, смотришь этот фильм и думаешь, как точно увидел актер прекрасный характер учителя: вдумчивого, чуткого, лишенного всякой самоуверенности, несмотря на свою великую по сравнению с односельчанами грамоту. Открытого людям, полного желания переделать худое на доброе, в том числе и в себе, в своем сердце.
Первородная естественность, доброта, искренность так и светят из глаз множества героев, созданных на экране Борисом Чирковым. Но куда упрятал он эти, казалось бы, совершенно неотторжимые от его натуры качества, когда играл маленького и злого наполеончика — Махно в фильме «Александр Пархоменко»? Здесь он явил высшее свойство актерского мастерства — способность к перевоплощению, способность освоить широкий диапазон человеческих характеров. Это доказал он и своим Кузовкиным в тургеневском «Нахлебнике».
Самый любимый его герой — добрый, деятельный, открытый жизни и людям человек нашего времени. Мы узнали и полюбили его начальника разведки Удивительного в картине «Фронт», его деда Тараса из фильма «Партизаны в степях Украины», санитара Жилина в картине «Дорогой мой человек» и многих, многих других.
Завтра Борису Петровичу Чиркову исполняется 80 лет. И в эти годы он удивительно, загадочно молод. Видно, не дают ему стареть его герои и мы, зрители, потому что ждем его новых работ.
Повесть «Жестокость» Павла Нилина свела меня и познакомила с режиссером Владимиром Скуйбиным, или просто Володей, сейчас человеком для меня необычайно близким и дорогим. Помню, повесть мною была прочитана взахлеб. Образ бандита Баукина глубоко взволновал мою душу, а ощущение живой выразительности образа, ощущение неожиданно познанной новой жизни постоянно не давало покоя разуму и воображению.
Как-то на студийном дворе повстречав Нилина, я выплеснул на него распиравший меня восторг и заявил, что будет кощунством, если по повести не снимут кинокартину.
— Сценарий готов и принят к постановке, — радушно, но оградительно-настороженно прогудел Нилин.
По его напряженности я понял, что где-то в тайниках души Нилин сомневается в моей близости к образу, а в стекле машины вдруг увидел свою округлую, неуместно добродушную физиономию, — она явно не совпадала с авторским описанием сухого, угловатого главаря бандитской шайки, а в глазах моих явно не светились угольки одинокого матерого волка. Но образ Баукина бился в груди и просился к выражению.
— Буду пробоваться, — сказал я мрачным голосом боксера, жаждущего реванша.
— Пробуйся, — ответил писатель, — я скажу режиссеру, жди вызова.
В этом вялом «пробуйся» явно прозвучало сомнение, отнюдь не вселившее в меня бодрости, но и не убившее во мне настойчивого желания.
Через неделю мы встретились с режиссером.
Молодой блондин в сером костюме, с серыми глазами, скрывающими легкую, как показалось, самоуверенную усмешку, вначале явно пришелся мне не по душе.
— Скуйбин, — подчеркнуто сухо и вежливо сказал старательно отутюженный костюм и протянул мне свою прохладную, едва согнувшуюся в пожатии руку.
Я ничего еще не знал тогда, не знал, что рука дорогого Вовки уже давно поздоровалась со смертью, что он ясно представляет себе бессилие врачей и свою явную приговоренность…
Типичный надменный, самовлюбленный мальчик с режиссерских курсов, подумал я тогда. Ну и шут с ним, с его самоуверенностью и надменностью. Он сейчас обладает кладом. Этот клад — душа бандита Баукина, которая явно создана по моему размеру, по моей собственной душе.
Закончив знакомство, мы сразу же приступили к волнующему нас делу — к разбору прочитанной повести и ее драматургического воплощения.
Наш разговор сразу же принял горячую и обостренную форму. Неприятное впечатление от первой встречи быстро рассеивалось, уступив место радостному восприятию художника-единомышленника, волнующему открытию человека тонкой души и живой, своеобразной мысли.
— Я согласен! Абсолютно согласен! Никакой внешней романтики, — уже кричал я, — к чертям все это внешнее украшенчество! Важен внутренний мир человеческих переживаний. Процесс накопления и слом! Прозрение, наткнувшееся на тупость!
— Но страшно замкнуться в личности, — перебивает меня Владимир, — очень опасно погрязнуть в индивидуальных частностях человеческих характеристик. Многое здесь для нашего поколения должно прозвучать печально общим. Тупая подчиненность, автоматизм отношения к судьбам людей, к человеческой личности, — эта картина, несомненно, о душевной косности, а душевная косность — верная повитуха жестокости.
Работа спорилась. Вскоре пробу мою утвердили, и я стал исполнителем желанного для меня образа.
Мы не чувствовали и не ощущали той нервозной напряженности, которая обычно сопутствует первым поискам черт нового человеческого характера.
Существо образа, его глубокий смысл постепенно проявлялись от постижения драматургии Нилина в острых полемических беседах, которые умел возбуждать Владимир, направляя творческую мысль коллектива по пути поиска.
Нилина побаивались. Этот драматург, в отличие от многих, не покидал картины от истоков ее сценического воплощения до самой завершенности, никогда не шел на компромиссы со своей убежденностью, был человеком прямым и откровенным. Мы все время находились в поле зрения молчаливых наблюдений этого сурового и ревнивого критика. И только где-то в середине картины с меня свалились вдруг вериги непокидающей, постоянной творческой настороженности. Веселый и взволнованный режиссер ввалился в гримерную, облапил опешившего «бандита» за плечи и закричал: «Ура! Мы победили Нилина!..» После просмотра материала писатель признал, что образ Баукина в кино, по внешним признакам отчасти расходясь с литературным образом, все же вполне соответствует его основному замыслу.
Признание драматурга ввело работу над фильмом в нормальный ритм.
Мы отправились в экспедицию… И в сложных условиях съемки на натуре Скуйбин справлялся с работой над фильмом отличнейшим образом.
Ясный и простой, немногословный и справедливый, он всегда находил верный ключ к каждому человеческому характеру. Владимира любили и уважали. Его замечания в работе всегда были продуманными и почти никогда и ни у кого не вызывали возражений.
Ясность режиссерского замысла и средств его сценического выражения явилась основой творческой манеры этого сравнительно еще молодого режиссера. Умение терпеливо выслушивать вдруг возникающие у кого-то предложения и домыслы по поводу того или иного образа, умение необидно отвести внезапно возникшую и торопливо высказанную, непродуманную мысль, умение искренне радоваться полезной и остроумной находке другого возбуждало здоровое желание у всех участников съемки постоян но искать неожиданно новое и интересное.
Прежде чем принять исполнителя на роль, Владимир долго приглядывался к незнакомому актеру. Я заметил, что некоторых он по три-четыре раза вызывал, как бы на ничего не значащее собеседование. Знакомого ему человека брал сразу же, не мучая бесконечными пробами, и в принятом был твердо уверен, так как всегда точно знал, что ему нужно от того или иного артиста и что таится в его сложной человеческой индивидуальности. Владимир умел познавать в актере глубину человеческой сущности, своеобразие творческой индивидуальности, гибкость ума и скрытые с первого взгляда возможности.
Как-то Владимир мне сказал, что больше всего в принимаемом на роль актере он боится первого сходства с образом. Сходство часто необычайно подкупает, но в то же время и обманывает режиссера. Сходство может так и остаться внешним сходством с образом, и не более, а вот истина образа, его суть, его глубина окажутся в стороне.
Скуйбину удавалось необычайно точно и ясно объяснять замысел. Он умел проникаться природой образов, сутью их глубин ной психологии, выявлять причинность поступков того или иного персонажа.
Владимир никогда не упускал случая взбудоражить мысль окружающих, подтолкнуть к творческому раздумью, простую, обыденную беседу перевести в плоскость освоения проблем, имеющих непосредственное отношение к будущему фильму.
Где-нибудь в перерыве между съемками или за обеденным столом вдруг поднимался вопрос часто бесспорный, житейски нудный и избитый. Владимир с серьезностью прислушивался к нему, как говорится, подливая масла в огонь — и спор разгорался, обретал вдруг новый, неожиданный смысл, глубину, приносил вдруг неожиданную ясность. Так однажды до полуночи мы спорили на тему о том, как рождается чиновничья самоуверенность, человеческая жестокость и как посредственный разум силой наглости обретает видимость величия.
Вопросы и споры всплывали как бы сами собой, но как-то. обдумывая день прошедший, я понял, что Владимир был не бесстрастным членом беседующей и спорящей компании. Он хитро и умно вводил беседу в нужное и желаемое для него русло, определяя философский смысл и идейное направление нашего фильма.
Подобная манера оказалась методом. Сейчас я не ручаюсь за стенографическую точность, но содержание мысли, как-то высказанной им, заключалось примерно в следующем:
«Режиссер в группе обязан постоянно поддерживать на съемках атмосферу творческого трудового напряжения. Очень жалею, что не имею возможности работать с актером по-настоящему. Предварительных репетиций нет. Нормальной коллективной отработки сценария нет. Все — наспех, все — на съемочной площадке…
Умение создавать вокруг себя творческую атмосферу мне кажется умением очень сложным. Оно требует огромной самодисциплины и методической настойчивости. Опасно свыкнуться с хаосом. Правда, на съемке очень устаешь и часто появляется желание легкости. Это штука опасная.
Иногда тебе кажется в этой неожиданной легкости обретенное мастерство, а на самом деле просто произошла потеря принципиальности.
Я вот говорю сейчас о репетициях, а ведь где-то в душе своей и я против них — свыкся! А твердо ведь знаю — свыкание с легкостью губит художника. Гибнет настойчивость к поиску. Является стремление к ремесленной ясности — и конец, жизнь оборвалась…
И в то же время чувствуешь, что легкость-то нужна. Не награждать же себя насильственными веригами трудностей?
А в чем легкость творчества? По-моему, в ясности, а ясность — это очень сложно. Это постоянный поиск, это постоянный самоконтроль и непременно честность, ну хотя бы как ясность признания самому себе — я пошел по легкой легкости.
Здесь Вовка захохотал, с явным желанием снять поэтику и прикрыться шуткой, но было ясно, что в высказанном в чем-то выплеснулось то, что глубоко волновало его.
Конец марта. Картина идет к концу. В районе Загорска снимаем последние сцены. Весна забирает свое. Метели теплые. Дни солнечные. Воздух пьянящий, какой-то необыкновенно желанный, рождающий ощущение радости.
После утомительного съемочного дня мы с Володей имели привычку непременно прогуливаться перед сном. Солнце прощалось ярким закатом. Мы не торопясь шагали по оживающим древней поэзией аллеям старого монастыря…
— Я скоро умру, — сказал Скуйбин и с азартом залепил снежком в заснеженную березу.
Мы все, зная, что болезнь режиссера прогрессирует, что выхода из положения нет, делали вид, что не замечаем ухудшения его состояния, да и сам Владимир имел мужество к удивительному отвлечению и не давал никакого повода считать себя нездоровым, а тем более — безнадежно больным.
— Болезнь науке известна, но лечения нет. Все в стадии опытов и экспериментов, — сказал он в раздумье, как бы самому себе, озорно ткнув носком валенка молодое дерево.
В голове моей закружились шаблонные, стереотипные фразы, которые обычно приходят к людям в подобной тягостной ситуации.
— Не знаю, — сказал я помедлив, — жизнь — сценарист самых парадоксальных неожиданностей, мало ли что может случиться…
— Для здорового человека, очевидно, все это полная ерунда, — прервал меня Володя. — Природа избавила его от этой убыточной осознанности, и, черт побери, кем же все это так здорово придумано? Здорово ведь?! — спросил он с каким-то задорным восхищением. А потом нахохлился. — А может быть, зря придумали… Жизнь кажется бесконечностью, и живет детина спустя рукава, торопиться некуда, волноваться нечего.
Он оглядел меня с ног до головы, встал в боксерскую стойку, стукнул прямым ударом в грудь. Затеялась озорная возня в сугробе…
Вечером у печки-голландки мы сидели за бутылкой сухого вина. Владимир задумчиво вспоминал прошлое:
— Мой отец — старый работник органов. Человек суровый или делал суровый вид, во всяком случае, был вечно занят. Пуговицы френча всегда были застегнуты все до единой, и я с детства почему-то всегда боялся и ненавидел этот наглухо застегнутый френч, скрывавший моего отца.
До сих пор я воспринимаю людей каким-то температурным ощущением, — сказал он, несколько поеживаясь, — мне всегда хотелось затопить печку, посадить возле нее своего отца с его сослуживцами и посмотреть, как они будут оттаивать. Я затопил эту печку как художник, как художник я таскаю в нее дрова и искренне уверен, что ближайшее поколение растопит всех служителей ледяного дома.
— И сценаристы строчат эти поленья дров, — подхватил я его возвышенную манеру, — и мы таскаем их и с жаром бросаем в топку киноискусства, и из топки вырывается и бьет горячее тепло…
С тех пор при каждой встрече у нас всегда заводился с Владимиром своеобразный «печной» разговор. Я уже не спрашивал, смотрел ли он отснятый материал. А спрашивал, заглядывал ли он в печку. Или — какие дровишки притащили артисты на вчерашнюю съемку. Ответы получал соответствующие, и мы отлично понимали друг друга, и это веселило и сближало нас.
Съемка кинокартины приближалась к концу. Холодно. Раннее, весеннее утро, солнце еще не вышло из-за горы, а киногруппа уже в лесу. Репетируем сцену проезда бандитов после налета на маслозавод. Лошади то и дело увязают в снегу. Бесконечные прорывы через чащу леса измотали артистов. Все окоченели, от лошадей валит пар.
Вот уже два дня, как мои руки и грудь охватывает какая-то доселе незнакомая мне боль. Она то вдруг приходит какими-то приступами, то вдруг исчезает, где-то погаснув, то неожиданно появляется вновь. Я терпеливо молчу, думая, что переношу сейчас последствия съемок одной из давних кинокартин, где в течение шести дней мне пришлось сниматься также ранней весной в горной ледяной воде. Кто-то сказал, что у меня, наверное, ревматизм, неплохо бы выпить салицилового спирта. От глотка спирта боль действительно затихла. Скуйбин по пояс барахтается в снегу, показывая, в каком месте должны падать и умирать бандиты. Я с болью и изумлением поглядывал на него, поражаясь силе духа и энергии этого человека. Я знал, что правая рука у него отнялась, а ноги едва подчинялись воле. Володя не подавал виду, отчаянно кричал в мегафон, пытаясь вселить бодрость в окончательно обессилевших артистов. В одну из репетиций страшная и непонятная боль окончательно сковала мне лопатки и грудь. Я едва удержался в седле и не мог шелохнуться.
— Андреев, выскакивай! Выскакивай!.. Падай в снег!
Я глотнул салицилки — боль не отпустила меня.
— Ну какого же черта!.. — услышал я разочарованную нотку из мегафона.
Около меня столпилась группа. Боль отошла, но какое-то ощущение близкой кончины или неминуемой ее возможности вдруг закралось в мое сознание. Мне было стыдно признаться в этом, и все же я спросил, глядя Владимиру прямо в глаза:
— Сколько надо прожить мне дней, чтобы отсняться в картине окончательно?
— Три дня, — сказал Владимир, глаза его смотрели на меня пытливо и настороженно.
Я спрыгнул с лошади. За меня выезжал для репетиции актер из окружения. Владимир чувствовал, что со мной творится что-то неладное, и старательно отснимал меня в первую очередь. Я держался как только мог, изо всех сил превозмогая приступы, и, не подавая виду, глотая салицилку, ползал в сугробах и злобно отстреливался холостыми патронами.
К концу третьего дня я понял, что силы оставляют меня. На санях меня доставили к врачу ближайшего санатория… Диагноз был категоричен и суров: инфаркт сердца…
Пролетели месяцы. Ушли больничные и санаторные койки, явилась радость выздоровления. Снова начался труд. Я отснялся в картине «Повесть пламенных лет», побывал в Чечено-Ингушетии с кинокартиной «Казаки», мотался в штормовой погоде Северного моря, участвуя в съемках фильма «Путь к причалу»… В общем, долго не встречал Володю. Слышал, что он работает над новой кинокартиной и что дело продвигается к концу. Я слышал, что здоровье Владимира иссякает и держится он исключительно на силе духа, мужестве и удивительной выдержке.
И вот мы увиделись… Володя шел по коридору «Мосфильма», двое молодых людей поддерживали его под руки. Они неожиданно появились из-за поворота и двигались мне навстречу. Честно говоря, я хотел миновать встречи, но было уже поздно. Владимир увидел меня и мягко заулыбался. Я боялся, что потеряю выдержку, не найду сразу же нужного тона и бухну что-нибудь неуместно-нелепое. Но тут же, забыв обо всем, облапил Володю и расцеловал с превеликой радостью.
Владимир, улыбаясь, осматривал меня. Первое волнение встречи прошло.
— Ну, как дрова? — спросил он. Речь его была уже едва внятной
— Дровишки попадались разные, — ответил я, — сейчас у меня последняя топка закончилась. Пришел узнать, не нужен ли кому истопник.
— И моя топка кончается, — сказал Владимир не без иронии. В ответе его звучал какой-то жестокий смысл. — А ты помнишь, — спросил он с раздумьем, — тебе нужно было всего три дня, нужных заданных три дня?.. И ты их выдержал. Чтобы закончить картину, мне нужно три месяца. Три месяца ровно, иначе печка не протопится… Три месяца, — повторил он. Здесь разговор был прерван подошедшими.
Мы распрощались, дав друг другу обещание непременно встретиться. Больше мы не виделись. Вскоре я уехал с кинокартиной в экспедицию и уже много времени спустя, в лесах Приднепровья, получил скорбную весть, что Владимир скончался.
Я сидел на берегу Днепра. Сердитые волны шлепались на песчаный берег. Воды реки широким потоком утекали вдаль. Я думал о жизни и ее движении, о непонятной мне силе разума, способной порой как бы остановить жизнь и удлинить ее во времени. Я думал о воле, способной собрать, кажется, уже исчерпанные силы, о человеке, сумевшем силу любви к искусству противопоставить злым силам разрушающего недуга.
Дорогие товарищи! Много добрых и больших надежд возлагаем мы, советские киноартисты, на образование творческого Союза киноработников. Мы искренне надеемся на то, что съезд, утвердив Союз, заложит коренную основу для преобразования всей деятельности нашей кинематографии.
В нашей стране кино, поставленное на службу великим целям своего народа, вырвано из рук частного предпринимательства. Но дух частного «я» еще иногда настойчиво прорывается в претензиях на исключительную обособленность и свободу. В нашей кинематографической общественности постоянно идет борьба двух пониманий творческой свободы. Это борьба личностей за диктат, чаще всего диктат режиссерский, и борьба личностей за подлинно демократическое управление. Нам, актерам, исключительно важно последнее. Свобода художника для нас заключается в борьбе за единство и сплочение всех творческих усилий, в достижении высочайших целей, поставленных перед нами партией и народом, в дружеском человеческом взаимопонимании, способствующем деловому творческому обогащению и взаимному совершенствованию. И нам кажется, будет правильным, если этот тезис будет записан в программу нашего творческого Союза.
Свободу художника мы видим в установлении незыблемой демократической структуры управления творческим хозяйством, имеющей ясные законы, определяющей права и обязательства, которые способны развить демократические творческие связи и ограничить и обуздать претензии на диктат и своеволие. Творческая свобода должна определяться ясностью трудовых обязательств, ясностью трудовых прав творческой индивидуальности.
Правовые положения должны быть выработаны при непременном участии Союза, на основе строгих общественно-демократических начал. Нарушение их должно контролироваться и разбираться избранным общественным органом, и слово его должно иметь непререкаемость закона. Сейчас трудовые отношения силою самодеятельности низового управленческого аппарата запущены до положения хаоса, в котором таится возможность проявления самодурства.
Если нужны примеры, актеры могут привести их достаточно много. Только вчера мы разбирали такой случай: пригласили актера на съемку, отсняли и отправили назад. Озвучили его роль другим голосом, сказав ему при этом: вы артист, дорогой, нам нужна ваша внешность, а озвучим мы вас другим актером, который стоит «подешевле».
Необходимо, наконец, внести ясность в трудовые права и обязанности артиста советского кинематографа, в обязанности и права молодых актеров, закончивших ВГИК и принятых на киностудии. Пока актер фактически бесправен, а работодатель режиссер — не несет по отношению к нему никаких производственных обязательств.
Товарищи режиссеры! Ведь вы же сами чувствуете необходимость иметь свободного профессионального артиста кино. Вы благословили существование ВГИКа. Многие из вас там работают профессорами. Ведь большинство из вас сами были юношами, трепетно заканчивавшими ВГИК или режиссерские курсы. Вы с волнением ожидали первой картины, с радостью принимали малейшую улыбку одобрения, с благодарностью хватали руку помощи, только бы дали. А получив первую постановку — почему вы сразу меняетесь? Может быть, с постановкой вам вручается особый, холодный разум особого режиссерского равнодушия? А может быть, и так, — как говорится, пути твои неисповедимы, господи! — может быть, вы считаете, что общественные интересы выше нужд ваших товарищей? Нет, вышедшая за вас замуж студентка актерского факультета считает, что она «на коне», и мы видим в дальнейшем, что она была дальновидной в определении вашей сущности: вы во многом перестали быть человеком. Человеческое, душевное обращение к вам бесполезно. Хозяйственно-приказное — немыслимо. Как же быть?
Кто должен создать актеров свободного штата, необходимого вам же? Вы хотите иметь его под рукой и не нести за него ни моральной, ни материальной ответственности. Это расточительство! Выхода нет и быть не может при тех безответственных условиях, на которых принимается ныне режиссер на кинопроизводство. Если бы они приходили на производство, которое ставило бы определенные трудовые условия, в том числе и условия необходимости работать с актерами, взятыми в штат производством, и только в случае отсутствия актерской индивидуальности приглашали нужного исполнителя со стороны, — они бы вынуждены были разумно и внимательно приглядываться к актеру, используя зачастую нетронутый арсенал его возможностей перевоплощения. Они бы научились работать с актером, что делать многие из них сейчас не умеют и, как нам кажется, даже опасаются. Большинство режиссеров просто боятся возможности актерского перевоплощения и набирают актеров по всем тем же завуалированным принципам подбора типажа.
Только типаж подбирается не случайно с улицы (это еще бытует, но в малых пропорциях), — типаж выбирается из актеров по принципу совпадения или приближения актерско-человеческих качеств к качествам того или иного заданного персонажа. Когда же типажность актера набьет оскомину, его, как говорится, «освежают», на его место во все те же предлагаемые обстоятельства приглашают нового, что и выдают за открытие новой актерской индивидуальности.
Надо признать, что сейчас, без ясности трудовых обязательств, при бесхозяйственности, при бессилии творчески-хозяйственного органа студии, без возможностей углубленной творческой работы с актерской индивидуальностью, прием профессионального актера на студию есть жестокая бессмыслица.
Принятый на студию вгиковец в течение трех лет обязан постоянно и вдумчиво выдвигаться на роли. За три года он должен не менее девяти раз выдвигаться на конкурсы крупных ролей или, допустим, непременно исполнить восемь — девять характерных эпизодов.
Принимаемый в штат актер должен получить определенные обязательства со стороны принимающих. Если актеру не предоставили определенных производственных трудовых условий, показывающих его профессиональную непригодность, актер не может быть уволен, а студия должна нести ответственность за бесхозное отношение к человеческой личности. Это будет справедливо и по-хозяйски.
Нас, актеров, настораживает серость и скука рядовых кинокартин. Причина этого — в бессовестном проникновении удивительно слабого и немощного сценарного материала. Здесь мы где-то пасуем, очевидно, перед изворотливым напором на все идущих мелких подельщиков от литературы. Очевидно, и некомпетентен мощный наш, очень мощный отряд редактуры, если он пропускает заведомый интеллектуальный брак, ничего не говорящий ни уму ни сердцу нашего зрителя. Во многом утеряли мы драгоценную способность художников проникаться и выражать здоровое мнение народа о себе, его, народное понятие своей красоты и своей особенности.
Чаще мы занимаемся самокопанием, так не свойственным великому советскому кинематографу. Говоря, что затрагиваем темы жизни, мы на деле во многом отучились горячо воспринимать переживания своего народа. Мы часто теряем ощущение размеров действительности, пытаемся измерить ее эталоном своей собственной индивидуальной сущности. И довольно редко, судя по количеству серых картин, нам удается распахивать широкие ворота в жизнь; чаще со своими картинами мы остаемся за воротами жизни, уходя в узкий, как правило, не очень глубокий мир субъективистского жизневосприятия. Произведения киноискусства в массе своей начинают терять ощущение народной подлинности, самобытность и яркую неповторимость характеристики образов, бесконечное богатство индивидуально-языковой характеристики и великое чувство народного юмора. Кинокартины теряют в связи с этим способность рождать заряд бодрости и человеческого здоровья.
Уже надоело и бесконечное жевание и беззубое возбуждение унылой безысходности, поднятой вокруг культа личности.
А победители в Великой Отечественной войне вдруг стали впадать в сентиментальное хныканье. Кинокартины военной темы вдруг заняли позицию тетки-приживалки, которая ежедневно, без конца поднимает и будирует в семье дух скорби и уныния по человеку всеми горячо любимому и дорогому. Вместо мужественных, достойных подражания и мужского уважения солдат мы начинаем назойливо показывать берестяные лозинки, уставших, надломленных нахалом врагом юношей, так и не успевших написать о себе лирического киносценария. Мы теряем тон достойного, благородного мужества. Кинокартины как бы взвинчивают нас на каждодневное элегическое страдание, измельчая наше большое чувство скорби.
Пропагандируемые нами песни уже невозможно слушать по радио. Бесконечная томная грусть с ощущением чего-то неопределенно утерянного, бесконечно ушедшего, космически холодного, затерянно одинокого. Очевидно, под знаком международной солидарности они тянутся на иностранный лад, а слова, умышленно калечатся, коверкаются привнесением какого-то неслыханного акцента, который назойливо насилует и уродует под музыку здоровую российскую речь. Мы искренне надеемся, что творческий Союз под руководством ЦК нашей партии поможет навести порядок в программировании кинокартин на генеральные темы, позаботится об их мажорном тоне и элементах воздействия на зрителя, будет способствовать развитию здорового, жизнерадостного искусства, наведет порядок в деле создания хороших киносценариев, закроет наконец щели для проникновения сценарной литературщины.
Для решения актерской проблемы на «Мосфильме» организуется творческое актерское объединение. Мы искренне намерены нащупать и провести в жизнь новые, необходимые нам творческие взаимоотношения, в корне ломая все условности, мешающие создать по-хозяйски добрый, демократический творческий коллектив создателей кинопроизведений.
Мы искренне надеемся привить и закрепить нормальный, культурный метод работы, необходимый созданию постановочнодраматического произведения.
Мы надеемся, что творческий Союз всячески будет помогать осуществлению этого необходимого всей кинематографии замысла.
Мы, профессиональные артисты кино, считаем необходимым иметь для студийной работы и творческого роста артистов кино свою постоянную сценическую площадку. Она необходима для всех артистов, как молодых, так и собирающихся уходить на пенсию. Помимо сценической деятельности на ней будет организован большой цикл публичных выступлений артистов, тоже требующий развития этих навыков, разумного руководства и пристального внимания. Учитывая большую нашу деятельность по линии Бюро кинопропаганды, мы просим творческий Союз настоятельно поставить перед правительством вопрос о закреплении за нами помещения Театра киноактера по улице Воровского, 33.
Бюро актерской секции Оргкомитета неоднократно поднимало вопрос о культуре труда и методике работы над ролью. Творческий процесс и метод работы над созданием кинокартины на студиях поставлен так, что основой основ всех целей является план, прогрессивная удешевляемость производственнотворческого процесса. А наряду с этим — непременное повышение художественного качества и идейного содержания кинокартин. Бесспорно, всего этого необходимо придерживаться, но не теряя грани разумного и естественно необходимого.
Слабая культура производства, низкий уровень профессиональных работников групп среднего исполнительно-подготовительного звена, пренебрежительное отношение к созданию творческой атмосферы и законам творчества не создают условий для самого главного — для повышения идейных качеств произведений. А отсюда, естественно, рассыпаются все остальные качественные показатели.
Все физически видимое, так сказать материально ощутимое не уходит из поля зрения плановиков и хозяйственной системы, организующих труд. И мыслят они в этой сфере исключительно в объеме материально-физической категории плюса и минуса.
Здесь философия математики так же презирается, как и система Станиславского. Сбереженная трудовая копейка сделалась щитом для прикрытия лени, тупой бездеятельности, безответственного отношения к творческому разуму, бездушного отношения к творческой личности и ее творческим процессам.
Основой основ работы в предсъемочный период должен быть отрезок хотя бы минимальных репетиций и обсуждения всех элементов творческой выразительности будущего фильма. Это не требует доказательств, это предельно необходимо, но этим пренебрегают, считая за главное выдать в среднем 30 погонных метров. И их дают. Отсутствие репетиций и обсуждений считают за явный плюс, так как формальная цель достигнута.
Мы настаиваем на непременном узаконении периода репетиций и обсуждений до съемочного процесса.
Мы настаиваем на политике открытого сценария, чтобы актер имел возможность в разумной заявке пробоваться на ту или иную роль.
Мы требуем законной возможности «актерского дубля» на съемочной площадке.
На производстве до сих пор не понято, что одним из важнейших условий создания кинокартины является непременное умение создавать обстановку, способствующую покою. Хаос, шум, неразбериха бессовестно утомляют актера и выводят из творческой настроенности еще задолго до того момента, когда наконец начнет сниматься кадр.
На большинстве студий нет места для актера, пришедшего на съемку. Раздевают и надевают костюмы табуном, порой в одной комнате, вместе мужчины и женщины. В распоряжении актера для личного отдыха есть места общего пользования: коридор, гримерная и мрачный, необорудованный павильон.
Съемочная павильонная площадка для отдыха не благоустраивается. Пределом шика считается три-четыре матерчатых кресла, с которых сгоняют отдыхающих ниже по рангу. И пределом украшения является деревянный стол, конечно пустой. Присутствие в павильоне электрической плитки, на которой можно было бы вскипятить воду для лично принесенной заварки чая или кофе, считается роскошью. Недалеко от павильона имеется холодная вода с газом, бесплатно.
В том же коридоре и казенные лавки, на них разрешается отдыхать сидя.
Перед съемкой оператор часа полтора-два будет на актера ставить свет с дымом. Если актер не выносит и задыхается, его выводят и временно ставят на его место ассистента или второго оператора. Дублер, чтобы сберечь копейку, отменяется.
Вы приезжаете на съемку в 6 часов утра. У вас сложный грим. Стакана горячего чая на студии в это время не ждите. Иметь плитку или кофейник в гримерной считается расточительством. Иметь утром буфетчицу считается капризом избалованной актерской личности. Буфет будет в 11.00, на общих основаниях, в очереди с получасовым стоянием.
До сих пор, как правило, почти во всех группах идет дискуссия между дирекцией и группой на тему — обязана ли дирекция заботиться о пропитании вывезенных на натуру, за пределы точек общественного питания? Копеечная экономия лишает группу питания. Полевая кухня с поваром и буфет бывают лишь в редких случаях. Съемочная площадка на натуре так же не подготовлена для отдыха, как и павильоны.
Примеров можно приводить множество. Но дело не в этом. Надо просто признать, что мы не умеем оберегать творчески-деловой покой, а он необходим. Именно от него зависит во многом ясность и свежесть выражаемого образа, зависит успех вдохновенной выразительности и приятной легкости, так часто отсутствующих в наших произведениях.
Многие этого не понимают. И это не их вина. Просто не так воспитаны. Второе звено, подготавливающее съемочный процесс, не готовится к работе в искусстве ни одним из учебных заведений. Это в основном люди, обретающие свою профессию практикой, смекалкой, личной сообразительностью, не больше.
В обычных условиях творческого процесса появляется привычка к хаосу, неразберихе, в которых возможно любое попустительство, вплоть до пренебрежительного отношения к чужой судьбе, выраженное довольно часто в элементарных нарушениях техники безопасности, приводящих порою к случаям непоправимым, трагическим. Советский кинематограф обязан изгонять кустарщину в деле воспитания кадров. Союз обязан не выпускать из-под контроля эти вопросы.
Неоднократная постановка общественностью вопроса о культуре труда еще не дала заметных сдвигов и не даст, мне кажется, до той поры, пока на студиях не будет специального инженера, определенного ответственного лица. А такие инженеры в экономическом институте есть. На студиях непременно должен быть ответственный человек в этой области, который обязан ознакомиться со спецификой труда, и планомерно, из года в год определять порядок в группах, обязанных подчиняться утвержденным и контролируемым положениям.
Наша общественность готова оказать этому инженеру всяческую помощь и всемерную поддержку.
Актерская проблема — серьезнейший вопрос всей творческой кинематографической общественности. В актерских бедах как в зеркале отражаются всякие производственно-творческие неурядицы. И это естественно, ибо вся суть художественного кинематографа в конце концов выражается через артиста.
Актерская проблема — это проблема неослабеваемой борьбы за укрепление ленинских норм в общественно-трудовых отношениях на киностудиях.
Актерская проблема — это неустанный процесс борьбы за идейно-творческое совершенство самого артиста, постоянный процесс борьбы за развитие прогрессивных форм в деле создания художественного кинопроизведения.
Дорогие друзья!
Книга эта не задумывалась как книга, как произведение литературы.
Писал ее вовсе не писатель, а старый, уже можно сказать ныне, киноактер, прошедший осиленный им путь жизни и повидавший всякое. Много добрых эпитетов подарило мне время. Меня называли и популярным и любимым, просто прекрасным артистом, обо мне говорили, что вовсе не артист, что я — просто урожденный бездумный тип с Волги, кое-кто утверждал, что у меня есть ум, а многие утверждали, что я — глина, просто удобная глыба, из которой кинематографический гений может слепить всякое. Ну что же, искусство трудно уступает место на своей лавке.
Сорок с лишним лет я проработал в отечественной кинематографии, а мне кажется, что свою главную арию уже спел. Ко мне уже часто обращаются как к человеку прошлого времени, берут исторические справки.
Я понял, что от меня ждут книжку мемуарного порядка.
Я бы хотел написать такую книжку, но, честно говоря, я об этом никогда не думал: не собирал материалов, не вел дневников, а теперь понял — зря, и с сожалением думаю, что был плохо воспитан по отношению ко всему доброму, бесследно уходящему во времени, не осмысливал и не дорожил мгновениями пребывания, как оказалось сейчас, с чудесными, удивительными людьми, в удивительных жизненных перипетиях и обстоятельствах.
Жизнь пронеслась, а память, не нацеленная на запоминания, не имеет очевидных достаточно накопленных следов для выражения точностей в своих воспоминаниях.
Наиболее сохранившимися остались кое-какие конспекты: тайные надежды на ряд возможных статей по психофизиологии выразительности сценического образа, кое-что из материалов выступлений общественного порядка, заметки и воспоминания, небольшие тематические статейки — одним словом, не ахти какой киноведческий материал.
Сейчас меня волнует и охватывает страстное желание издать книгу несколько неожиданного содержания, но, как мне кажется, способного наиболее точно выразить мою сокрытую человеческую сущность. А главную сущность человека я всегда видел в особенностях проявления его светлого разума и доброй устойчивости человеческой души.
Дело в том, что, постоянно колеся по стране с киноэкспедициями, концертами, творческими встречами, живя в гостиницах и поездах, времянках строительных площадок крупных городов и удивительных окраин моей могучей страны, имея своеобразную особенность свободного уединения и время, которое необходимо было использовать и занять, я обрел для себя одно своеобразное увлечение.
Помимо чтения необходимых и намеченных мною книг я любил периоды своих особенных раздумий на самые разнообразные темы: переживать и осмыслять вновь впечатлившие меня случаи жизни, происходившие за день, споры, несогласие с выводностью статьи или книги, раздумия о возмутительном или чарующем поступке, об искусстве, труде, человеческом безделье или феноменальном трудолюбии — в общему обо всем, что особенно впечатлило меня в больших или малых промежутках времени моей кочевой жизни.
Еще с юных лет и по сей день я очень любил и люблю афористику, меткие народные выражения, пословицы, поговорки; люблю лаконизм фразы, в образной, короткой форме исчерпывающей мысль; мне всегда нравилось живое, удивительное волшебство простого слова, его способность объединять людей.
Я делал записи архаично и неразборчиво, почти бесцельно и бессистемно — мне просто нравилась выразительность самих мыслей, мне как актеру нравились решенные подтексты и неожиданные истины, постигнутые мною путем раздумий. Записывалось все на клочках бумаги, на оборотных листах сценариев, читаемых брошюрах и в блокнотах — на чем угодно.
Обычно я собирал исписанные эти газетные обрывки, клочки бумаги, картонные крышки, лохматые, облитые чаем сценарии и где-нибудь сжигал, за чем меня однажды и застал приятель — актер эстрады Серго Лалаев, исполнитель образа кенто в очаровательном грузинском фольклоре.
Однажды, взяв в руки один из блокнотов и кое-что прочитав. он, бросив его в огоньу сказал: «Зря ты сжигаешь эти веши. Вот представь себе, если бы ты взял в руки такую книжку одного из актеров давних времен, — ведь цены бы этой книжке сейчас не было: ведь это встал бы перед нами живой человек во времени, со своими раздумьями. Представляешь — живой своею соотнесенностью с ним, с биением живого пульса».
В общем, как я вспоминаю, сказано было очень красиво и впечатляюще. Во всяком случае, после этого разговора все. что мне попадалось под руку из написанного мною, я уже внимательно перечитывал, а кое-что записывал в тетрадь.
У меня появился своеобразный вкус коллекционирования, появилось новое и, как мне показалось, очень интересное занятие. Вскоре я почувствовал что с новым для меня увлечением от меня окончательно ушло мое старое, беззаботное хобби, а вместо него появился и сам настороженный, порой напряженный и уже где-то повышенно ответственный, целенаправленный труд.
Я записывал свои раздумия об искусстве, жизни.
Собранные мной короткие заметки, шутки и юморески, умышленно не систематизировались, не подвергались процессу разложения по определенным полочкам: мне нравился и привлекал меня именно строй сложенной разрозненности подобранного материала, где каждая фраза, как мне казалось, — одна перед другою — красовалась своей собственной самостоятельностью, не смешиваясь в строй их общего смыслового однозвучия.
Мне хотелось бы книгу коротких раздумий подчинить, уподобить природе мышления человека в постоянном быстро текущем времени и постоянной смене в нем самых невероятных и противоречивых событий, привлекающих к себе внимание. Здесь все на первый взгляд принадлежит природе хаоса и бессмысленной суете, но это лишь на первый взгляд, когда же ко всему присмотришься, — здесь не бессмысленная суета сует.
Книга эта ведет в мир сложной мудрости артиста, прошедшего напряженный творческий путь деятельности в отечественном киноискусстве — в искусстве многолюдном, разнохарактерном, часто противоречивом.
Страстно желаю заронить в душу зерно неумирающего любопытства к жизни, сложить в себе ощущение чувства неразделенности с окружающим миром людей, умение находить природу гармоний с человеческим миром, думать и направлять природу своих усилий во благо радости проживания каждого пришедшего в мир людей.
Главное не в том, чтобы найти истину, а в том, чтобы суметь превратить ее в средство побеждающей доброты.
День возгорался, день и догорал. И свет его пролился неравно каждому, и каждый думал: равен свет для каждого — всем одинаково он светит, всех одинаково он радует…
Не думай, что ты лучше всех, но и хуже всех — тоже не думай.
Жизнь в щедротах своих, как мамаша-медведица в детском садике, раздавала пинки, оплеухи, горькие пилюли и сладкие пряники.
После окончания университета я почувствовал, что диапазон недомыслия у меня значительно расширился. (Из записок гения.)
У каждого в глазах нет-нет да вдруг проглянет зверь или далекий пещерный родственник. (Из раздумий на… худсовете.)
Плюнувшего в колодец за колодцем бьют.
Думающий о тебе плохо, может быть, единственный, кто думает о тебе хорошо.
Плестись за талантом, если он у тебя есть, мало — надо научиться водить его по путям совершенства.
От нажатия на карандаш мысль нажимающего не делается глубже.
Гроб сатирика подняли любовно, торжественно и высоко…
«Из песни слова не выкинешь» — пример древнесентиментального заблуждения. (Из блокнота редактора.)
Мужество докапывания до правды главным образом должно состоять в том, чтобы не закапывать ее.
Сложение — это сразу же и вычитание: поскольку к чему-то прибавить — значит по стольку же от чего-то и отнять.
Всяк утопающий пускает пузыри в целях указания своего местонахождения.
Реальная правда образа не только отражается сознанием художника, но и творит его, приспосабливает к умению выражать представляемую природу в пластике.
Страшны и опасны порывы глупости, переходящие в ураган.
Если ваш ребенок начал лепетать на отвратительном жаргонe — за что же его наказывать?
Скрипучие ботинки выгодно выделяли меня, привлекая ко мне всеобщее внимание.
Надо следить за ребенком, чтобы его не заели микробы, а лучше всего приучать, чтобы он сам заедал их. (Из советов молодым мамашам.)
Когда гвоздь пробьет неподатливые доски и излишне высунется, его загнут в крючок и пробьют в обратную сторону.
Актер играет образ человека — натурщик изображает подобие его.
Чтобы не быть рабом натуры, чтобы свободно и легко приспосабливать ее к целям искусства, артисту мало видеть и запоминать ее очаровавшие особенности, — ему, пожалуй, скорее всего надо видеть и понимать естественную природу движения реальных сил, раскрывающих для артиста механизм сложения всего особенного и удивительного, заставляющего обратить на себя внимание.
В меня бросили спасательным кругом, и я потерял сознание.
«Ни грамма больше, ни глотка», — сказал я сам себе уже загробным голосом.
Пальцы мои скрючились, гримаса вдохновения появилась на лице моем, смычок лег на струны скрипки — и вот проскрипел первый, взволновавший всех скрип моего искусства…
У платежной ведомости Разумовский пожинал плоды своего ума и просвещенности.
Постоянный референт аккуратно заворачивал изложенные на бумаге «мозги» своего «шефа», чтобы потом перенести их постепенно в череп вновь назначенного.
— А разве бессилие бывает сильным?
— Ого! — Еще сильнее самой сильной силы…
У кого половник в руках, у того и рот рядом.
Чувства, выражаемые в образе, должны быть истинны природе образа, а не природе самого актера.
Разбежавшись в мыслях — не наткнись на реальный мир.
В глазах волка светилась душевная тоска и неукротимая любовь к баранине.
Козленок поглядывал на всех нагло и независимо, а волк смотрел на него благословенно и поощрительно.
Две вдохновенные личности с восторгом смотрели на дубовую рощу: одна видела в ней доски и бочки для выполнения плана, другая — природу творческого вдохновения.
Укротитель засунул голову в пасть белого медведя, и всем вдруг стало ясно, насколько животное умнее и великодушнее укротителя.
За сказанную правду лупили в детстве: старательно учили, что в жизни существует еще и ожидаемая нужная всем ложь и странно — чем сильнее лупят, тем дороже делается правда.
Фитиль без керосина — художник без страстей и идейной приверженности.
Любовь — сила движения искусства, нравственность — путеводная звезда его направленности.
Ее первый брак предназначался для законного объяснения всех своих последующих браков.
В чужом лесу — все тропинки к омуту.
Частокол холодного равнодушия к другим ставится в основном самому себе.
Далеко пошел потому, что крепко стоял на месте.
Мудрость приходит не сразу, но сразу же видно, когда она не появится никогда. (Перепечатывая рукопись.)
Аллопаты ничего не могли поделать с мамашей, а гомеопаты уже доконали ее мелкими дозами.
Трижды битому легче, чем в первый раз ударенному.
Баранья мольба издревле раздражала серого волка.
Художник не достигает высот, а лишь исчерпывает глубину своих возможностей.
Часто бывает грустно не от того, что действительно грустно, а потому, что надо быть грустным за компанию.
Древние греки никогда и не думали, что они будут древними греками.
Каждый пьяница непременно стремится к философствованию, но это вовсе не значит, что основное занятие пьяниц — философия.
Нечаянно выпив «Клопомор», дядя Вася долго изумлялся клопиной выносливости.
Мозговые извилины созданы для того, чтобы мысль не проскакивала по прямой.
Тот, кто плетет несусветный вздор, выглядит таким же дураком, как и тот, кто его восторженно слушает.
Сомнений уже не оставалось, и я начал лихорадочно придумывать их.
Все с нетерпением ожидали, когда «вознесенный» шлепнется. (Из природы человеческой.)
Одним словом, жил я раньше, как теплая душа в шлепанцах.
В творческой природе актера, во всей природе его творческого процесса нет ничего такого, что было бы не свойственно в той или иной степени природе каждого человека вообще.
Впряженные в общественную телегу по обыкновению боролись за звание главной лошади.
Музыкальное невежество всегда любило хвататься за дирижерскую палочку.
Нет нам простительного зла во имя добродетели.
Кому нужен храм, в который загоняют палками…
Иван Иванович уверял, что в жилах его будто бы течет голубая кровь еще с далеких времен распутства его прабабушки.
И вот с тех пор, как появилась письменность, мир людей разделился на пишущих и подписывающих.
Еж скромно мечтал о встрече с хорошо откормленной гадиной…
Шпион навлек на себя подозрение аккуратной уплатой членских взносов и крайне вежливым ко всем отношением.
О дерзких и беспокойных шеф с удовольствием читал в рома нах, но старательно избегал держать их в своем безупречно выстроенном аппарате.
Змея хоть символ мудрости, а за советом к ней ходить не рекомендуется.
Интуиция — сложнейшие вычисления нашего разума по еще неизвестным нам законам математики.
Не умеющему что-либо делать чаще всего кажется, что он обязан руководить.
А теперь подуем в блюдце и постигнем формулу урагана, друзья мои. (Из практических усилий «чистого теоретика».)
Достойного отношения к себе не требуют, а творят и слагают его энергичными усилиями доброй воли.
Отлично знает теорию только тот, кто оценку плодов ее истины доверяет всегда только практике.
Кашляющий с пеленок уверял, что вся жизнь — простудное явлении.
Грязного жильца и сквозь новый дом видно.
Вместе с любимым щенком дворник утопил в ведре и мою мальчишескую душу.
Все шаблонное служит для сокрытия истинного.
Все возвышенное в человеке имеет свой основательный фундамент, а все низменное тоже не на воде плавает.
Мгновенно вспыхивающие недолго горят.
Человек влюбленный в самого себя не оставляет места влюбленности для другого.
Петух без устали разгребал навозные кучи, а вся дворовая птица нервничала: а вдруг действительно найдет жемчужное зерно?
Стоя на верхней палубе, кормчий удивлялся человеческой низости.
Космонавты докладывали: рая нет, а вот черную дыру обнаружили.
Резко вырвавшись вперед, в пустынном одиночестве я потерял дорогу к финишу и вот теперь приковылял последним.
Дорогая мама, из пробуренной нами скважины вдруг забил фонтан самогона. (Из недописанного письма геолога.)
На современную корову солнечное затмение не произвело никакого впечатления.
Мы с наслаждением прильнули к кувшину парного козьего молока, от которого маняще попахивало дустом и первыми весенними удобрениями.
Подавившийся колбасой потом долго проклинал колбасников.
Аборигены чужой планеты оказались существами разумными: они каждому из нас дали хорошего пинка и затолкали в ракету, откуда мы только что вылезли. (Из зарубежной фантастики.)
Во имя прекрасного Кузьма Иванович ловил в клетку птиц, чтобы потом выпускать их по большим и малым праздникам.
— А она, утомленная мною, стала лихо с другим танцевать…
Дальновидность — способность издали увидеть для себя полезное.
Дневной свет не спорит с керосиновой лампочкой.
В азбуке лица и внешнего вида не все одинаково грамотны.
«Незаменимых нет». — прошипела тупая сокрытая зависть, и все готовые заменить слились б единстве шипения и зааплодировали.
Лучше всего лечь пораньше, а проснуться попозже. (Из мемуаров ночного сторожа.)
«А ведь загробная жизнь есть», — подумал Аким Филиппович, шагая за гробом Аристарха Ивановича.
Посаженный на высокое для него дерево, он еще кое-как каркал, а вот взлететь не смог.
Истинная независимость — в твоей человеческой необходимости для всех.
Жена любила меня нехотя и сурово…
К сожалению, товарищ судья, я вошел в супружескую жизнь безо всяких тренировок. (Из зала суда.)
Жажде упасть с лошади непременно должна сопутствовать жажда сесть на нее верхом.
Разливая пол-литра на троих, дядя Вася невольно был вынужден изучить дроби.
С годами, постепенно приходят к каждому свои причудливые особенности: одни умеют их как-то подстригать, уравнивать, а у других они торчат, как одичалый куст, во все стороны.
Платоническая любовь — любовь, не тронутая касанием.
Он страдал умно и расчетливо.
Молодую истину оберегают от настойчиво жующих старую, привычную истину.
Надел я генеральский костюм и почувствовал вдруг, будто бы я изменился разумом, что будто бы стал во мне какой-то «винт» другой. (К причудам перевоплощения.)
Настало время засолки огурцов, и Диогена стали выдворять из бочки.
Если хочешь остаться королем — ни при каких условиях не мысли себя без короны.
Кругом записочки, кругом пометки — увяз в черновиках черновиков…
Когда ты взвинчен — опасайся, чтобы из тебя шуруп не сделали.
В тайниках души своей я свершал великие подвиги, победы и благодеяния — так что бороться с жизненными неурядицами у меня уже не хватало ни сил, ни времени.
Мародер духа тайно шарил по архивам покойников.
Светить — это значит помогать светом, сиять — значит затмевать ровное и полезное свечение, сиятельность — явление злое и ревнивое.
Сценарий — уникальнейшее произведение искусства, где пытаются изложить бесспорные благие мысли всех, не совпадающие с мыслями каждого в отдельности.
Любящие играть в жмурки со своей совестью, как правило, всегда выигрывают.
Кутенок ошалело бегал среди людей, и люди радостно трепали его лохматое и всем доверчивое детство.
Шут — искусственный дурак себе на уме.
Для муравья и под ромашкой тень, — для червяка и у лужи отдых.
Горе вам, укравшие штаны у плавающего в речке.
Подлец с программным управлением.
На легких мыслях высоко не взлетают — в тяжелом раздумье далеко не плывут.
Изредка, обыкновенно когда все ложились спать, хозяин титулованного пса надевал на себя ошейник с золотыми и серебряными медалями…
Яркие пятна привлекают глаз, проникновенные полутона открывают душу.
Преодолевать и преодолевать — до конца дней преодолевать! Ибо человек — существо преодолевающее.
Пресыщенность — подруга увяданий. Конец желаний — значит твой конец.
Пьяницы не кутят — кутят кандидаты в них.
Земля вдруг вздрогнула, вулкан заклокотал и с ядовитым паром начал выбрасывать жестянки, бутылки битые, нейлоновую рвань, транзисторную рухлядь и порошки с пилюлями. (Вполне возможные вулканы будущего.)
У каждого свой собственный мир сложения и вычитания, свои неведомые счеты с самим собой.
Все недооцененное мстит — все переоцененное подводит.
Все с поклонами да в дар несущие — имеют мысли загребущие.
Чтобы душа не пропиталась затхлостью, я выношу ее на вольный ветер.
Говорящий, что его недооценивают, очевидно, чувствует, что его предают.
У порока оказались очень пологие склоны, свои лужайки и ручейки, которые и привели меня к непролазной бездне своей.
Бабка Евдокия Шишигина придумала сказки и присказки, басни и побасенки, поэт Амфибрахиев научил ее основам литературного творчества, после чего бабка сразу же написала экспозицию и экспликацию и уже больше не писала ничего.
На телевизионных экранах вновь вспыхнула многосерийная эпидемия.
Поголовья раскидистых оленьих рогов усилиями человечества не уменьшаются.
Громкая добродетель тихо настораживает.
Во всем представляемом можно выражать только представляемое.
Чахлая мысль прикрывается яркими фразами, сомнительные прелести — эффектным бельем.
Все, что бросается в глаза, — заставляет шарахаться в сторону.
Творить — это прежде всего не бездельничать.
Я начал принимать таблетки от вранья и, по замечанию друзей, сразу же изменился в дурную сторону.
Не доверяй слону в кошачьих нежностях.
«Зеленый змий» читал лекцию о пользе настоек целебных трав на спирту девяносто шесть градусов.
Был бы двор — придворные заявятся, и пес дворовый и шелудивый кот придут.
Все, что делается потихоньку, таит в себе нежеланный шум.
Собака — животное лохматое и ласковое, а вот я — лысый и злой. (К природе человеческой обозленности.)
Глаза будущего смотрят на нас суровым взором всего прошедшего.
Одному кажется — черт попутал, другой уверен, что бог послал.
«Да я из тебя дух вышибу!» — фраза подлинного украшения русских былин и сказов, утверждающая исконное нетерпение древнерусской философии к идеализму.
Трусость заставляет напяливать шкуру жестокости, а жестокая трусость не имеет ума.
Всяк «возвышенный» униженно ползает у ног своих собственных страстей.
Начали-то вроде как бы шутя, а потом оказалось, что бабушку-то мы съели по-настоящему.
Другого не осмотришь — себя не оглядишь.
Душа художника то вскинет знамя победы, то сожмет пустые руки свои…
«Да вы разве еще живы?» — воскликнул мой лечащий врач с восхищением.
Король не должен знать, что он глупее своих советников. (Из советов советникам.)
Святое бескорыстие обычно врет со дня своего рождения.
Сейчас не любить природу надо осторожно и уважительно.
Никогда не прикидывайся дураком, если ты уже достаточно глупый.
Если в среднем все умные, то конкретному дураку все равно не легче.
Человек думает редко, но маску задумчивости снимает иногда.
Срубленное дерево таится в корнях своих.
Я всегда искал легкий хлеб, поэтому жизнь моя была невыносимо тяжелая.
Плохо знающий молитву — молится ее цитатами.
На предсмертном ложе своем — не забудь улыбнуться женщине.
Если миры умирают — значит, в них пламенеет жизнь.
Нужно любить людей ненавидя человеческую мерзость.
Писатель нещадно тянул за уши ростки прекрасного, и они жалко увядали на его страницах, стесняясь своего вытянутого уродства.
Прежде чем занять позицию в обществе, надо занять ее в своей собственной голове.
Победитель сморкался громко и вызывающе.
Мысль, погруженная не в ту среду, вызывает бурную реакцию.
Теперь, прежде чем куда-либо сунуть свой палец, я прикидываю возможность вытащить его обратно.
Наукой продленная жизнь оказалась до отвращения продленной старостью.
Оглядывая гробницу Тутанхамона, актриса с завистью прошептала: «Живут же люди…»
Вы сумели добиться таких великих званий, что мне стыдно вас показывать публике. (Из шепотов за кулисами.)
Я гулял по зоопарку, и животные нехотя разглядывали меня.
Пахло жареным карасем, и золотые рыбки нервничали в аквариуме.
Мир без шутки и фантазии — да разве это мир?
Да вы просто представить себе не можете, сколько сил управляет такой куклой, как человек. (Реплика из кукольного театра.)
Если твой костер лишился пламени — не разноси пеплом его.
Не плюй в лицо стихии, злобно дующей на тебя.
Желая погубить зерно, его не сажают, а любовно закапывают в почву.
Что-то ничтожное хрустнуло, и все великое поползло.
Как это ни странно, но трудно себе придумать душу более одинокую, чем артист.
Дедушка, а ты реже думай о людях плохо, тогда тебе будет хорошо.
Заболтанные святые истины теряют смысл истины святой.
Идеология без корней традиции — чахнет.
Идущие через грязь наверняка отстанут.
Пушкинисты всегда зарабатывали больше Пушкина — так уж создан мир вторящих прекрасному.
Корабль уже скрылся за горизонтом, а я стоял на берегу, все еще не в силах покинуть его палубу.
Злая шутка — репетиция подлости.
Чужой кот — завсегда разбойник.
Отличаясь природным тупоумием, я избегал не свойственных мне обострений со своими сослуживцами и уже начал было приживаться к званию столоначальника…
Писатель поставил глубокую проблему — читатель начал плавать и захлебываться в ней.
«Анкетные данные, заполненные благородством».
Появившийся порок начинает сразу же придумывать благопристойную легенду к своему утверждению.
В отличие от человека свиньи, впавшие в заблуждение, не выносят смертных приговоров своим товарищам. (Вроде бы Коперник.)
Не всяк мыслящий — единомышленник твой.
Звуки вальса особенно волнуют не умеющего танцевать.
Свирепых надо прикармливать, а ласковым довольно и палку показать. (Из блокнота дрессировщика.)
Мало будешь знать — скоро состаришься.
Истинное искусство не столько отражает, сколько воздействует и преображает мир.
Протертые штаны еще не признак усидчивости.
Жалкий рахитик зубочисткой выковыривал из расшатанных зубов своих кусочки мяса племенного могучего животного.
Единоборство с мухой стало раздражать меня, и я зарыдал от утомления.
Круг пожираемых друг другом соотечественников редел, и наконец нас осталось двое. (Заявка на детективный сценарий.)
Артист, постоянно играющий подлецов, называл себя артистом абсолютного перевоплощения.
А ведь и не поймешь сразу — то ли он по плечу тебя похлопал, то ли пыль с пиджака стряхнул. (К природе прощупывающих.)
«Полный назад!» — заорал кормчий с присущей ему дальновидностью.
Вседоступность расслабляет все.
Ветра в голове не задерживай, а свежего воздуха не избегай.
Кротчайшему животному — овце — природа даровала способность пожирания змеи, тарантула и скорпиона.
Есть речи, похожие на молитву без веры в нее.
А вот писатель Булыгин за дисциплинированность и хорошее поведение был переведен в классики. (Пример полезного назидания.)
Ослабевший разумом напрягается в кулаках.
Если ты не источник — к тебе с кружками не побегут.
Чтобы прекрасно говорить прозу, надо чаще читать стихи.
Есть время спать и время разглядывать сновидения.
Младшему козырю недолго жить.
Обладающий жаром души врет особо вдохновенно, особо убеждающе.
Все спящее не дремлет.
Изучая труп — не постигаешь живого духа.
Я стучался в пустую дверь — я тренировал свою вежливость.
Опуститься на четвереньки — дело нехитрое.
В поношенной морде старой обезьяны мною с грустью угадывалисьочаровательные ужимки милой мартышки из далекого прошлого.
Я было уже собрался с духом, но духу вскоре стало надоедать со мной.
Глупость, придумывающая теорию, имеет очень серьезное и озабоченное лицо.
Без личных рассуждений умные советы не приживаются.
— Ворон, почему ты питаешься падалью?
— Я — гурман, балбес, и тебе не понять этого.
Обезьяна глядела на меня с восхищением, очевидно увидев во мне завершенный идеал своего исторического совершенства.
Мысль, записанная драгоценной ручкой, дороже обходится, но дороже не ценится.
Обедненный дух не пытается бегать за огненным конем, не рвется через кусты за жар-птицею, не любит царевну-лягушку, красну-девицу, не кинет камня в соловья-разбойника.
Горе тебе, испивший не из того ковша.
Когда Пегас стучит копытом — знай: недоволен он корытом…
Часто раздумывая о том, как из двугривенного сделать четвертак, дядя Вася в единомыслии своем сливался с могучим обликом думающего человечества.
Любая правда, навевающая в искусстве скуку, обязательно — ложь.
Не соблазняйся мыслью быть личным благодетелем рода человеческого…
Александр Иванович делил женское внимание на постное и скоромное.
Толпа высоко подбрасывала любимца над собою, но как-то, заглядевшись на другого, забыла его вовремя поймать…
Когда новые ботинки жмут, их терпеливо разнашивают.
Пей! Тоска пройдет!.. (Абсолютное заблуждение.)
Бифштексы росли на древе жизни: чем выше — тем сочнее и обильнее.
Бездарность лишена великодушия. (Из опытов самонаблюдения.)
Дорогая моя, я люблю это не потому, что действительно люблю это, а потому, что это полезно и принято любить.
У каждого орла свои особенности полета.
Можно сколько угодно вспыхивать и загораться — только бы не чадило от жаровни твоей.
Сладкое пение убаюкает, а медовый голос поганых мух соберет.
Высот прекрасного не достигают — к ним только приближаются, ибо с каждой взятой высоты вам представится еще более высокая, более прекрасная и совершенная.
Зарплату дантиста исчисляли сдельно: от количества вырванных им зубов.
Не распространяйся зря — не засоряй собой пространства!
Думая о совершенном дирижабле, не лишай себя способности радоваться мыльному пузырю.
Когда любят простор — отплывают от берега.
Поэт бездумно распахнул окошко кухни, и сразу же стихи его запахли: похмельной ночью, невыветренным потом и затхлым куревом.
Если твоя философия не заставляет тачку двигаться — брось свою философию.
Человек, возомнивший себя пташкой, как это ни странно, начинает обретать признаки порхания.
Две, а тем более три сильные страсти при всех попытках никогда не уживаются вместе.
Осел, напяливший львиную гриву, всегда дурнее и опаснее настоящего льва.
Нельзя начинать произведения искусства, прививая к нему неуверенность свою.
В постоянной борьбе темных и светлых сил укреплялся чернобелый дух мой.
Боишься поражений — не ожидай побед.
Душе ранимой и больной не помогает щит стальной.
Чрезмерность — мать пороков человеческих.
Севшему на гвоздь — долго сидеть не нравится. (Истина.)
Панибрат — никому не брат.
«Дар божий» славен только трудом человеческим.
Один Дон-Кихот — прекрасно. От ста Дон-Кихотов нужно удирать немедленно.
Талант без мужества — высшее горе художника.
Он тайны мне поведывал свои, и я ему, дурак, открылся!.. (Древнее трагическое восклицание — трагическое по сей день.)
В произведениях искусства надо выражать не метод и систему, а методом и системой выражать прекрасное.
Побеждать недуг легче всего до начала его наступления.
Бросаясь в огонь, не думай, что ты — несгораемый шкаф.
Древесный паразит пышно цвел на кроне увядающего дерева, а глупый садовник-демократ любовался его наглым цветением.
Мой папа на четвереньках приполз к финишу и умер чемпионом мира. Я же отстаю от него всего на десятые доли секунды И горжусь этим.
Прогрессивный деликатес — паюсная икра из пластика.
«Не думай о людях плохо» — фраза, несомненно, в чем-то ханжеская, во всяком случае, она нравится всем подлецам без исключения.
Что Серому Волку в доблесть, то Красной Шапочке в страх.
Школьные истины еще не истины жизни.
Труд не облагораживает, если ты не творишь им благородство и достоинство свое.
Солнце не может заглядывать повсюду — солнцу тоже нужны помощники.
Часто человек выпрашивает правду с явной надеждой выманить твою ложь.
Падение ползающего на четвереньках очевиднее падения ползающего по земле.
Блудливому псу всюду палка мерещится.
Гонимый ветром на людей не обижается.
Обладатель уникального носа уже особенный человек.
Рождаясь, дети начинают постепенно воспитывать и совершенствовать своих родителей.
Не мучай людей раздумьем о том, как от тебя избавиться.
Просматривая книгу, я неоднократно чувствовал, как она некоторыми местами глав презирала меня, откровенно зевала со мною целыми страницами и пыталась бесцеремонно отложить меня в сторону.
Изливая себя, не обливай другого.
Человек без сомнений должен непременно вызывать сомнения окружающих.
Истинная поэзия от земли не отрывается, а только лишь устремляется ввысь.
Изливая душу, лучше не доливай.
«Мы наскочили на собственную цель…» — просипел рулевой остолбеневшему кормчему.
Радость, отнятая у другого, прорастет горечью в доме отнявшего.
Бедность не порок, а вот порок, да еще при бедности — абсолютная дрянь.
Делающие вид часто преуспевают в жизни не менее, чем делающие все на самом деле.
Скороспелость ума еще не признак его особой зрелости.
Каждый удобно устроившийся терпеть не может пересадок в пути.
Блистать умом среди дураков — признак дурного тона.
Искусство только кажется менее сложным, чем наука.
Необходимость казаться умным и доброжелательным вдруг оставила меня, и я почувствовал удивительное облегчение. (Из воспоминаний у смертного одра.)
Большая, плодотворная мысль в искусстве никогда не металась в поисках новой, ошеломляющей формы.
Кормчий терпеть не мог анекдотов про кормчего.
Трудно придумать душу более одинокую, чем артист.
Опять меня купил он неподкупностью своей!.. (Исторически-драматический вопль наивных и доверчивых.)
Если твой дом дерьмо — никто не поверит твоим урокам домоводства.
Ворошащий чужую грязь не производит впечатления человека чистого.
Печь, протопленная ни для чего.
Еще многие воспринимают жизнь как огород, кем-то выращенный для их удовольствия.
Заболтанные святые истины теряют смысл истины святой.
Иван Иванович обладал медовым голосом, но не имел доверия трудовых пчел.
Душа, открытая для всех, — не всем желанное пристанище. (Раздумье у проходного двора.)
Лишней рюмкой оказалась первая. (Из мрака последних проблесков.)
Истинная любовь к прекрасному не живет на кончике болтливого языка.
Разинувшему рот на влетевшую муху обижаться не следует.
Спектакль ожил. В актере появилась жажда укрощения строптивой.
Иван Иванович только к преклонному возрасту понял, что слово «бард» — отнюдь не сокращенное название публичного дома.
Не все, увы, слизнешь шершавым языком плаката. (Маяковский — апостолу Павлу.)
Поступившийся душой — поступится правдой образа.
Успех лидера выносится на плечах бегущего по пятам.
Знак равенства — не все уравнивающий знак.
Меня реанимировали с радостным желанием, чтобы я умер еще раз.
Обещающие воздушные замки искренне уверены, что они врут, а чистосердечно верующие отлично понимают, что их обманывают.
Человек, способный переплыть реку, не боится падения в воду.
Идеалы голодного желудка после сытного обеда переменчивы.
Чтобы ощутить грех, надо иметь святые принципы.
Одни двигаются прорезаясь вперед, другие вытягивают себя из прошлого.
Ивану Ивановичу наконец втолковали, что он болен, и вот с тех пор Иван Иванович заболел по-настоящему.
В глазах, припрятанных от солнца, поселяется серость.
С мягкого тюфяка высоко не прыгают, твердых обещаний не дают.
Медведи в цирке не раскланиваются, а только лишь повторяют движение поклона. Так что многие склоняются друг другу, как медведь в цирке.
Сумма осколков не образует зеркала, сумма мелочных желаний не складывает большую цель.
«А настоящий ли я?» — вдруг подумалось мне, глядя на робота.
Все необузданное бессильно.
Не имея позиции не лезут в оппозицию.
Что-то силясь припомнить, старик сидел в склерозном отупении, а художник писал с него картину раздумья и глубокомыслия.
Благословен шаг добро несущего.
Любитель постоянно опираться на плечи своих друзей остается в конце концов без них.
Автор фальшивых пьес всегда жаловался, что артисты не умеют выражать правды.
— Дедушка, а инопланетяне не кусаются?
— Ну, милая, это уж как люди доведут!..
Длительность «гордого одиночества» во многом зависит от запасов наличных средств.
Истинная доброта никогда не убыточна.
Поднимаясь в рангах, я с восхищением чувствовал, как окружающие опускались в моих глазах.
Каждый на мгновение может почувствовать себя Гарибальди, Наполеоном или Коперником, но не каждому охота оставаться в этом изнуряющем напряжении.
Гром — старый добрый ворчун, бойтесь молнии, ибо блеск всегда беспощаден.
Объективность, похожая на ласкового телка.
Я хватался за жизнь, а жизнь хваталась за меня, и, как назло, всё за места больные и самые натруженные…
И почудилось мне, что будто бы мы все в телевизоре живем…
Я ничего не понял, но как он здорово говорил!..
Осовременивать классику — чаще всего лукавить.
Всяк загадивший место свое недоволен своими сослуживцами.
Незабытое зло подобно недобитой гадине.
Зная, что запретный плод сладок, большинство добравшихся до него нажирались им до отвращения, так и не вкусив легендарной сладости его.
Великий страдал отложением солей своего величия.
Позабывший детство — игрушки не выдумает, колыбельной песни не запоет.
Многие живут на отходах чужого разума.
Рука дающего по шее тоже не оскудевает.
Дурак не в фокусе куда опаснее ясного дурака.
Подражательная красота в искусстве — убийца собственной прелести.
Кирпичи будущего обжигают в сегодняшних печах.
Думающий только об искусстве не постигает прекрасных вершин его.
Не думайте, что люди, не умеющие лгать, всегда говорят исключительную правду.
Взмахивать крыльями — это еще не значит улететь или явить нам ветер далеких странствии.
Выучиться на соловья — немыслимо. (Ворон.)
Художник восхищался пламенем, хозяйственник — качеством горючего материала.
— Не рвись в друзья к человеку, — сказала собака подопытному кролику.
Научившись книгу читать, научись с ней разговаривать, спорить и ругаться в силу необходимости.
— Куда идти-то?..
— К природе прекрасного. (Голос из тумана.)
Математика без сказки — неполноценная математика.
Доберман-пинчер — утонченный пес.
Извечная мечта бескрылых: приспособить Пегаса к телеге, Амурам подрезать крылышки, а Демона приковать в музейном подвале.
Сплошное преуспевание — ложь.
С ринга не уходят, а вышибаются.
Углубляясь не увязай.
Утерявшему веру старые молитвы не помощники.
Порядочные люди оберегают свет факела своего от копоти и зловония.
Одиночество выдерживает тот, кто взял многое от многих.
Все нарисованное на занавеске легко отодвигается в сторону.
Бездумные глаза видят блестящие звезды, а пытливый разум — сказочные миры.
Созревая — прозревай!..
Пьющие денатурат о прелестях сухих вин не разговаривают.
Конюх лошади не товарищ, а товарищ конюх.
На упрямом осле в дальний вояж не собираются.
У смертного ложа с лопатой не отираются.
Стоять на цыпочках не значит возвышаться.
Цинизм — плод недозревших и пустых иллюзий.
Прыгнувшему в омут не надо плыть.
Берущий от жизни «все, что можно» чаще всего уподобляет себя мусорному ящику.
Количество ворчания переходит лишь в качество ворчуна.
Да будь она проклята — драгоценная шкура моя. (Соболь в космическом пространстве.)
Чрезмерно углубленный в самого себя чаще слушает и исполняет лишь доводы кишечника.
Если искусство слепо подражает жизни, то жизнь никогда не будет подражать ему.
Трусость — верный сторонник крайних мер.
Спутанная лошадь далеко не уходит.
Ничто так наглядно не определяет лицо государства, как существо и облик государственного чиновника.
Никогда не вступай в соревнование с покойником, ибо тебе никогда не догнать его.
— Дедушка, а кто же гном?
— Кто согласен быть гномом — тот и гном.
Вместе с художником рисунок образа прорисовывает время.
Дурной нрав — для себя всегда прав.
О людей с чугунной головой раскалываются мысли.
Душа, оскудевшая в персональных условиях…
Попав на крючок, не потешай рыбаков плясками.
Талант мужает через сопротивление — гибнет через насилие.
Горизонты норы норой и ограничены.
Если тебя дома кусают клопы — не уверяй людей, что ты вкусный.
Человеческая глупость безбрежна, а в ней с удовольствием плавают мудрые чудаки.
Без причины мебель не двигают.
Не имеющий факела пристраивается к чужому огню.
Приличный Пегас из чужих рук бутербродов не кушает.
Истинный мужчина эмансипации женщин не устрашается.
«В случае чего — пропью золотую пломбу», — успокаивал себя в старости Иван Иванович.
Чужой жребий не отнимается.
В места, куда восходят, прыгать сломя голову не рекомендуется.
Любящего пожрать не приглашают покушать.
Человек не живет по законам моралистов, ибо, к счастью своему, он ничем не похож на них в личном несовершенстве своем.
Загадив надгробную, человек начинает мечтать о загробной жизни.
Образ — душа, взятая напрокат.
Надежда — последний спутник умирающего.
Чтобы успешнее идти в будущее — чаще встречайся с прошлым.
Чтобы переплыть — надо плыть.
Ударенного поленом о впечатлении не спрашивают.
Чудотворцам нужны свидетели, нужны разинутые рты.
На грязной свинье новое пятно не замечается.
Новый афоризм чаще всего старая истина в новом платье.
Разговор ни о чем способствует вынесению дурного мусора из головы.
Когда нечем хвастаться — человек начинает врать.
У каждого разума — своя особая твердь.
Ужели лишь в цели — цель жизни моей.
Культ религии превратил человека не в союзники Создателя, а в трусливого раба.
На слово «лошадь» или «конь» — Пегасы не откликаются.
Переболевший любовью — иммунитетом не наделяется.
Каждый обязан свершить хотя бы один благородный поступок, для того чтобы потом иметь возможность к случаю рассказывать о нем всю жизнь по праздникам.
Отдрессированные друг другом супруги живут как единое целое.
В афоризмах излагается в основном осознанный опыт человеческих заблуждений. И чем опыт был горше — тем афоризм острее.
Рукопись, раздутая словами, может быть, и повышает сумму гонорара, но ценность рукописи — никогда.
Человеческое тепло не определяется волосатостью человеческого тела.
Новый дух очищения возрождается на грязных пятнах прошедшего бытия.
Время собирать цветы окончилось. (Возглас из прямого зеркала.)
Чужая душа — потемки от не достаточности света нашего разума.
Когда лошади не дают кормов, это не значит, что лошадь объявила голодовку.
Добродетель, вывешенная как медаль, непременно имеет свою противоположную сторону.
Любитель пить за чужое здоровье поднимает тост за свою болезнь.
Когда уже некуда бежать — люди бегают от инфаркта.
При пении дифирамбов вокальные погрешности не учитываются.
Не ищи главного по титульному листу.
Любезность тюремщика не предвещает ничего хорошего. (Граф Монте-Кристо.)
Денег я тебе, братец, не дам, а вот духовную поддержку окажу безо всякой корысти.
Схваченному за глотку трудно рассуждать о возвышенном.
Чтобы не уродовать стиля — анонимные письма не подписывает.
Киноискусство вывело человека в очевидно всемирное человечество, телевидение пригласило человечество в дом.
В искусстве едва опустившего руки уже пытаются схоронить.
Все возвышенное от навозной кучи живет. (Розовый куст — художнику.)
Когда всем строем воспевают — не обязательно все поют.
Простой люд Пbr /рометея не приговаривал.
Пустая бочка гремит не без надежды заполниться.
Не умеющего плавать, но прыгнувшего в водоворот во имя храбрости своей чаще всего называют утопленником.
Если ты не знаешь законов развития человеческого общества — это вовсе не значит, что ты не живешь по ним.
Моралисты всю жизнь пытаются сложить стерильно чистого человека, вот почему от них и шарахается простое, небезгрешное человечество.
Человеческая душа формируется до последнего вздоха ее обладателя.
Если встретишь в детской душе рыцаря — помоги ему победить.
Искусства, не преследующего меркантильных целей, нет.
Все обильно политое драгоценными духами — настораживает.
Все капающее в одну точку в конце концов уходит в прокопанную дыру.
Творческая настойчивость но умеющих плясать чаще всего называется стилем.
Все пронзительное не достигает, а протыкает цель.
Не будь самоуверенным умником, но уверенности, что ты не глуп, не теряй.
Голоса елейной сладости способствуют возникновению диабета человеческой души.
Всяк бравирующий храбростью подмалевывает места своей трусости.
Из грязного ковша не пей, хоть там и налит сладостный елей.
Просьбы слабых всегда раздражали его высочество. (Из старинного романа.)
Витающий в сферах — опустился поклевать.
Коль грязен дух, так не отмоешь тело, — брось тратить мыло на пустое дело.
Впередсмотрящий не замечает возни на палубе.
Ивану Ивановичу объяснили, что Петров превосходит его на одну медаль и три почетные грамоты.
От часа задержки похорон — час жизни не продлевается.
Добиваясь цели, не забывай жить, не превращай жизнь в побоище исключительно за цель свою.
Пути открытия чаще всего идут через тропы заблуждения.
Широта объятий не определяется широтой раскинутых рук.
Разбивший свою мечту постоянно бренчит осколками.
Высоко подброшенный не высоко взлетел.
Речь, разбавленная водой, быстрее уносится течением времени.
Современная ворона с лисой не разговаривает.
Шея униженно покорных и покладистых всегда напоминает удобное седло.
Стригущие овцу всегда желают видеть благодарность вытаращенного глаза.
Совесть теряют в том случае, если она не являлась природой своего хозяина.
Благодать, постоянно льющаяся с языка, имеет способность сливаться со сточными водами.
Истинно добрая традиция — та, что мудрой природой прошедшего утверждает радость сегодняшнего дня.
Народная мудрость слов на ветер не бросает, но если по ветру пустит — непременно в яблочко попадет.
Драный кот — явление мужественное и уважаемое.
Утепленные представления легко простужаются.
Был бы пламень души, а желающие погреть свои холодные конечности заявятся.
От физиономии трупа пахло медом, а в кармане пиджака была найдена ложка, выпачканная дегтем. (Творческая заявка на детективный фильм.)
Время прелестей колокольного звона кончилось.
В абсолютном безразличии своем свободны и независимы от общества только одни покойники.
Бывают разумы впечатляющие, как мощные реакторы, включенные ни для чего.
Душа, не ставшая помощником конкретных дел, не может крепнуть.
Живущие в благоустроенном мире чаще других любят воспевать приволье и благодатную прелесть пещерного бытия.
Если художник сегодня поступился принципом, то завтра он уже не будет прежним художником.
Собирательный образ как вечерняя тень — похож на всех и ни на кого в отдельности.
Приглашенного в гости вытесняют медленно и постепенно.
Далеко пошел, потому что крепко стоял на месте.
Безукоснительно придерживаясь «железной» исполнительности программы, Аркадий Эдуардович вскоре завел свое хозяйство в практический тупик.
Только переполненный дурак не может быть дополненным сторонней глупостью.
Очень много умел, поэтому ничего не делал как следует.
Нельзя приносимые извинения швырять под ноги, как охапку дров.
Необузданную мысль не выпускай на волю.
На путях прогресса стоять не рекомендуется.
Если глаза — зеркало человеческой души, то есть души, спрятанные в глазное дно.
Глупый рвет цветы до последнего, умный оставляет цветок на семена.
Существует особая бестактность человека благополучного.
Многие природу обобщения в искусстве понимают и используют как мешок, в который легко сгребаются все особенности человеческих индивидуальностей.
Насколько переоценил себя, настолько и унизил.
Все возвышенное имеет ступеньки, чтобы снисходить вниз.
Если хочешь жить долго — не проживай слишком много.
Вытащенный из выгребной ямы конфузливо и быстро забывает благодетеля своего.
Прежде чем создавать образ, научись быть предельно самим собой.
«Бродяга Байкал переехал» — отраднейшее историческое событие, послужившее причиной радостного застолья для множества поколений русского народа.
Душа, не сокрытая ничем, отнюдь не признак ее откровения, а, скорее, показатель ее неряшливости.
От дурной лошади и приз не в благодать.
Начавший дурачиться от большого ума вскоре был признан абсолютным идиотом на почве приживленной глупости.
Негодяй похвалил мою работу, и я с отвращением почувствовал, что физиономия его на долю секунды показалась мне вдруг не столь отвратительной, как раньше.
Каждый хочет забить свою шайбу в ворота жизни, но и здесь стоит вратарь.
Пышный кабинет издревле сидел на плечах своих посетителей.
Разум, воспитанный светом добра, не может не освещать окружающие потемки.
Диссертация — выдвижение мысли на привилегированный пьедестал.
Милая тяжесть любви очень скоро утомляет нетренированные плечи.
Глядящий в лужу думает о небесах.
Знание человека может развиваться безгранично, ибо незнание его беспредельно.
Истинный представитель искусства ничего так не любит в нем, как самого себя.
Полуправды не рождали полнокровных истин.
Когда начинаешь принадлежать кому-то — тобой распоряжаются, как вещью.
Видящему насквозь — не верьте.
Из всех бросающих камень не все желают попадать.
Генерал солдату: «Я тебе, конечно, товарищ, но — по-генеральски».
Успокаивая труса, успокаиваюсь сам.
Мнение других, в конце концов, и есть собственное мнение о себе самом.
Вдохновенная полемика двух кретинов озадачивает порой высочайшие умы.
Безудержная любовь, как и все безудержное, чаще всего проскакивает мимо.
И все же трудолюбивый муравей любил стрекозу, это ветреное, непостоянное насекомое…
Часто актеры склонны понимать роль как вешалку для нюансов личного обаяния.
Официальные скучные концерты — дитя возвышенного духовного ханжества.
Никогда не думай, что старый вулкан погас, ибо неожиданны его взбрыки.
Есть люди, умеющие носить славу как фрак, как бальное платье, а есть феномены, которые носят ее как старый ватник или поношенную спецовку.
Точка зрения коровы не совпадает с точкой зрения быка.
Если прочитанная вами книжка создала впечатление, что вы умнее автора, будьте благодарны ему — он поддержал вас.
Не всегда знание в силу.
Чем выше горы, тем глубже между ними пропасти.
Все пустое быстро поднимается на гребень волны, зато и быстро вышвыривается на берег.
Злобный гусак не упустит трусливого зада.
Укушенный зубом мудрости.
Пустая бутылка не творит компании.
Главной достопримечательностью и украшением городка было его маленькое, уютное кладбище.
Прислонившихся к искусству куда больше, нежели плодотворно коснувшихся его.
Прочитать пьесу по-своему — чаще всего пренебречь тем, что написано для всех.
То, что само лезет в рот, обыкновенно выплевывается.
Войны не приносят очищений, хотя и открывают клоаки человеческих душ.
Гримасы лица отражают гримасы разума.
Влюбленный в себя завидовал женщине, которая его любила.
Укрупненный гроб не возвеличивает сущности покойника.
Проникнуть в чужую душу — это в такой же мере ее пропустить в свою.
Природа покрывается порой ядовитыми пятнами отвращения к нам.
Склоненная голова не унижает мысли.
Замшелого болота легкий камень не возмутит.
Если всеобщего блаженства не получилось — блаженство местами уже благо.
Порожденные светом разума часто недооценивают зловещей темноты его.
За секретный забор не ставят чужого сторожа.
Свинство — удобная жизненная позиция, перенятая у свиньи.
Его спустили с лестницы, а он сделал вид, что снизошел к нам.
Не хочешь излишних разочарований — не скрывай истинной природы своей.
Я не хочу радоваться только профилем, уж если радоваться — так всем лицом… (Возмущение у кинокамеры.)
Неуверенная мысль в парламентеры не посылается.
Человек славится умом, а корова — задумчивыми глазами.
Если дружба не клеится — не ругай клей.
Злого духа с обозленным не путают.
Я понял, что он — дурак, потому как он стремился прослыть за умного.
Бери от жизни столько, чтобы не опротиветь ей.
Злословием только обостряешь гвоздь в стуле своем.
Есть люди, живущие памятью горя, обнаженностью старых болячек, ковырянием давних ран.
Часто встречаешь не разумы, а их костюмы.
Тога мудрости на плечах глупости превращается тут же в попону осла.
Многие, разбив мечту, всю жизнь бренчат ее осколками.
Не обязательно быть глупым, чтобы выглядеть смешным.
С безопасных мест все стихии в прелесть.
О неколебимый фундамент незыблемых авторитетов часто разбиваются всерьез и надолго неколебимые истины будущих времен.
Раньше я относился к категории гордо виляющих хвостом…
Не любящий жизнь лишен дороги в бессмертие.
Каждое стихотворение — маленькая калитка в большой и неведомый тебе мир.
По законам контраста комик всегда трагически одарен.
Певец, поющий исключительно о своих прелестях, чаще других пускает петуха.
Средним человеком быть прекрасно, усредненным — тяжело, а постоянно усредняемым — больно.
Бескорыстного искусства нет: говорящие о бескорыстии в нем преследуют самую высшую корысть — жертвенность.
Работа над образом часто выглядит как зажаривание цыпленка на пикнике: стоящие вокруг дают советы, жарящий на костре делает вид, что усердно исполняет их.
Размерами тела — душа не определяется.
Общество, оберегающее гниль, непременно покрывается болячками.
Если собака избрала вас хозяином, это вовсе не значит, что у собаки хороший вкус.
Проглотивший жемчужину дороже не стал.
Поставленная цель формирует зубы. (Серый волк.)
Только искусство сильного и развивающегося народа может подтрунивать, подсмеиваться и иронизировать над собою.
Не вкусив пирога, нельзя рассуждать о его достоинствах.
Признанная от медведя ласка — воздушный поцелуй.
Служить благу туманных далей куда легче, нежели благу сегодняшнего дня.
Желающие тебя съесть стараются не стучать зубами. (Заметка дрессировщика.)
Могучее творчество — не обязательно титанические усилия.
Если ты не подготовлен к труду, не смей думать, что ты подготовлен к творчеству.
Режиссеров много, а я один…
Искусство живет везде кроме казенного дома.
У каждого в голове — свой редактор, каждого он защищает от неправды и от правды тоже.
Разговаривая с женщиной, углубленно думать о ней неприлично.
Чем чаще в собаку бросали камень, тем она делалась увертливее и дальновиднее.
Всяк плавающий под черным флагом мечтал обрести свои алые паруса.
Чиновничество издревле терпеть не может незапланированного таланта.
Хороший гарнир очень часто не оставляет внимания для основного блюда.
Субтильный, нежный и сентиментальный интеллигент сегодня рассказал мне о стремлениях к личным совершенствам. Он мне поведал, что любит каратэ, что может и без усилия разбить два кирпича о свою голову.
Живая вода — вода из родников твоего детства.
Неколебимой твердостью души отлично колются орехи.
Клоуна выбирает и утверждает народ: никто не может им сделаться сам, своим собственным желанием. Клоун или шут — профессия избираемых.
В чужих потемках семь шишек набьешь — в своей темноте все углы круглые.
Крайними эмоциями человек не живет, а взвизгивает.
Развратом чаще всего называется то, что не имеет к нему никакого отношения.
Под каждым дубом — непременно свой особый дубовый микромир.
Каждый несчастный воспринимается людьми через ощущение радости своего благополучия.
В сообществе с природой человек обязан быть не диктатором, а умным и сердечным демократом.
Язык искусства не столь — язык разумения, сколь — язык сочувствия и сострадания.
Есть люди, с удовольствием несущие вериги своей добропорядочности.
Всяк охотно сравнивающий себя с червяком втайне чувствует себя удавом.
Сидящему на мели куда легче, чем опустившемуся в омут.
Пламенные борцы быстро сгорают — последователи предпочитают долго тлеть.
Высшее оскорбление человеческого достоинства — война.
Все мы не хуже актеров умеем подбирать лицо к определенному случаю.
Безудержная щедрость красок чаще всего рисует отсутствующую цель.
Разбуженная совесть просыпается хмурой и злой.
Сладким языком обладают мысли лакомки.
К особенностям русской души надо отнести ненависть ко всяческому угнетению, перешедшую в инстинкт.
Переживавший сам принимает чужое горе к сердцу, непереживавший — к сведению.
При грохоте водопада — уснешь, от капли по капле — проваляешься в бессоннице.
Человек смеется над чужой глупостью от радостной осознанности общечеловеческого единства с ней.
В гостях думай что угодно, говори же — только угодное.
Ум — познает, приказывает. Мудрость — понимает, советует.
Убежденный вегетарианец — несчастный человек, тоскующий о куске говядины.
Отсутствие подхалимов справедливо настораживает руководящий ум.
От количества книг в доме ума не прибавляется.
Мир для тебя никогда не будет прекрасным, если ты не желаешь увидеть его таким.
Мудрец не тот, кто знает премудрость слов, а тот, кто превращает их в поступок мудрости.
Если ты просто делаешь ложку — это ремесло. Если ты делаешь ложку для царевны-лягушки — это уже искусство.
Святые, трепетные мысли, переведенные в шаблон, начинают работать против себя.
Сарказм, насмешка, подхихикивание или зубоскальство отнюдь не производные от юмора.
В каждом разуме таятся свои казаки-разбойники.
Истинный художник обладает истинным мужеством, чтобы перенести чужой успех.
Извиниться никогда не поздно, а вот нагрубить можно только вовремя.
Все нешуточное началось с обыкновенной шутки.
Все руководящее — руководимо.
Ничто так не мешает в искусстве, как поощряемые бездарные активисты. Они разлагают мир искусства и развращают умы, управляющие им.
Виноватый легче всех слезы льет, громче всех жалуется.
Всяк плетется путем своей озабоченности.
Опасайтесь быстро действующего кретина.
Врата жизни открыты любому случаю.
Встречному малышу улыбнись обязательно.
Лень и бездарность умеют выдумывать себе теорию.
Кричащие «ярче вспыхнуть!» чаще всего мечтают о том, чтобы подольше не прогореть.
Чем дальше человек прорывается в космос, тем сильнее его притягивает к Земле.
В каждой пивной — свои раки-отшельники.
От сотрясения дерева сначала червивые плоды отпадут.
К личной зависти киноактера, герою его кинокартин всегда был уготован выход из любого положения.
Любящий награды чаще всего слагает не саму жизнь, а наградные ситуации.
Начинающему пропойце кажется, что несчастны лишь закоренелые пьяницы да забулдыги, на которых он не похож.
Серый волк терпеть не мог анонимных писем и жалких петляний зимнего зайца. Серый волк везде любил бесстрашную очевидность, ясную открытость и прямоту души.
Истинная любовь к будущему выражается в радостях сегодняшнего дня.
Каждому пакостнику кажется, что ему мстят.
Дети ясно видят Бабу-Ягу и Кощея Бессмертного. Взрослые пригляделись и не обращают на них внимания.
Талант — ряд счастливых совпадений во времени и человеческой личности.
Обижать сильного во имя тренировки не рекомендуется.
Творческих мук нет. Есть муки иссякнувшего творчества.
Рано я вышла замуж и очень скоро затосковала о любви.
Малый запас нужного и точного словарного материала приобщает к болтливости.
Это был известный сатирик, любивший глумиться над чучелом серого волка и старенькой шкурой издохшего льва.
Чаще всего люди жалуются сообщникам того, на кого они жалуются.
Желая предвидеть — чаще оглядывают пройденный путь.
На хлеб друзей надейся при наличии полного амбара.
Умный зверь не приручается, хотя и дрессируется.
Сотрясенье Великого сотрясает мелкие души подчиненных его.
Не меняй жизненного пути под влиянием слепой зависти.
Ни один разум не застрахован от посторонней мысли.
Секунда раздумий годы зла отведет.
День увлеченности — миг. День безделья — конца не ведает.
Силу обретают на исходе сил.
Всеобщая благодать без досадных частностей не слагается.
Признание своей глупости ничуть не меньше признания своего ума.
Всяк выдумывающий себе святость, видимо, чувствует, что он по природе — черт.
Катастрофа накапливается постепенно, зато проявляется враз.
Творческая энергия иссякаема, как вода в колодце: к подождавшим придет накопление, ретивые черпают подонную грязь.
Солист уважал хор как гарнир к своим собственным выступлениям.
Иван Иванович не мудрствуя лукаво считал, что смысл всей жизни заключался в том, чтобы все было хорошо, и здесь нельзя не согласиться с Иван Ивановичем.
Все дурно пахнущее не порицай — благодари за откровение.
Если муха ползает по глобусу — это вовсе не значит, что она искушена в географии.
Думая о человеке плохо, относись к нему хорошо.
Карьера, начатая в искусстве с провала, считается за хорошую примету: очевидно, первое потрясение от неудачи отрезвляет, а трезвая голова обретает спокойную уверенность битого в решении вопроса: быть или не быть.
Меняется жизнь — меняются ангельские облики.
Если кочка моя вздулась, значит, я над другими лягушками возвысилась.
Хороший поэт прежде всего должен быть отличным конюхом для своего Пегаса.
Все духовное увядает, если не питается земными соками.
Если есть в душе святое место — не поселяй в него служителей, дабы не превратилось оно в казенный дом.
Танцующие во тьме радуются на ощупь.
Если тучи мчатся — значит, скоро пройдут.
Не гони время — оно обидчиво.
Прослыть веселым и жизнерадостным мало — надо еще и быть им.
Есть художники, знающие, что надо людям; есть художники, знающие, что надо им самим.
Легкоранимый недолго терпим.
Жгучие вопросы не настолько обжигающи, чтобы не нашлось любителей погреть свои хладнокровные руки.
Неудачно пролившийся свет истины часто оставляет несмываемые пятна.
Все желания упрутся в твои возможности.
Иная собака столько налает, что никакой ветер не унесет.
Прослыть умным не столь заманчиво, сколь ответственно.
Заглушенный огонь рождает зловоние дыма.
Если тебя обругали интеллигентом, то это не располагает к горделивой заносчивости.
Если человек перестает заботиться и служить окружающей жизни, то и гордая жизнь тут же перестает заботиться о нем.
Есть люди не твоего круга: живешь рядом, а друг к другу не тянет, и ты понимаешь, что неприступные грани окружности есть и что переступать эти грани, пожалуй, не следует.
Случайно услышанное — не всегда услышано случайно.
Вдохновение постигнет приготовивших почву.
Ложь чаще всего настораживает своей щепетильной претензией на абсолютную правду.
Не умеющие защищаться мыслью — запасаются цитатами.
Успокойся, голубка, я просто вынужден быть похожим на ястреба.
Сиплые глотки не простужаются.
Если тебя положили сегодня на обе лопатки — не грусти, завтра вывернешься. Если тебя на обе лопатки кладут каждый день — не грусти, значит, так тебе больше нравится.
От мамаши-змеи новорожденные змееныши улепетывают в разные стороны.
Со страха лезущий — опасней храбреца.
Если бы человечество вдруг точно уверилось бы, что бог есть, оно погибло бы от духовного подхалимства.
Транжирящий чужие деньги всегда в претензии на звание человека щедрого и великодушного.
У живущего в норе душа не складывается подобно океану.
Свинье на вертеле пристрастие к лужам не ставится в укор.
Справедливое возмущение в барабанном бое не нуждается.
Умевший радоваться — больше прожил.
Графомания — прострочечное истечение разума в дырявый бурдюк с благими намерениями.
Люди не любят, когда о них говорят очень плохо, в особенности, когда о других говорят очень хорошо.
В переживании одного — основа переживаний каждого.
Упорство ишака и упорство мудрого человека — два противоположных полюса единой природы упорства.
Когда в человеке все правильно, тогда в нем чего-то обязательно недостает.
Попавший под микроскоп не понимает своего величия.
Кошкины грезы жеребца не трогают.
Есть правда, которой тычут, как палкой, в нос да еще присматриваются, — а правдолюб ли ты.
Болезненная жажда величия особенно свойственна карликам ума.
Подсмеиваются над обозниками позабывшие, что без обоза не двигаются вперед.
Любящий белых медведей утверждал, что у них мясо не хуже баранины.
Обманывающий по пятницам будет обманывать каждый день.
Мракобес — хищник на идее высшего доверия.
К трухлявому дереву за поддержкой не идут, трухлявое дерево не поддерживают.
Часто болезненно кричащие о равенстве понимают его как процесс обрубания чужих достоинств до степеней своего убожества.
Бездарные труженики искусства любят носить власяницу мученика.
Много и обильно кушающий не всегда обещает кучу трудовых побед.
Был бы гром в чистом небе. а истолкователи найдутся.
Потерявший голову о хвосте не думает.
Любить страну — это вовсе не значит жить среди подсвечников, старинных икон или гробниц.
Крылья Пегаса пугают бескрылых лошадей.
Старший дурак исторически терпеть не может младшего умника.
Пегасы вначале брыкались, но вскоре привыкли к силосу и вот теперь уже стали воспевать его.
Чем больше человек достигает влияния, мудрости и силы, тем его чаще обманывают и вдохновеннее ему врут.
В детстве хочется скорее вырасти, сделаться большим и сильным, в зрелом возрасте — миновать последующий инфаркт.
И все же — не доверяй Пегаса простому хозяйственнику.
Ушедшего в себя я не боюсь, а вот настойчиво лезущего в меня опасаюсь.
Дилетанты в искусстве — самые злые и самые бестолковые его критики.
Безумная любовь — это не обязательно любовь двух глупых, это может быть простое несчастье двух умных людей.
Только ум снисходителен к человеческому убожеству.
Бронзовая болезнь — ощущение человека в утомившей позе осознанного величия.
Глаза ехидства смотрят глубоко в грязь.
Свежая мысль из затхлого погреба всегда придет со своими ароматами.
Все взывающие к борьбе умеют вовремя улепетывать в сторону.
Иной бы и расправил крылья, да глупая жена взлететь не дает.
Врожденное холуйство само слагает своего барина.
Даже тридцать шесть золотых зубов не стоят одного настоящего.
Если тебя вознесло над людьми — смотри, чтобы не отправило к ангелам.
«Трудно бороться с талантливыми художниками», — сказал новоизбранный секретарь творческого союза художников.
Истинное искусство не бывает рабом житейской точности.
Умный человек тот, кто неопровержимо и доказательно может изложить всю правду своей глупости.
Когда книг много, а времени нет — найди мгновение приласкать кое-какие из них, полистать, стереть пыль, любовно потрогать, и каждая подскажет что-то, шепнет свое заветное.
Вначале думали, что Пегасы не общаются, но сейчас они свободно резвятся на тучных полях творческих съездов и конференций.
Замирание сердца по законам стенокардии никогда не спутаешь с замиранием сердца по законам любви.
Застрявшего в луже думы о большой воде не радуют.
Вещь, оставленная без присмотра, начинает обретать чужие глаза.
Глупость все увидит, разум многое не станет замечать.
Блудливая кошка от перемены мест не меняется.
Брошенная хозяином кость иногда ушибает морду. (Пес.)
Если мы наконец поняли, что смертельно опасно нарушать экологию Земли, то теперь это необходимо также и в отношении космоса.
Придуманная змея способна ужалить не хуже реальной гадины.
Крайне жестокие законы — дети общественного бессилия.
Камертоном правды любой карикатуры является предельно точно представляемая жизнь.
Исполнительством актера проверяется скрипка души, режиссурой — механизм разума.
И все сводилось к одному: отдайте мне, а не ему…
Вид человеческой робости с древних пор и по сей день продолжает умилять начальство.
Показная щедрость ничуть не лучше, чем расчетливая расточительность.
Мысль — свободна, пока она в голове человека. Мысль, сошедшая с языка, уже пленница людей.
Интуиция — исторический рудимент мышления без слов.
Вымученная острота подобна нищему с протянутой рукой.
Чудо, вылепленное из глины, до первого дождя живет.
Прежде чем выходить к цели, надо научиться попадать в нее.
Если ты не в ладах со всеми — значит, ты не в ладах с самим собой.
Если у животных — душа, то у собаки — великодушие.
Искусство без ремесла что лодка без весла.
Не всякое сиятельство светить способно.
В начале старения дед годик утаивал, в глубокой старости — десять лет прибавлял.
Увлечение — высочайшее развлечение.
Призывающий не быть дураком обычно приглашает тебя в союзники.
Если к тебе пришел цветок — напои его свежей водой.
Все прошедшее через тебя — оценишь старостью.
Чем глупее актер, тем поучительнее звучат его интонации.
Не верь бочке в море — не свободна воля ее.
Корабль трясло и коробило от преждевременных желаний войти в гавань будущего.
Дядя Саша принимал участие в жизни в основном по телевизору.
Нельзя же быть полным дураком. (Древнее человеческое заблуждение.)
Не лезь, к душевному холоду, если имеешь склонность к простудным заболеваниям души. Комплименты голодного человека умного повара не умиляют.
Рука пишущего по шаблону много напишет, но прекрасного не сотворит.
По степени загрязненности природы можно судить о степени черствости ума и сердца проживающих в ней.
Отсутствие таланта одним присутствием духа не заменяется.
Прежде чем бросить человека на землю, судьба приподнимает его.
Переживать на сцене то, что ты себе не представляешь, имеет право только обезьяна, способная показывать, как это делает человек.
Всяк мечтающий о прекрасной даме — уже и сам прекрасен в мечтах своих.
Он был артист, в глазах его блуждало всякое.
Все возвышенное поднимает душу, как траву, к солнышку.
Хочешь быть многими любим — готовься быть многими и нетерпим.
Гусь, поклеванный орлом, всю жизнь похвалялся природой личной дерзости.
Искусство — пятое измерение человека в его духовной сущности.
Искусство живо природой откровения, ремесло — освоенной точностью.
Не ведающему истории искусства огромнейший музей в конце концов покажется томительной пустыней.
В центре сутолок колыбель не ставят.
Сидящий на вершине дуба видит перспективные дали, собирающий желуди — обнаженную боль корней.
Хороший гонорар взвинчивает убедительность сил творческого вдохновения.
Законсервированные стройки напоминают деформированный скелет будущего.
Искусство без искусствоведения все равно что корабль без компаса и парусов.
Афоризмы — звездочки разума, сложенные из слов.
Костюм мерзавца на все вкусы шит.
Кто не выходит — тому помогают выйти.
Если ты хоть немного похож на лошадь, будь спокоен — тебя не оставят любители прокатиться на ней.
Люди, не терпящие меня, заблуждаются. (Истина.)
Если от тебя шарахаются собаки — проверь, может быть, кошки тоже шарахаются от тебя.
Во все времена и народы — труден путь идущего прямо.
Символ — представитель от природы отвлеченного мира. Образ — представитель от реального бытия.
Если женщине нравятся исключительно правофланговые, то здесь ничего не поделаешь.
Прежде чем съесть, даже лев обнюхает…
Часто, не замечая этого, мы придумываем себя для окружающих.
Потуги остроумия, как и всякие потуги, не проходят даром.
Сценическое раздумье — это не глаза, вытаращенные в пространство.
Коли бог тебя заметил — молчи, чтобы черт не увидел.
Все чарующее в роли находится за пределами авторского изложения.
Могучая жизнь проходит не только грохотом фанфар, чеканящих шаг времени, но и светлыми зорьками манящей тишины у костров над камышовыми речками, тихими лепетами малышей у груди своей матери, природой грез о будущих радостях в спокойных сумерках уходящего дня.
Если для тебя открыты вое двери, то это вовсе не значит, что все готовы из-за тебя сидеть на сквозняке.
Что бы ни имел человек, его всегда легко убедить, что он достоин большего.
Морали, попираемые проповедниками, не теряют святого смысла для целомудренных душ.
Не убежденный в правде творимого — не убедит других.
Когда не уверен в правде, наберись мужества не утверждать ложь.
Чтобы выглядеть человеком солнца, надо чувствовать в себе человека тьмы.
Поэзия — страсть, обузданная в образ, душевное смятение, уложенное в ясность стихотворных форм.
Художественный реализм — это не столь похожее на жизнь, сколь побуждающее к жизни.
Многие художники не замечают, что трепетная искренность души и подлинность волнений давно потеряны и вместо них явилось бойкое подобие простого опыта, любовно названное ими обретенным мастерством.
Кошка, читая роман о доблестном и благородном псе, умилялась; как и пес, читая о кошачьей нежности и грации. Растроганные и взволнованные, они выскочили прогуляться и тут же с лютой ненавистью набросились друг на друга.
Дирижер был похож на разгневанный мешок с ватой.
Если ты поешь только ветру, то людям принесешь только шум.
Несдержанные мысли убивали сердце, сжигали разум, приводили на эшафот — сдержанная мысль созревала в полезный поступок.
Каждое выражаемое нами чbr /увство непременно опирается на равную силу обратного потенциала и, преодолевая его, достигает тем самым своей устойчивости.
Если все глупцы, вруны и простофили доверчиво лезут к тебе за советами — не обольщайся: они просто приняли тебя за главного.
Музы никогда не дремлют, потому что их враг никогда не спит.
В бестолковую голову всяк свой толк вкладывает. И чем больше его положено, тем разнообразнее и красочнее, удивительнее и непостижимей мир сложенной бестолочи.
У одних внутренний взор проникает вдаль, у других — упирается в вещи.
Чужая глупость легче переносится, нежели чужой глубокий и содержательный ум.
Народ выдвигает сильного, чиновник — податливого.
Истинное искусство никогда не было бесстрастным портретистом жизни.
Память о живых глазах зрительного зала — путеводная звезда артиста кино.
Талант — это прежде всего отзывчивость к высшим требованиям других душ.
Перевоплощение актера прекрасно лишь до разумной и определенной цели образа.
Все артисты, разгадавшие геометрию души, вскоре переставали быть артистами.
Артиста с душой козы не берут на роль серого волка.
Всех любителей ковыряться в твоей душе — немедленно отправляй на огородную грядку.
Среди трех дураков один окажется наиболее умным.
Для мелкого ума крупный шрифт не помощник.
Посаженного в тюрьму не называют домоседом.
Змея, вползающая в чужую шкуру, во многом опаснее змеи, выползающей из своей.
Почему-то принято говорить — «голубая мечта», но если у тебя появилась, допустим, фиолетовая, — не смущайся: это тоже прекрасно.
Прострация — бессмысленное распознание ума в пространстве.
Крылья любви ведут на якорную стоянку.
Исполнителем роли могут быть многие, создателем образа — только один.
При хороших делах администратор в театре не замечается.
Кинооператор обязан снять художественно выраженную душу кадра, а отнюдь не старательно высвеченное пространство.
Художник буйствовал: художник швырял поленьями в граций.
Смертная казнь не наказание личности, а наказание общества.
Строящие новый дом не гнушаются старыми инструментами.
Чтобы выглядеть бывалым моряком — не обязательно при всех случаях жевать морскую капусту.
Создавая компьютеры, человечество наглядно выражает представляемые vim возможности своего будущего биологического разума.
Неисполнившиеся надежды всю жизнь остаются главными.
Действительно идущий — придет, делающего вид — привезут в машине.
Дикую свинью благородно именуют вепрем.
Если на тебя шипят кошки — значит, ты уподобился псу.
Возвышенной молитвой не клянчат на мелкие расходы.
Кот, пожиравший гастрономические яства, терпеть не мог запаха мышей.
Уходя на пенсию, не гаси свет.