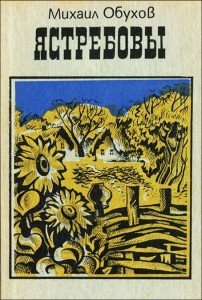


Дороги… Куда они ведут? Что ждет нас на ближних и дальних перекрестках? Без дорог, без их самых неожиданных переплетений нет жизни, может, потому неугомонное сердце гонит человека в путь, навстречу неизведанному…
Николай Ястребов стоит у открытого окна вагона. Плавно покачивает. Дорожные спутники уже давно угомонились. С соседней полки слышится мощный храп толстяка инженера. Только Николай не может заснуть. Он все смотрит на летящие мимо по-ночному безмолвные станицы и хутора, на хлеба, подступающие к самому полотну железной дороги,— свет вагонного окна будто выхватывает неисчислимое множество колосьев из темноты, плывет над ними ярким четырехугольником.
На горизонте — заря. Кажется, она провожает Николая. И он не поймет — вечерняя она или утренняя.
«Это моя заря, — мельком подумал Николай, вспоминая последнюю встречу с Анютой, ее пожелание, — моя заря, она должна быть, только утренней!» Немного погодя он радостно произнес: — Буду студентом!..
Книги об этой счастливой молодежи и редкие встречи с приезжающими на каникулы студентами с некоторых пор вызывают у него острую зависть. С какой важностью эти бывшие хуторские, как и он, парни говорят о больших городах, о книгах, о лекциях, о профессорах. А как их слушают!
Николаю очень хочется стать студентом, участвовать в пирушках и диспутах, слушать лекции важных седых профессоров — Николай представляет профессоров непременно важными и непременно седыми. Ему очень хочется бывать в аудиториях, в лабораториях. И слова-то особенные, манящие: лекция, диспут, кафедра…
Он не спал ни минуты, но чувствовал себя бодро и с радостью следил, как начинается новый день, как редеет, бледнеет ночь. Из-за горизонта, который теперь уже отошел к дальним курганам и хуторам, медленно выкатывается большой без лучей красный шар солнца; сгустившийся перед рассветом туман расползается, тает, обнажая освеженное и умытое росой поле, будто расшитое переливающейся позолотой и прозеленью. Из белесой мглы выходят и приближаются к поезду высокие курганы; радуясь теплому утру, с веселым ревом идет стадо.
Да, в степи тут нет ни леска, ни кустарника, ни озер. Но и то, что он видит, очень любопытно: белые саманные хаты, приплюснутые к земле, рабочий поселок, а за ним возле шахты черный конус; на полях желтеют копны хлеба, и над ними вьются птицы.
«Здесь раньше начали уборку. Что значит расстояние в сотни верст!» — думает он, мысленно возвращаясь к Грушкам, и, вздохнув, прислушивается к разговорам проснувшихся пассажиров.
За окном, бок о бок с железной дорогой, перекатываются волны большой реки.
— Неужели Дон? — с восторженным удивлением спросил Николай.
— Дон, — равнодушно сказала худощавая молодая женщина с запудренными следами лихорадки над верхней губой.
Николая не задело ее равнодушие.
«Вот он Дон, а в нем и воды родной Безымянки». — Его снова захватили мечты о будущем.
За бакенами, которые, казалось, вот-вот утонут, покачивалась одинокая баржа. Все это видел он впервые, даже не знал, как назвать бакены, баржу. Но широта простора реки с этими судами на волнах, с нырками-бакенами и задонская равнина с хуторами и станицами, убегающими к горизонту, буйство сияющих под горячим солнцем красок — голубизна, зелень, золото поспевших хлебов — захватили Николая.
Вздрогнув, как живой, поезд опять тронулся, оставив на прощанье облачко дыма, медленно надвигающееся на сады.
Николай не сидел на одном месте. Он взволнованно переходил от окна к окну, чтобы видеть обе стороны и ничего не пропустить.
Город с первых минут оглушил Николая своей многоголосицей, грохотом, звоном трамваев, гудками, сиренами. Казалось, не у кого спросить о давнишнем товарище комсомольце Сергее Савине. Люди спешили так же, как и машины. И никому он не был нужен. Вагонный знакомый, толстяк инженер, укатил на пролетке с резиновыми шинами.
Ступив на асфальт, Николай как будто разучился ходить — до того неуверенным стал его шаг. Все летело на него, грозило смять, раздавить.
Адреса Сергея он не знал. Только было известно, что друг работает на кожевенном заводе.
«Сколько людей, и ни одного знакомого,— с тоской подумал Николай, оглядывая уходящую куда-то в гору тысячеголосую улицу.— А надо искать!»
Он заходил в магазины кожевенных изделий, спрашивал, как пройти на завод. Но магазинов, в которых торговали кожей, в Ростове оказалось много, а о том, что в городах есть адресные столы, Николай не знал.
У высокого серого здания стоит грузовик. Один борт его откинут, и два грузчика спускают по доске в подвал тюки кож. «Наверное, прямо с завода, — решает Николай. — Надо спросить».
Он подошел поближе к подвалу, поставил на тротуар свою корзину, придавил ее коленом — чего доброго стащат — и спросил грузчика, который помоложе, не знает ли он, где находится кожзавод.
— А зачем он тебе? — сказал грузчик, оглядев Николая темными нагловатыми глазами.
— У меня там товарищ работает.
— Ты деревенский?
— Да, первый раз в городе, — с доверчивой улыбкой ответил Николай.
Грузчик, тряхнув черными мелковьющимися кудрями, опустил в подвал тяжелый тюк подошв, подошел и опять оглядел Николая.
— Я работаю на кожевенном заводе. Как фамилия твоего друга?
Николай назвал.
— А имя?
— Сергей.
— Сережка! — обрадованно сказал грузчик. — А какой он из себя? Так, так… с веснушками, значит. Курносоватый… Большие серые глаза… Он и есть,— утвердительно кивнул головой грузчик. — Ты вот что, парень, на завод тебе незачем идти: мы с твоим Сережкой большие корешки, товарищи,— пояснил он. Запиши его адрес и поезжай прямо к нему домой. На трамвае. Деньги-то у тебя есть?
Второй грузчик, оставив работу, со вниманием следил за разговором.
— Записывай: Нахичевань, Сорок вторая линия, дом сто семнадцать, квартира шестая. Записал?
— Спасибо.
— Не стоит благодарности, дуй.
— Да деньги приготовь на обратную дорогу, — смеясь, сказал грузчик, не принимавший участия в разговоре.
Николай вопросительно взглянул на него.
— Зачем смущать человека? — сказал тот, что дал адрес.— Трамвайная остановка вон, видишь? — указал он на угол улицы, где действительно стоял трамвай.— Сережка теперь как раз дома.
Эти доводы, а главное, убедительное наличие трамвая на остановке, рассеяли недоверие Николая. Он взвалил на плечо корзину и, рискуя попасть под колеса лихача, быстро зашагал к углу.
Но не то что дома, а и линии такой в Нахичевани не оказалось…
Не жалея ног, дважды Николай пересекал центр Ростова, исколесил все окраины, побывал на трех кожевенных заводах. И лишь на четвертом ему дали нужный адрес. Опасаясь нового обмана, он проверил адрес у секретаря комсомольской ячейки завода и только после этого отправился на поиски улицы.
Теперь начало тревожить другое: как встретят гостя сестра Сергея, ее муж — Сергей живет у них на квартире. Вдруг да не примут хуторного?
Нужный дом оказался деревянным, голубым, двухэтажным, с балконом и большими светлыми окнами на улицу. На хуторе таких домов не было даже у самых богатых казаков.
Выбив пыль из кепки и обтерев потное лицо носовым платком, — платок сразу стал грязным — Николай постучал в парадную дверь.
На балкон вышел брюнет лет тридцати, с откинутыми назад длинными густыми волосами, с широкими сросшимися бровями. Его карие глаза вопросительно посмотрели на Николая.
— Вам кого? — хмуро спросил брюнет.
— Сергей здесь живет?
— Сережка, к тебе пришли, — сказал незнакомец, обернувшись к двери.
И тотчас на балконе появился Сергей, что-то напевавший, широкоплечий, в голубой майке и белых брюках.
— Откуда? — воскликнул он.
Через минуту Сергей был уже внизу и обнимал Николая.
Они вошли в большую светлую комнату, разделенную ситцевой занавеской. Из-за этой занавески с радостными восклицаниями вышла Нина, сестра Сергея, очень похожая на брата, только не такая загорелая.
Из кухни появилась Лукинична, мать Сергея и Нины. Она выглядела так молодо, что ее можно было принять за их старшую сестру.
— Чертенок полосатый! — сказала она Николаю.— Ты бы хоть письмо написал.
— Мы и адрес ваш потеряли, — оправдывался Николай. Муж Нины Александр, тот самый брюнет, что выходил на стук Николая, сел напротив гостя и заговорил, будто они были век знакомы:
— Когда приехал?
— В восемь сорок утра.
— А что же делал целый день?
— Вас искал, — Николай под общий хохот стал рассказывать о своих мытарствах.
В коридоре шумит примус, Лукинична готовит угощение. Сергей показывает Николаю свое богатство: радиоприемник, который собрал сам.
— Что ты к нему с наушниками-то пристаешь? — говорит Нина, ставя на стол хлеб и дымящуюся яичницу с колбасой. — Дай человеку поесть…
Вкусно пахнет. Радостно улыбаясь, Николай смотрит на друга, на его семью. Он думает, что два года разлуки мало изменили Сергея. У него такое же серьезное лицо, по комнате он ходит все той же медлительной походкой, так же откидывает волосы, так же смотрит открыто и прямо, без тени лукавства и хитрости.
На другой день Николай проснулся часов в пять утра. За ситцевой занавеской слышалось дыхание спящих. Только Сергей в бурой спецовке, похожий на пожарника, уже сидел с наушниками. В открытое окно с улицы врывался свежий воздух, марлевая занавеска тревожно билась. За окном скрипучий женский голос кричал:
— Молока… Кому молока!..
Не двигаясь, Николай глядел на голову друга, опоясанную металлическим светлым обручем с черными кружочками наушников на концах. Мысленно переносился домой, вспоминая отъезд, дорогу, Анюту.
«Да, — думал он. — Сергей приехал к Нине, я — к Сергею, а ко мне еще кто-нибудь… Так и тянется в жизни цепочка».
— Не спишь? — спросил Сергей и поманил пальцем. — На, послушай. — Он снял наушники. — Мировая музыка.
Радио в ту пору еще было редкостью.
Николай узнал, что учебной частью на литературно-лингвистическом отделении заведует профессор Благосклонов, бывший некогда директором мужской гимназии в станице Суходольской.
«Пойду к нему, все-таки земляк. Хоть он и не знает меня, но, может быть, найдем общих знакомых», — наивно размышлял Николай. Ему казалось, что человек из Суходольской не может быть не своим.
В канцелярии литературно-лингвистического отделения он увидел мужчину лет сорока, довольно упитанного, с румяным лицом и карими глазами. Николай обратился к нему:
— Мне нужно видеть Виталия Владимировича.
Тот, глядя на хуторского парня, еле заметно усмехнулся:
— Виталий Владимирович вас слушает.
— Вы профессор Благосклонов?
— Да, моя фамилия Благосклонов, и я профессор. Чем могу служить?
Ошарашенный этим насмешливым ледяным тоном, Николай растерялся и сбивчиво стал объяснять, из какой он станицы и о чем хотел бы просить Виталия Владимировича как земляка.
Профессор поморщился.
— К сожалению, — сказал он, — я никакого отношения не имею к заявлениям о приеме. — Но говорил он это не с сожалением, а с удовольствием. — Поступающих принимает правление университета. — Благосклонов еще раз окинул ироническим взглядом Николая и углубился в чтение какой-то бумаги.
Николай постоял некоторое время, глядя на выхоленные белые руки профессора, на аккуратный пробор в волосах, и сказал со вздохом:
— А я на вас надеялся.
— Помочь ничем не могу, — процедил Благосклонов, не подымая головы от бумаг.
Николаю очень хотелось сказать этому высокомерному человеку какую-нибудь резкость, но он ограничился лишь вежливым «до свиданья» и направился к декану факультета. На дверях красовались желанные таблички: «факультет», «ректор» «аудитория», «лаборатория». Только радости все это не доставляло.
Декан Виктор Осипович Осинский пригласил Николая сесть в мягкое покойное кресло, расспросил, откуда он, как живет станица, что там нового.
— А ты, парень, не из кулаков? — Виктор Осипович подмигнул, и на болезненном лице его появилось лукавое выражение.
— Нет, что вы! — испуганно проговорил Николай. — Да вот посмотрите документы. С кулаками я воевал…
— А знаешь, чем больше документов, тем меньше веры. Свой парень не особенно будет запасаться ими, а чужаки раздобудут. Мы живем во враждебном окружении. Нужна особая прозорливость, чтобы отличить, где наш человек, а где враг. Комсомолец?
— С двадцать первого года, — ответил Николай, невольно выпрямляясь.
— По путевочке крайкома комсомола приехали?
— Вот в том-то и дело: у нас никому путевок не давали.
— Ну что ж, в таком случае надо ехать обратно в станицу. Педтехникум, говоришь, окончил? Станицы и хутора нуждаются в просвещении. Вот и нужно просвещать их…
Осинский говорил правильные слова, возражений как будто не находилось, но все же Ястребов не мог внутренне согласиться с деканом.
Еще несколько дней ходил Николай из правления университета в областной отдел народного образования, оттуда — в канцелярию по студенческим делам, потом к декану, затем опять в правление. Он жил на двадцать копеек в день. В столовой не бывал, в семье Сергея отказывался даже от чая. Чтобы никого не стеснять, спал на балконе, уверяя, что ему это очень нравится, и шутливо добавлял при этом, что спать на вольном воздухе рекомендуется врачами.
А все же денег оставалось так мало, что их уже не хватило бы на покупку билета, если бы пришлось возвращаться домой.
Однажды Николай стоял на балконе четвертого этажа главного здания университета. Его мучил проклятый вопрос: что делать? Он и не заметил, как на балкон вышел пожилой человек с крупными правильными чертами лица, с живыми темными глазами и с седой шевелюрой.
— Вы что здесь стоите? — серьезным тоном спросил он Николая.
— Жду заведующего отделением. Хочу поступить учиться хоть вольным слушателем.
— А что вы окончили?
— Педагогический техникум.
— Вы имеете право быть студентом.
— Я тоже так думал. — Николай горько улыбнулся. — Но вот больше недели хожу и ничего не добился. Я приехал сюда без путевки. Документы у меня все есть, а никто даже выслушать не желает. Ну я понимаю, можно не принимать, но хоть бы вошли в мое положение. А то к кому я ни обращался, как будто только и стараются отделаться от меня.
— Ну, это вам так показалось.
— Какое там показалось! — Николай с досадой махнул рукой и, видя сочувственное, теплое выражение в глазах собеседника, доверчиво продолжал: — Все стараются куда-нибудь отослать. Вот у меня полная пачка документов, и никто даже рекомендации не прочитал, а ведь ее давало общее собрание, целый коллектив.
— А позвольте спросить, к кому вы ходили?
Николай перечислил. Этому незнакомому, видимо душевному человеку, он не сказал только одного: как его встретил секретарь горкома комсомола.
— …Учиться? В университет? — спросил парень лет двадцати трех, исподлобья глядя на Николая недружелюбными черными глазами. — Все Ломоносовыми хотите быть! Но ведь вам должно быть известно, что комсомольцы могут ехать на учебу только по путевкам?
— Вот я и пришел к вам за путевкой, — сказал Николай, чувствуя неприязнь к этому черноглазому. Ему не нравились и этот отдельный кабинет с большим окном, и стол, за которым сидел секретарь горкома, и зеленое сукно, и два телефонных аппарата, и дорогой чернильный прибор.
— Если окончил техникум, так надо ехать учительствовать в деревню, а не бежать в город.
— Выучусь, поеду в деревню, — сказал Николай. — Но я хочу быть преподавателем русской литературы.
— Преподавателем русской литературы! Я, может быть, академиком хочу быть. Мало ли кто что хочет! Не дали путевки на месте, и мы не дадим.
Разговор обозлил Николая. «Расселся в кабинете… Подумаешь, фон-барон! А почему я должен ехать в деревню, а не этот зазнайка!»
…Обо всем этом он не рассказал теперь человеку с симпатичным лицом.
— Разрешите мне познакомиться с вашими документами, — попросил тот.
— Пожалуйста, — Николай с готовностью протянул ему папку, которую до этого держал под мышкой.
Облокотившись на перила, собеседник стал смотреть бумажки. Читая постановление хуторян, он чуть-чуть улыбнулся. Прочитал и свидетельство об окончании техникума, где особенно отмечались успехи Ястребова по литературе.
— А вы на литературное отделение хотите?
— Да, хотел бы стать преподавателем литературы, — ответил Николай и неожиданно для себя заговорил о том, какое великое счастье преподавать родную литературу, воспитывать юношество, пробуждая в нем все лучшее. Бог знает что болтал!
Собеседник все так же сочувственно смотрел на Николая и, возвращая папку, сказал:
— Знаете что, сходите-ка в краевой отдел народного образования, к заведующему.— Заметив, что лицо Николая при этом нахмурилось, он усмехнулся краями тонких губ и добавил: — Это мой старинный приятель. Сошлитесь на меня. Моя фамилия Моисейченко. Если и там не дадут путевку, то приходи-те сюда и разыщите меня.
Уже за одно то, что Моисейченко так внимательно прочитал документы и тепло поговорил с ним, Николай проникся к нему благодарностью. Шагая по улице, Николай думал: «Есть же все-таки хорошие люди на свете!»
Но в краевом отделе его опять охватило тревожное чувство: «Не примут, откажут и здесь. Конечно, Моисейченко хороший человек, но не он тут заведующим».
Начальник канцелярии, показавшийся человеком неприветливым, официальным тоном спросил:
— Вы, гражданин, по какому вопросу?
Его сухость убила последние надежды Николая:
— Я по совету товарища Моисейченко к заведующему…
— Вас направил доцент Моисейченко? — сразу потеплевшим голосом переспросил начальник канцелярии.
— Да.
— Что ж, говорите, все дела проходят через меня.
Николай подал заявление и другие документы. Секретарь, усмехаясь, читал про себя постановление общего собрания граждан хутора Грушки:
«Нам, гражданам хутора Грушки, Суходольскои станицы, Северо-Кавказского края, очень и очень желательно было бы, чтобы из нашего темного медвежьего уголка, которого только начинают касаться первые лучи восходящего солнца — науки, символа, до настоящего времени доступного буржуазии, а недоступного нам, весьма желательно было бы, чтобы сын хлебороба вышел и вывел нас впоследствии из мрака и заблуждений к свету, добру и знанию. И потому, принимая во внимание все вышесказанное, нам хотелось бы, чтобы Ястребову Николаю Петровичу, уроженцу нашего хутора, был доступ во все как средние, так и высшие учебные заведения. На основании изложенного и тем более, что Николай Петрович Ястребов — комсомолец и был батрак, мы, граждане глухого захолустья, просим (на обороте сего)…»
Начальник перевернул лист выписки из протокола и продолжал читать:
«заведующих и советы педагогов каких бы то ни было учебных заведений принять его вместо сына какого-нибудь кулака, а поэтому просим вас оказать содействие и помощь Николаю Петровичу Ястребову как представителю нашего крестьянства…»
Чем дальше читал начальник канцелярии этот документ, где поэтическое творчество секретаря хуторского Совета чередовалось с его же канцелярскими оборотами, тем больше улыбался. Взгляд его стал приветливей.
Прочитав рекомендацию и свидетельство об образовании, он сказал Николаю:
— Посидите здесь, я пойду к заведующему.
Через несколько минут он вернулся.
— Пойдемте! — И провел Николая в кабинет.
Глядя на пенсне заведующего, Николай думал: «Неужели и этот откажет?»
А сам говорил:
— Пришел к вам правду искать. Хочу учиться…
Начальник канцелярии с улыбкой сказал:
— Товарища Ястребова целый хутор рекомендует, да еще и доцент Моисейченко поддерживает! Документы его я все пересмотрел.
Заведующий долго качал головой, читая необыкновенную «путевку» Ястребова, потом снисходительно сказал:
— Хорошо, пусть учится!
И написал на заявлении всего лишь два слова… Как легко и просто кончились мытарства Николая!
Вечером он рассказывал Сергею о Моисейченко:
— Я сразу подумал, что он не простой человек. Так оно и оказалось.
— А что это значит — доцент? Профессор, что ли?
— Не знаю. Наверно, больше чем профессор.
На другой день комендант привел Николая в общежитие — в очень большую комнату, называющуюся приемником.
— Жить будешь здесь, — неопределенно кивнул он и ушел.
К Николаю приблизился парень в черных трусиках. Он был похож на атлета. Тело бронзовое, загорелое. На Николая, по хуторскому воспитанию непривычного к такому костюму, он произвел сильное впечатление.
— Ты казак? — спросил парень.
— Казак.
— В бога веруешь?
— Что?
— А ну перекрестись!
Николай изумленно смотрел на атлета, на других обитателей комнаты, не понимая, в чем дело. Парень бесцеремонно повернул его, оглядел со всех сторон и спросил у остальных:
— Хлопцы, примем его в запорожцы?
— Примем, батько! Примем!
— Зачислим в наш курень?
— Зачислим, батько! Зачислим! — еще дружнее и громче кричали с мест.
— Ну вот, — снова обратился парень к Николаю, — теперь ты наш запорожец, член нашего куреня. Ты обязан защищать нашу веру и свято блюсти ее от врагов как внешних, так и внутренних.
«Ну и народ!» — с изумлением подумал Николай, радуясь, что начинается уже студенческая жизнь.
Комната занимала почти весь нижний этаж большого трехэтажного здания. До революции в ней был танцевальный зал, после гражданской войны помещалась столярная мастерская, потом — студенческая столовая, а недавно здесь открыли общежитие-приемник для вновь поступающих в университет. От прошлого на потолке сохранились полуоблезлые амуры, на полу и подоконнике — следы рубанка и топора.
В зале стояли четыре больших стола, несколько тумбочек и скамеек, с десяток некрашеных табуреток, а вдоль стен — топчаны на козлах и под ними — корзины, чемоданы и просто узлы с незатейливым имуществом будущих студентов.
Народу в приемнике было много. Здесь и новички, как Николай, и студенты Новочеркасского политехнического института, приехавшие в Ростов на летнюю практику, и окончившие университет, но еще не устроившиеся с квартирой и работой, и просто знакомые, не имеющие где приклонить на ночь голову. Топчанов и козел не хватало, многие спали на полу.
Николай устроился на большом столе рядом с безногим парнем Афанасием Редько, приехавшим с Украины.
Редько было лет двадцать семь—двадцать восемь. Он участвовал в гражданской войне и после тяжелого ранения остался по колена без ног. Ходил на деревянных култышках.
Когда он вернулся из госпиталя, мать сокрушенно сказала:
— Ой, лишенько, старец, куда я теперь с тобой? Ты и побираться-то не годишься…
Но Афанасий Редько выбрал для себя более сложную и увлекательную жизнь.
Рыжеволосый, с веснушками, с глазами цвета синьки и круглым добродушным лицом, всегда свежевыбритый, он казался Ястребову знакомым человеком, как будто они где-то встречались прежде.
Николай узнал, что до гражданской войны Редько работал в угольной шахте. С тех пор прошло много лет, но и сегодня кажется — под правым глазом у него не родинка, а осколок из сине-черного угля. О шахтерах Редько говорил с какой-то особенной гордостью.
Есть люди, с которыми можно прожить целую жизнь и все-таки не будешь их знать. А есть и такие, что с первого знакомства кажется, будто знаешь этого человека всю жизнь, только на время разлучался с ним, и теперь, после разлуки, особенно приятно поговорить обо всем. И с одного слова, даже намека, понимаешь его. Так и Николай с первого же вечера в общежитии подружился с Афанасием Редько.
В большой университетской аудитории разместилось за столами человек восемьдесят, и все же здесь не было тесно. Величина этого «класса» очень удивила Николая. Он все еще жил представлениями о маленьких классах сельской школы и педтехникума.
В ожидании экзаменационной комиссии молодежь разгуливает, шумит, смеется. По-домашнему себя чувствуют второступенцы-горожане. Николай видит спокойное лицо и снисходительную улыбку юноши в пенсне. Тот стоит у открытого окна, разговаривает с красивой девушкой. Что-то в ней, возможно две черные косы, напоминают Анюту. Николай с неясной грустью думает о том, как далеко отсюда Анюта.
Он не слышит, о чем идет речь у второступенцев-горожан, но догадывается по оживленным лицам, что разговаривают они во всяком случае не о предстоящих экзаменах, потому что девушка весело смеется.
«Эти попадут», — с завистью думает Николай.
Вот, на минуту заслонив их, прошел вихрастый парень. Он что-то напевает. Николай видел его в отделе народного образования, он и там так же ходил по коридорам, напевая. «Веселая душа, умница, похоже… Этот попадет», — решает Николай, вспоминая его серьезные, внимательные глаза.
— Ой, девочки, хоть убейте, ничего не помню! — кричит одна из поступающих, но глаза у нее в отличие от испуганного голоса веселые, и Николай начинает завидовать и ей: «Эта тоже попадет».
Кроме второступенцев, в аудитории и бывшие реалисты, и гимназисты, которым гражданская война помешала в свое время пойти в университет, и вчерашние преподаватели, пришедшие доучиваться после нескольких лет работы в школах.
Окна аудитории распахнуты настежь. Через них доносится несмолкаюший шум улицы: то глухой, то резкий и настойчивый. Идут грузовые машины, тарахтят повозки ломовиков.
Сегодня чудесное утро. Воздух чист. Солнце. Аудитория кажется радостной. За переулком на фоне красных кирпичных корпусов мельницы неторопливо покачивают ветвями три дерева. Над мельницей и этими деревьями проходит темное облако. За ним, как за уткой утята, плывут облака поменьше.
«Что теперь дома делают? Алексей, наверное, с косилки хлеб сваливает. Мать — с граблями. Дома хозяйствует один Степа. Они и не знают, что я сейчас буду сдавать первый экзамен».
Ровно в десять часов утра Николай увидел за кафедрой членов комиссии и среди них доцента Моисейченко. В аудитории вдруг наступила какая-то особенная, торжественная тишина.
Моисейченко объявил, что запишет на доске темы для работ и можно взять любую из них. Записав темы, Моисейченко посмотрел в аудиторию и вдруг встретился глазами со взглядом Николая. Доцент улыбнулся и приветливо кивнул ему головой.
«Узнал», — радостно подумал Николай. Это показалось ему добрым предзнаменованием. «Пожалуй, я возьму первую тему, — решил он. — Этот вопрос мне знаком».
Прочитал еще раз: «Пролетарские писатели и попутчики, слог, стиль и язык тех и других».
Начал писать. Сначала приходили думы о будущем, о доме, и это мешало работе; потом посторонние мысли исчезли, писать стало легче. Часа через полтора он закончил работу и стал переписывать начисто, кое-что переделывая и изменяя.
Под окном слышится песня с присвистом. Николай не видит поющих, но знает, что это идут красноармейцы. С паровой мельницы послышался гудок. Николай видит, как шевелит ветер листья на деревьях, как над ними вьются какие-то птицы, но тут же забывает то, что видит. Если и зародится какая-нибудь посторонняя мысль, то живет она буквально мгновения. На исходе третьего часа он снова переписывает сочинение. Время прошло незаметно.
По рядам проходит молодой человек лет двадцати трех с огромной шевелюрой.
— Кончайте, кончайте, — говорит он.
«Наверное, профессор», — думает Николай, с уважением глядя на пышную шевелюру. Впоследствии он узнал, что это был представитель от студенчества.
На другой день — устные испытания. Они проходят в той же самой аудитории, где накануне писали сочинения. Около дверей — очередь. Люди оживлены и возбуждены. Кое-кто подзубривает. Сосед Николая бубнит:
— Предложение есть единица сообщения, отражающая через классовое сознание объективно реальную действительность…
— А когда родился Толстой? — спрашивает позади чей-то мужской голос. — Забыл… Все вылетело из головы…
После полутемного коридора в аудитории казалось очень светло. Заняты только два передних стола. Среди членов комиссии сидит и Моисейченко. Николай подошел ближе, с тревогой и волнением глядя на оживленное лицо доцента. Было приятно слышать его спокойный высокий голос и в то же время страшно: первый экзамен в университет!..
Экзаменующийся допустил ошибку, но сам заметил ее.
— Простите, я не так сказал…
— Ничего,— успокоил его Моисейченко и пошутил: — Первые пять минут вы имеете право ошибаться.
В их разговоре совсем не чувствуется напряженности. Может, напрасны все тревоги?.. Наступает черед Николая.
— Вот и добились своего, — с ободряющей улыбкой сказал Моисейченко.
— Спасибо, — краснея, пробормотал Николай. — Простите, я забыл вашу фамилию.
Николай назвал себя. Почему-то навязчиво лезло в голову: «Предложение — единица сообщения…»
— Вы — Ястребов? — удивленно спросил Моисейченко.
— Да, — растерянно протянул Николай. Одна за другой пронеслись тревожные мысли: «Провалился… Куда мне с такой подготовкой! Что я теперь буду делать? И перед домашними успел похвалиться… Вот тебе и студент».
— Вы освобождены от устного экзамена, — сказал Моисейченко.
— Почему? — с ужасом спросил Николай.
— Потому,— ответил, улыбаясь, Моисейченко, что ваша работа оказалась лучшей из восьмидесяти трех.
Николай повернулся и как пьяный пошел на балкон. Аудитория качалась, смеялась и, кажется, пела.
«Нет, какой замечательный человек!— думал Николай о доценте Моисейченко. — А здорово получилось. Теперь бы наши ребята из ячейки посмотрели. Анюта… Лучшая работа!»
В знойном небе над городом плавают самолеты. Их два. Они проходят под белыми облаками, выплывают на голубой простор, накренясь, сверкают на солнце…
Кончились экзамены по математике, обществоведению и истории. Все шло хорошо до экзамена по физике. А вот на этом экзамене сегодня преподаватель против фамилии Николая красным карандашом поставил жирную букву «Н». Николай увидел эту страшную букву, и у него похолодела спина. Пропал! Неудовлетворительно!
Очутившись на улице, он беззвучно повторял одну и ту же фразу: «Все кончено». Как дошел до общежития, не помнит. Редько встретил его улыбкой, но по измятому, хмурому лицу товарища смекнул, что дело неладно, и, как мог, стал успокаивать его:
— Обойдется, — говорил он, — это еще не конец. Ты из пяти предметов сдал четыре. Многие провалились и уже забрали документы, чтобы попытать счастья в другом вузе. Глядишь, кандидатов не хватит. Понял? К тому же комиссия будет внимательно присматриваться к каждой кандидатуре: кого принять, кого не принять. Сейчас июль, к концу августа комиссия закончит работу. Будут и на места посылать запросы. А у тебя хорошие данные. Комсомолец, был батраком, семья бедняцкая. Не падай духом. Держись!
Слова Редько вселили слабую надежду, и пока Николай ухватился за нее.
Надо ждать результата, какой бы он ни был. А денег нет.
Редько, бывшего рабфаковца, прикрепили к студенческой столовой. Он теперь получает бесплатные обеды. Николай завидует: «Счастливец!»
Целыми днями Николай ходит по городу в поисках работы.
И в этот день, выходя утром из комнаты, он думает: «Пойду в порт. Может быть, там будет работенка».
Понурив голову, он медленно идет по плитам улицы, спу скающейся к Дону. По обе стороны — все больше одноэтажные дома и магазины. Только одно полуразрушенное многоэтажное здание, горой возвышаясь над другими, глядит на город темными без стекол окнами. Николай слышал, что в нем находят приют беспризорники и воры и что здесь частенько бывают облавы.
Посредине широкой улицы — неровная, избитая булыжная мостовая. На ней конский помет, мелкие клочья сена, мусор. Из города и в город тянутся крестьянские телеги, двухколесные бидарки и тяжелые дроги ломовиков. Грохот, скрежет и стук стоят в воздухе, и эхо катится вдоль улицы.
Николай думает, к кому из родных и знакомых мог бы он обратиться за помощью. Ему так немного надо: лишь бы продержаться до первого заработка!
«Из дому не жди, — вздыхает он, — самовар продали, чтобы мне до города добраться. Оставить своих без коровы или лошади я не могу. Вон с каким трудом мы наживали лошаденку. А теперь что же, продать лошадь да брату в работники идти по моей милости? Занять бы, но у кого? Разве наши казаки дадут хотя бы червонец под какое-то неопределенное будущее?»
Перед глазами всплывают лица многочисленных хуторских родственников. Все они кажутся приветливыми и радушными, но при малейшем намеке на помощь выражение их сразу меняется. Каждый начнет ссылаться на недостатки, на плохой урожай, на неотложные траты по дому. Урожай в этом году был хороший, но родственники будут говорить, что на Полосовой градом выбило делянку, а возле Саломатинского пруда ни одной дождинки, ни одной росинки не выпало. «Как, скажи, метил! У соседа урожай, а тут всю семью оголодил». Николай даже знает наперед, какими словами они стали бы отвечать ему.
«Нет, не буду просить! Никогда не обращался к ним с просьбой и не обращусь. Неужели они сами не понимают? А вот когда выучусь, сколько родни найдется! «Ах, — скажут, — племяш, ах, родной. Этот — наших кровей». А как остались без отца сиротами да пошли в работники, в подпаски, и за родню никто не признавал».
Николай вспомнил, как однажды, в те годы, когда был работником у Бородина, пришел он к одному из дядей в гости. Это было на второй день пасхи. Его покормили обедом, и дядина жена постаралась поскорее выпроводить нежеланного гостя. Возвращался он к хозяину улицей-переулком и ничего не видел: слезы мешали…
«Ближе всего Иван Тимофеевич, но и он денег не даст. Из них каждый за копейку удавится, — со вздохом заключил Николай. — Василий Маркович помог бы, если бы у него было чем. Но он сам еле концы с концами сводит».
«А хорошо бы теперь вареников со сметаной поесть или блинчиков», — думает Николай. Перед глазами встают соблазнительные картины. А какие там в садах яблоки, груши! Он и сейчас ощущает вкус и запах спелого аниса.
«А, черт, — раздраженно думает он. — Хоть бы какая-нибудь работенка нашлась. Тогда бы можно вольным слушателем устроиться, а в следующем году — сразу на второй курс».
Вот и порт. Дымит пароход «Ермак». На пристани запах смоленых канатов, вяленой рыбы, крики, теснота. Из большого бурта, возвышающегося над пристанью как скирда над гумном, двое грузчиков берут кули соли, взваливают на спину очередного товарища, и тот, согнутый тяжестью, бежит на баржу по дрожащим, сгибающимся сходням. У каждого грузчика на голове башлыком торчит уголок мешка, прикрывающий голову и плечи. Бегут они и с грузом и без груза.. Широкоплечие и широкогрудые, с красными, загорелыми и обветренными лицами, они кажутся братьями.
Николай подходит к грузчикам.
— У вас тут можно на работу поступить?
— Нету у нас, парень, работы. Топай на биржу. Николай медленно идет на ту сторону реки. Может быть, там удастся что-нибудь заработать.
Разводной понтонный мост будто плывет по течению, покачиваясь на упругих волнах. Темно-зеленые некрупные валики там, где они не загрязнены жирными блестками нефти, корками арбузов и дынь, просвечиваются солнцем и кажутся более светлыми. Около моста скопился мусор, скользит по зыбкой воде; корки, что покрупнее, подплывая вплотную к мосту, ныряют под него, как живые.
«А на бахчах у нас арбузы и дыни»,— думает Николай.
Он облокачивается на перила и мысленно переносится на хутор. Окружающее исчезло. Он видит знакомые журавли колодцев, высокие беленные мелом курени, на окраине Грушек — гумна, а за ними — бахчи. Вот Николай разговаривает с низкорослым стариком, сторожем-бахчевником. Недалеко кружит ласточка. А там — шалаш бахчевника, возле него и днем и ночью дымящийся кизяк — спички берегут. В шалаше знакомые Николаю запахи свежего сена и тронутой увяданьем древесной листвы… Вот хрястнул арбуз. Перезрелый, багряно-красный, сочный, он лежит на теплой земле, еще держась за засохшую плеть…
Вдруг вспомнились слова Василия Марковича: не отступать.
Николай очнулся и другими глазами посмотрел вокруг: на волны Дона, на арбузные корки.
«Распустил слюни! Никто ко мне не придет и не скажет: «Идем, Николай, работать». А отступать нельзя, и я не отступлю. Все это переживу, поступлю в университет, не в этом году, так в будущем. Окончу вуз, буду иметь настоящие знания. Тогда поеду на хутор или в станицу, буду учительствовать».
Он сошел с моста, ступил на берег. Прочность земли особенно чувствовалась после того, как он постоял на качающемся мосту. Может быть поэтому изменилось настроение.
Он поворачивает налево, где слышны веселые крики и музыка. Теперь будущее рисуется ему в более светлых тонах. Да и все на этом берегу Дона выглядит иначе: легкие, праздничные качели и карусели полны движения, белые палатки и лавчонки — будто игрушечные. Николая встречают звуки гармоник, шарманок, смех, счастливые голоса, а за этим чуть не воздушным городком он видит светящуюся на солнце песчаную отмель. На ней сидчт, лежат, ходят тысячи голых мужчин и женщин. Полные уходящего вглубь блеска и нежных теней, зеленоватые, чешуйчатые просторы Дона бороздят лодки, в которых машут веслами, как птицы крыльями, смуглотелые, в одних плавках молодцы… Хлопанье весел, бульканье и плеск. Набежала облачная тень, мгновенно все переменилось: и цвет воды и окраска палаток. Сразу пахнуло прохладой. Каждый звук полновесен, гулко плывет по реке. Голоса людей — ненапряженные, свободные и как будто пропущенные сквозь усилитель.
Николай посмотрел на ту сторону реки: на высоком, круто спускающемся берегу плотная шеренга кряжистых домов, из которых некоторые будто в землю врылись; над ними возвышается то гигантское здание, с окнами без стекол, влево, за железнодорожным мостом, — дома, уходящие в гору; вправо им тоже нет конца. И над всем этим будто застыли мазки дыма невидимых отсюда фабрик и заводов. С самого обрыва элеватор протянул к Дону огромный хобот, словно какое-то чудовище собралось пить. А внизу, сейчас же за портом, — поседевшие от пыли и муки корпуса государственной мельницы. У причала будто трубку раскуривает пароход «Ермак», возле него столпились баржи… Не может быть, чтобы в этом большом, красивом городе, полном солнца и жизни, Николаю не нашлась работа!
Но день кончился так же, как и предыдущий.
Никакой работы не нашел он и на следующий день. Хождения стали утомлять живущего впроголодь Николая. Однажды утром он сказал себе: «Так нельзя, надо экономить силы». Он рассчитал все свои возможности: при самой жесточайшей экономии денег могло хватить только на две недели. А дальше? Ему даже страшно было подумать, что будет дальше. Николай устал, обессилел.
Как-то сходил на базар, купил полную сумку пшена и каравай ржаного хлеба, чуть ли не в колесо величиной. Истратил все до копейки.
Теперь он с утра уходил на кухню, варил кашу, а потом целыми днями лежал на топчане или бродил по комнате. За эти дни, пока были продукты, Николай прекрасно изучил потолок. Все пятнышки, полоски от давней побелки, очертания полуоблезлых, грубо намалеванных амуров, следы мух. Все чаще и чаще он раздражался без всякого повода. Так, его приводила в бешенство игра одного студента на гитаре, «подвывание». Не раз Николай готов был запустить в гитариста книжкой или башмаком. Все анекдоты, которые рассказывали в общежитии, он слышал уже по нескольку раз и теперь с трудом сдерживался, чтобы не нагрубить анекдотчикам. Делать было нечего, книги, которые были у ребят, он прочитал. Жизнь в приемнике уже не казалась ему счастьем.
Николай оброс, похудел, под его голубыми глазами легли полукружья теней, резче обозначились калмыковатые скулы, наметились преждевременные морщинки. Только непокорный чуб, по-казачьи, на одну сторону, все так же лихо выбивался из-под полинявшей кепки, которую он надевал набекрень, как прежде казачью фуражку.
Николай еще несколько раз ходил искать работу. Был на Буденновском проспекте, на окраине Ростова, где строился социалистический городок, но туда рабочих брали только с биржи. Был на Кузнецкой улице — там прокладывали новую трамвайную линию — его и оттуда посылали на биржу. Николай состоял на учете на бирже труда, да что толку? Там — очереди безработных. Николай хорошо понимал, что после разрухи трудно обеспечить работой всех желающих, но это мало утешало его. Ведь надо есть, значит, надо зарабатывать на хлеб.
«Когда же настанет счастливое время, когда же всем будет работа? — мучительно размышлял Николай. — А ведь будет, будет!» Он прислушивался к разговору сидящих возле биржи безработных.
— Воровать, — говорит один из них, — руки толсты, а есть нечего.
«И у меня, — думает Николай, — скоро будет нечего есть. Что же делать?»
Как ни растягивал он последние продукты, запасы все же кончились. Решил идти на «толчок», чтобы продать казачью «пряжку» — так называли узкий кожаный пояс с серебряным набором. На каждой пластинке набора — хитрый рисунок чернью, выполненный искусным мастером с Кавказа. Такие украшения можно встретить на рукоятках старинных кинжалов. Прежде, до революции, эти пряжки очень ценились среди казаков.
Держа на руке пояс, отливающий серебром, Николай бродил по толкучке. Обычные покупатели и не глядели на пояс, но перекупщики интересовались чеканной отделкой.
— Продаешь?
— Продаю.
— Сколько просишь?
— Три рубля.
— Проси больше, — насмешливо бросил перекупщик. Про себя он, должно быть, подумал: «Еще не голодный — за полтинник отдашь».
«Неужели дорого? — с тоской думал Николай. — Ведь мать говорила, что и в старину такие пряжки стоили не меньше трешницы».
Парень с округлым мальчишеским лицом, с черными смородиновыми глазами, вцепился в пояс. У него даже голос стал хриплым:
— Полтину!
— Я не торговаться пришел! — сердито сказал Николай, вырывая из чужих рук пояс.
— Товар твой, запрос в карман не лезет… Целковый!
Николай отвернулся от покупателя и пошел своей дорогой.
— Любую половину, хочешь? — спрашивает паренек.
— Отвяжись, — сказал Николай и пошел быстрей.
— Два рубля! — настойчиво предлагает покупатель, идя за Николаем.
На короткое время их разделило несколько человек. Поравнявшись опять с Николаем, паренек сказал:
— Бери два рубля, хорошие деньги даю: ей-богу, больше не стоит.
— Чего ты пристал к человеку? Видишь, он пришел сюда похвастаться!
Будто дразня, рябой в белом халате частник из хлебного ларька сытым голосом выкрикивает:
— Подходи, шевелись, у кого деньги завелись! — И немного погодя: — Навались, навались, у кого деньги завелись. Пышный, рыхлый, как кирпич, вкусный, как редька!..
«Да-а, редька… Пшеничный хлеб из крупчатки. Нам такой и пробовать не приходилось»,— думал Николай.
— Сам бы ел, да денег надо! — продолжал выкрикивать сытый голос.
Николай вдруг остро почувствовал вкус хлеба, проглотил слюну. Но теперь ему почему-то стало особенно жалко расставаться с пряжкой, единственной вещью, оставшейся от отца.
— К черту! — крикнул он и пошел из толпы.
— Два с полтиной!..
«Лучше с голоду сдохну, — думает Николай, возбужденно шагая, — но пряжку не продам…»
Вошел в общежитие, и возбуждение упало. Почувствовалась слабость, стала одолевать тошнота. Лег на чужой топчан. Хотелось есть, душила злоба: «Ну что делать?.. Нечего жрать!..»
Мысленно он ругал своих родственников, и особенно дядей, которые могли ему помочь и не помогли, ругал того парня, который хотел купить пряжку, ругал себя за то, что не сдал физику, ругал техникум за то, что там плохо было поставлено преподавание этого предмета, ругал ребят из общежития, которые, казалось ему, так беспечно смеялись и рассказывали глупейшие анекдоты.
«Знали бы теперь наши, в каком я положении… Нет, лучше пусть они не знают. Иначе Алексей последнюю лошаденку продаст, а то и коровы лишится».
Редько принес из столовой два куска пшеничного белого хлеба. Сел рядом с лежащим Николаем и тихо сказал:
— Ешь.
Николай отвернулся к стене и глухо выдавил:
— Не хочу.
— Ешь! — уже громко сказал Редько. — Какого черта! Я же знаю, что ты нынче ничего не ел.
Николай молчал, Редько рассердился.
— Я тебе что говорю!.. А еще комсомолец, в батраках был. Удивляюсь, откуда у тебя такая гордость перед товарищем? Ешь! — прикрикнул он.
Николай приподнялся с топчана, молча взял хлеб и начал есть, сначала медленно, потом быстрее, с жадностью… Из глаз у него закапали частые слезы.
Чтобы не смущать товарища, Редько отвернулся.
«Ничего, выдержу, справлюсь,— думал Николай.— Все равно буду учителем».
Как-то Николаю предлагали бросить все и уехать домой «зайцем». Находились попутчики. Но они уехали без него. Он остался. Однако в эти дни все-таки решил написать письмо домой. Оно получилось жалким, Николай разорвал письмо. Написал другое, из которого родные должны были понять, что ему живется неплохо, хотя он и скучает по дому.
Солнце садилось за Булавинским лесом.
За чертой хутора, возле цепи курганов, оголенных горячими суховеями, собрались подростки, старухи и старики. Почти у всех в руках палки или хворостинки. Ждут возвращения стада.
— Что-то и нынче пастух задерживает коров, — сказала одна из старух, глядя из-под ладони слезящимися глазами на равнину, на которой, как марево, колыхалась степная пыль.
— Надо сказать ему, чтобы раньше пригонял, — проговорила другая, тоже глядевшая, сощурив глаза, на равнину. — Вчера пригнали на хутор—темнеть начало, а тут наволочь* (* Наволочь — небо, покрытое тучами)… У нас коровенка-то шкодливая, пришлось искать ее до полночи.
Медленно шагает, чувствуя свое достоинство, Семен Сазонович Бородин. Он в сапогах, вышитой белой рубашке; держится прямо, слегка запрокинув голову, на приветствия отвечает сдержанно. В правой руке у него костыль — не какой-нибудь самодельный, а купленный еще до германской войны за четыре рубля. Левой трогает себя за курчавящуюся, выращенную в последние годы бороду. Семен Сазонович идет не сворачивая, и все расступаются перед ним, давая дорогу. Как же, он самый богатый человек на хуторе!
Приостановившись возле Степы, Бородин властно спросил:
— Ты, карапуз, чей будешь?
— Ястребов.
— Миколаю Петровичу брательник? — На хуторе Семен Сазонович знает всех, от старого до малого, а тем более семью Ястребовых, и спрашивает для порядка, ответов Степы не слушает.
— Он у вас учиться уехал?
— На студента, — с гордостью сообщает Степа.
Семен Сазонович все это знает, но продолжает расспрашивать:
— На студента, значит. Видишь ты! Что в письмах пишет?
Степа оживился.
— Путевку, слышишь, получил!.. «Теперь, — говорит,— осталось только экзамены сдать». Ну, экзамены-то братушка любые сдаст. Он ведь тут здорово учился!
— А ты хочешь учиться?
— Хочу. Да я уж читать умею.
— Читать умеешь?!
— Да. Осенью пойду в первые классы, — с гордостью сказал Степа. — Я и слова немецкие и некоторые разные французские знаю.
Семен Сазонович больше ни о чем не стал расспрашивать, помахал костылем. Недовольно пожевав губами, он двинулся дальше. Ему был неприятен успех чужих детей и тем более — детей Марьи Ивановны. Теперь уже он ее не любил, только иногда вспоминал о своем многолетнем чувстве, которое с годами так и сошло на нет. На старости лет у него усилилась жажда к наживе. Теперь он еще острее сожалел, что не исполнилось сокровенное его желание.
«Ведь вот кому что на роду написано, — рассуждал он.— Я ли не учил своего далдона! Никаких денег для него не жалел! «Не хочу!» — и весь разговор… Что ни делал: и добром просил и бил — ничего не помогло. Восемь годов проучился, а так байбаком и остался. И не тупой мальчишка, на что не надо ума хватает — на баловство да упрямство. А этот, — со злобой подумал он о Николае,— у меня же в работниках жил, Митюнины книжки украдкой читал! «На студента!» — Семен Сазонович вздохнул.— Видать, ума ни за какие деньги не купишь… И этот карапуз — в голодный год чуть богу душу не отдал: шеечка вытянулась, щечки ввалились, аж зеленый весь. А теперь — французские и разные там германские слова!
Тут он вспомнил, что его хозяйство сейчас обложено еще большим налогом, чем в прошлые годы. Сына не взяли в Красную Армию (семья кулацкая), коммунисты и комсомольцы смотрят враждебно, да и беспартийные многие косятся. Кто знает, чем все это обернется? Коммунист Василий Маркович прямо говорит, что песенка Семена Сазоновича спета: скоро у них будет коммуна, а в ней кулакам нет места. За коммуну агитирует и Алексей Ястребов.
«Хитрый старик, — с ненавистью думает Бородин о Василии Марковиче. — Всю жизнь на моей дороге стоял, и теперь путя через него нету. Посев скрыл в прошлом году — он донес, оштрафовали. Что бы на хуторе ни вышло, у него все это «кулацкие штучки». И Ястребовых Николая с Алексеем он натравил на меня… А уж я ли не выручал эту голытьбу! В тяжелый год дал им полтора пуда проса. Еще в ту войну мешок муки привез, вроде старого долга. Все я, все я. А теперь Алешка и Микола кричат: «Кулак, такой-сякой! Крылышки ему подрезать!»
Семен Сазонович считал себя благодетелем всего хутора.
Три коровы и три телки Бородина, красные, все в одну масть, широкие в кости, сытые, идут вслед за старой коровой Манькой. Семен Сазонович. не торопясь шествует за ними. И хотя он прямо держится и гордо глядит на встречных, мысли у него невеселые.
Марья Ивановна широко распахнула ворота, встречая белую в пахах худородную коровенку. Степа подгонял ее хворостинкой.
Коровы подняли над хутором сухую пыль. Ветра нет, и пыль долго держится над улицами и переулками, над дворами, садами и огородами. Сквозь нее краснеет, приобретая какой-то бурый оттенок, широкая полоса заката. Еще стоит жара.
Войдя во двор, Степа начал рассказывать матери о своем разговоре с Семеном Сазоновичем. Он передавал его в лицах и вдруг, перебив себя, вставил:
— А знаешь, мама, у нашего Алешки есть невеста… Параня Донскова.
— А почему ты знаешь, что она его невеста? — спросила мать.
— Он с улицы никогда со мной не пойдет, всегда с ней уходит.
Мать почему-то рассердилась:
— Ну ты все знаешь. Тоже мне знахарь нашелся! — И уже мягче добавила: — Глупенький. — Матери были неприятны слова Степы о Паране Донсковой. Марья Ивановна была против того, чтобы ее старший сын женился на этой «верченой».
«Не пара она Алеше. И что я не отвадила его от нее?» Мать ждала удобного случая, чтобы открыть Алексею глаза: «Молодой, еще жизни не знает».
Степа завел разговор об Алексеевой невесте потому, что сегодня вечером встретил Параню, когда шел встречать стадо. Параня ехала с поля. Она сидела на грядушке телеги. Поравнявшись со Степой, Параня крикнула веселым голосом:
— Как живешь, Степан Петрович? Алексей не обижает?
Одета она была по-будничному, в простенькую ситцевую юбку и кофту, но все равно белое, нежное лицо ее с черными бровями было очень красиво.
Степа остановился у дороги, проводил ее изумленно-радостными глазами и усмехнулся:
— Братушкина невеста!
Ему было приятно, что у Алексея такая невеста, и к тому же к Степе она относится по-хорошему, как к большому. Сам Степа уже давно считал себя взрослым и, когда говорил о чем-нибудь, что было года два-три назад, непременно подчеркивал: «Это еще когда я был маленьким…»
Одно обижало: никто из взрослых, кроме Парани, не хотел замечать, что он уже большой.
Пыль улеглась, и стало как будто прохладней — словно и душно было потому, что она висела над хутором. Из-за деревьев соседнего сада поднялся месяц. А в другой стороне небосклона неожиданно начали вспыхивать короткие молнии, как все равно кто-то там то сворачивал, то разворачивал цветной полушалок. С огородов сильно потянуло запахом мяты и укропа.
Марья Ивановна доила корову, думала о Николае. Как он там живет? Все спрашивают, интересуются, даже Семуш-ка не вытерпел, а она и сама ничего не знает. Пишет, что живет хорошо, да только чует материнское сердце: не так это. Больно уж мало денег-то ему дали. Если бы корова была помоложе, сумели бы продать молока и маслица, послали бы деньжонок. Но стара коровенка стала, толку чуть… А ведь ему там каждый день есть-пить, деньги и деньги нужны. Куй их — не накуешься…
Она не слыхала шагов Алексея, увидав его, вздрогнула:
— Ты так насмерть можешь перепугать.
Алексей четверо суток был на сенокосе. Устал. Лицо покрылось слоем пыли, весь черный от загара. У старшего сына такие же, как и у Николая, широкие калмыковатые скулы, по-казачьи чуб, только ростом он повыше брата да лицом посумрачней.
«Будешь сумрачным, — с горечью думает Марья Ивановна, — когда с малых лет такие заботы на плечах, и завсегда первый советчик». — Она ничего не сказала сыну, только ласково посмотрела на него. А он спросил:
— От Коли есть что-нибудь?
— Вчера письмо получили.
— Где оно?
— На полочке… Ты бы умылся сначала.
Но Алексей, не слушая матери, прошел в курень. Выйдя снова на крыльцо и повернувшись так, чтобы свет затухающей зари падал на письмо, начал про себя читать.
— Прочти вслух, — попросила Марья Ивановна, — а то соседский Ванюшка, может, что пропустил.
Алексей стал читать вслух.
Николай коротко сообщал, что он жив и здоров, чего желает и всему семейству. Передавал привет друзьям-приятелям, Василию Марковичу, смешно описывал приемник. Но главного, о чем хотели узнать и Алексей, и Марья Ивановка, в письме не было. Николай скрывал, что ему там очень трудно, и Марья Ивановна и Алексей, зная его характер, понимали это.
— Как думаешь, сынок? — спросила с тревогой в голосе Марья Ивановна, когда Алексей кончил читать.
— Как думаю? Что-то надо делать… Бьется он теперь как рыба об лед.
— Вот и я так понимаю…
Марья Ивановна налила сыну кружку молока, поставила на стол тарелку с картошкой «в мундирах» и малосольные огурцы, отрезала два ломтя черного хлеба.
Алексей отодвинул кружку с молоком:
— Не надо… Я и так обойдусь. Собирай на продажу. Хоть рублей пять сколотим да пошлем.
— Работа-то у тебя, сынок, вон какая чижелая! Целые дни вилами ворочаешь…
— А у него, может, еще тяжелей.
Пришел Степа.
— Братушка приехал! — обрадовался он, подбегая к Алексею.
Марья Ивановна посмотрела на его худенькое личико со вздернутым носиком, вздохнула и пододвинула к нему кружку с молоком.
— Ты, Степа, с хлебом ешь, — сказала она.
После ужина Алексей взял чистое белье, собираясь на речку. К нему несмело подошел Степа.
— Я с тобой купаться.
— Спать! — строго сказала Марья Ивановна.
— И с братушкой не даст побыть!
— Нечего тебе с ним делать, иди спать ложись.
— Тоже нашла хорошее, спать. Хочешь, чтобы я такой был соня, как Родяня.
— Ладно, ты не уговаривай меня.
— Братушка, — зашептал Степа, — а я твою Параню нынче видел.
— Где?
— С поля ехала, когда я за коровой ходил. Поздоровалась со мной…
Алексей оживился. Усталость с него как рукой сняло. На речку он не пошел, а побежал вприпрыжку.
Безымянка утонула в тумане.
«В прошлом году, вот в такую же ночь и в такой же туман, мы с Николаем вдвоем купались, — вспомнил Алексей. — Как он теперь там?»
А Марья Ивановна тем временем укладывала в мешок продукты. Завтра чуть свет Алексей снова уедет на неделю в поле. Наложила кислого молока в большой горшок, завернула в чистую тряпку буханку хлеба, наполнила торбу малосольными и свежими огурцами, молодой картошкой, которую только сегодня выкопала, положила и крохотный кусочек сала. Постояв с минуту в раздумье, завернула еще в капустный лист комочек сливочного масла.
«И все вы дети, — горько подумала она, — и всех вас жалко».
Едва занялась заря, по холодку Алексей запряг лошадь и выехал с хутора. Потом взошло солнце, стало пригревать спину и затылок.
«День будет жаркий», — решил Алексей, окинув взглядом высокое безоблачное небо.
На горизонте уже завиднелись первые потоки марева. У старого, заброшенного пруда с низко осевшей прорванной плотиной Алексей увидел хуторян, спешащих на косовицу, услышал стрекот косилок и заторопился, погоняя лошаденку. В пути нагнал высокого сутулящегося Михаила Андреяновича. На груди у Аникеева орден Красного Знамени. Держа в одной руке косу, Михаил Андреянович подошел к тарахтящей телеге, взялся свободной рукой за грядушку и пошел рядом.
— Закурить есть? — спросил он у Алексея.
Алексей достал кисет. Оба свернули цигарки и задымили.
— Ну что на хуторе нового? — спросил Михаил Андреянович.
— Да Безымянка к тому берегу подошла, — шутя ответил Алексей. И уже серьезно: — А ты, Михаил Андреянович, здорово вспотел.
Проводя рукой по влажному лбу, Аникеев ответил:
— Поневоле, парень, вспотеешь… Работка-то вон какая… Так намахаешься за день, что вечером рук не чуешь. Вчера после работы хотел на лошадь сесть — руки отнимаются, к гриве поднять не могу, до того устал. Ведь у меня, парень, их, детей-то, пятеро. По куску в день — и то пять кусков надо. На них одного хлеба не наготовишься. Как говорится: один с сошкой, а семеро с ложкой. Скорей бы коммуну, что ль, организовали. Зачем дело-то стало?
— А кто пойдет в нее? Василий Маркович, мы, комсомольцы, — четыре двора, ты пятый. Маловато. Если бы хоть дворов десяток. Вот за этим и дело.
Михаил Андреянович вздохнул и ничего не сказал. Алексей, глядя на его усталое, грустное лицо, переменил разговор:
— Хлеб косишь?
— Да начал.
— Ну и как?
— Плохой. Да и как ему быть хорошим? Весной вспахали — лишь землю поковыряли, абы черно было; семена плохие, удобрения никакого. Откуда взяться хорошему урожаю? А вы убираете?
— Да начали и мы. Рожь навроде подошла.
— Да, день упустить в этом деле страшно. Вам-то с косилкой полегче работать.
— Полегче, — согласился Алексей,— но за день столько сбросишь с лобогрейки, так нагреешь чуб, что тоже, парень, рук не подымешь.
— Ну прощевай, спасибо за табачок. А с этим делом, с коммуной нашей, — торопитесь. — Михаил Андреянович, сутулясь, пошел к своей полосе, и скоро Алексей услышал знакомый звон косы.
Продолжая путь, он задумался о своей жизни, о хуторянах. Михаил Андреянович прав: поспешить бы надо с организацией коммуны.
Несколько месяцев назад поехал Василий Маркович в Ростов на партийную конференцию. До начала конференции ее делегатов провезли на грузовиках по обширным равнинам совхоза «Гигант», затем завернули в коммуну.
Не просторы никогда до этого не виданных полей, не дружные всходы хлебов поразили Кострова, а гудящие тракторы «фордзоны» и отсутствие меж. О широких опытах строительства новой жизни Костров прежде знал только из газет. После конференции он потерял покой. Вот и Алексей думал сейчас:
«Надо организовать коммуну. А как? Из пяти семей какая же коммуна — смех! Подбить бы на это дело еще семей пять-шесть. Кого?» — Он долго ехал, не поднимая головы. Лошаденка, видать, задумалась вместе с хозяином и еле передвигала ноги.
— Ну ты, прислушалась! — крикнул на нее Алексей, очнувшись, и опять вернулся мыслями к жизни хутора.
Вспомнилась Параня, и на душе стало радостно, захотелось скорее повидаться с ней. Он беспричинно засмеялся и посветлевшими глазами посмотрел на поля, на широкую столбовую дорогу, убегающую к самому горизонту, и тихонько затянул песню. Он пел и видел перед собой Параню.
О чем бы ни думал Алексей, в его душе все время жила Параня. Он мысленно видел, как девушка улыбалась, говорил ей ласковые слова песни о том, что дюже скучает по ней, что она хороша, как зоренька ясная.
Вот сегодня утром разговаривал он с матерью, а дорогой — с Михаилом Андреяновичем, но ему все время чудился и голос девушки. Она незримо присутствовала и во дворе Ястребовых, и возле старого пруда и неразлучна была с ним в эти минуты.
«А много у нас помех с Параней», — подумал Алексей. Представил сердитое лицо Федора Петровича Донскова, ее отца. Старик грозится — Алексею в точности передавали: «Придется проучить девку: с комсомолистом связалась».
«А если я комсомолец, так девушке со мной и поговорить нельзя? — мысленно доказывал Алексей Федору Петровичу.— К старой жизни тянетесь». Но он тут же постарался оправдать Донскова. Отец у Парани отсталый, ему простительно. Но вот мать Алексея — не чета Федору Петровичу, ходит в женделегатках, а, видать, тоже против. Правда, она помалкивает, но Алексей не слепой: как только соседки заговорят о Паране — глаза у матери становятся скучными, губы поджимает, будто боится лишнее сказать.
«Чем это Параня не угодила матери?» — уже не в первый раз думает Алексей.
Приходят мысли и о Митюне Бородине. В прошлую встречу вечером Параня со смехом говорила Алексею: «Грозится сватов прислать». Но Алексей тогда не смеялся.
— Богатством хочет прельстить! — вслух подумал он о Митюне и с сердцем ударил лошаденку новым ременным кнутом.
Однолошадники — Алексей Ястребов и Самсон Кириллович — спарились на уборке урожая в супрягу.
В работе чередовались: два круга Алексей, затем Самсон Кириллович, потом опять Алексей — пока один сваливал с лобогрейки, другой погонял лошадей.
Рожь стояла высокая, густая, а зерно тощее.
— В солому вся сила ушла, — с сожалением говорит Самсон Кириллович.
Ему уже давно перевалило на четвертый десяток, но в работе он все так же неутомим, выглядит много моложе своих лет. Самсон Кириллович среднего роста, с широкой грудью. Волосы у него густые, черные. — чуб не поредел,— при улыбке обнажаются ровные, белые зубы. Одевается он хоть и бедно, но опрятно, каждую неделю аккуратно подбривает усы. Лишь на его густых темных бровях показался первый налет седины, словно Самсон Кириллович только что вернулся с мельницы и еще не смыл мучной пыли.
На поля легла вечерняя прохлада, хлеб обмяк, косилку пришлось остановить. Алексей стал отпрягать уставших лошадей, а Самсон Кириллович пошел варить кашу — кашеварили они тоже попеременно.
Сняв с лошадей сбрую, Алексей отвел их в зеленый ложок, спутал там и, вернувшись к лобогрейке, снял с нее косу и принялся точить сегменты. Он старательно занимался этой работой, пока Самсон Кириллович не крикнул ему:
— Алеша-а!
Значит, каша поспела!
Алексей положил ленту косы поперек косилки, обернул ее свежескошенной травой и направился к стану, тяжело ступая пропыленными чириками, ставя ноги вкось, как после долгой верховой езды на неоседланном коне.
Подойдя к телеге, он достал из сумки холстинное полотенце, засучив рукава, умылся и сел на полсть, по-калмыцки подогнув под себя ноги. Напротив в такой же позе сидел Самсон Кириллович. Молча они принялись есть из деревянной миски горячую сливную кашу. В конце ужина, по обыкновению, разговорились. Алексей очень любил эти разговоры. О чем они только не переговорили за многие годы совместной работы!
Сейчас Алексей рассказывает Самсону Кирилловичу о письме брата Николая, о своих тяжелых думах, о сегодняшнем разговоре с Михаилом Андреяновичем. Его кровно волнует вопрос о коммуне. Стоит это дело на мертвой точке, как тяжелый воз под крутой горой. Отчего? То ли комсомольцы и Василий Маркович не умеют агитировать казаков, то ли казаки не желают слушать их, но дело не двигается. Как-то вечером на крыльце у соседа прощупал Алексей настроение хуторян. В «коммунию» не хотят идти. В тот раз Алексей разволновался.
— Я даром, что ли, подставлял свою голову под бандитские пули? — обозленно спрашивал он.
И сейчас Алексей рассказывал обо всем наболевшем Самсону Кирилловичу.
Степь будто прислушивалась к их разговору. За невидимым отсюда хутором плавала ширококрылая заря. Пахло кизячным дымком, созревшей рожью, пшеницей и донником. Лицо Самсона Кирилловича было задумчивым. Он заговорил медленно, врастяжку:
— Коммуна-то коммуной, но народ у нас разный… У меня всего пара быков да лошаденка. Лишись я этого, куда тогда? Вот они какие, Алеша, дела-то…
Он встал, сполоснул водой опустевший казан, перемыл ложки и миску, затем снова сел напротив Алексея, молча наблюдавшего за всеми его движениями, и опять заговорил в том же тоне:
— Ведь если бы собрались такие, как мы с тобой, да Василий Маркович, да тот же Михаил Андреянович… Но у Андреяновича и сейчас помощники, а годика через два столько работников вырастет, что только успевай к делу приучать. Так что Михаила Андреяновича корить не приходится, его семейству лишь было бы за что зацепиться. А вот придет такой, как Хватыш, что с ним делать в коммуне?
— Гнать в три шеи!..
Алексей достал из кармана старых шаровар кисет, и оба молча свернули цигарки. Парень, сдувая пепел с кизяка, прикурил, затем к его цигарке потянулся Самсон Кириллович.
— Жизня на нашем хуторе не очень хорошая. Я ждал, ждал перемен, все жданушки поел, а она, проклятая, ни с места. Покою ты меня лишаешь, Алеша, со своими разговорами.
— Вот и хорошо. Думать нужно.
Над низким горизонтом все еще полыхала неяркая заря, когда собеседники молча стали укладываться на свежем душистом сене.
«Эх, и спать я крепко буду!» — подумал Алексей, чувствуя, что у него уже начинают слипаться глаза.
В пятницу, еще до захода солнца, на западе сгустились облака. Низко над землею закружились ласточки. Показалась темная туча, она быстро начала расти и приближаться. Где-то за Булавинским лесом прогремел гром. Птицы сразу угомонились, и в степи наступила предгрозовая тишина. Высокая каурая лошадь Самсона Кирилловича и низкорослая буланая Ястребовых, тревожно оглядываясь, фыркали.
Вдруг налетел порыв ветра. Как в воронке водоворота, он закружил клубы пыли, подхватил колючки, прошел по полю, заволновал из края в край тощие колосья ржи, сорвал с нескольких копен вершины и, разметав их, понесся по степи дальше. За первым порывом последовали еще два-три, а немного погодя подул ровный, безостановочный, холодный ветер. Лошади зашли за телегу и стали, опустив головы.
Алексей и Самсон Кириллович спешно начали готовить себе под телегой убежище, чтобы укрыться от приближающегося дождя. Алексей по всей повозке расстелил свежее сено и прикрыл его сверху старым брезентовым плащом. Подветренную сторону телеги завесил полстью. Когда походный шатер был готов, в него сложили хомуты и сумки с остатками харчей.
Покончив со всеми делами, казаки остановились возле повозки.
— Пожалуй, возле Ильменя хлещет, — проговорил Алексей.
— Смотри, смотри, парень, — сказал Самсон Кириллович, указывая рукой на тучу,— это определенно градовая… Видишь — белая. Захватит, вот и будешь с урожаем. Никаких хлопот не надо: ни косить, ни убирать, ни возить, ни молотить. Все сразу обмолотит, упаси бог!
— Да он упасет, разевай рот пошире. В прошлом гаду у заречных в куриное яйцо град выпал. Михаил Андреянович прибежал на свой загон, а у него вся пшеница лежит, смешалась с грязью — одна чернота кругом.
— Давай-ка, мил друг, полезем в свое гнездо, — проговорил Самсон Кириллович, забираясь под телегу, а то сейчас начнет хлестать.
Вслед за ним под телегу забрался и Алексей. Из низкого тесного убежища неудобно было наблюдать, куда шла градовая туча, сопровождаемая почти несмолкаемым грохотом грома. Самсон Кириллович отвернул край полсти, и в треугольном просвете они увидели почти над головой багровую, низко опустившуюся тучу.
— Бугор закрывает, теперь скоро сюда жди! — сказал Самсон Кириллович.— Ну а градовая, видно, пойдет мимо. Безлесному хутору достанется.— В голосе Самсона Кирилловича слышалась радость.
«А что теперь в Безлесном говорят?» — подумал Алексей, мрачно глядя на белое крыло страшной тучи.
Совсем близко слышался нарастающий ровный шум дождя, прерываемый раскатами грома. Вот несколько капель упало на мягкую шерстяную полсть, другие звучно забарабанили о брезент и грядушку телеги. Хлынул дождь.
Быстро потемнело. Вспышка молнии на миг осветила спокойное лицо Самсона Кирилловича, поле, косилку, неподвижных лошадей с низко опущенными головами. Раздался сильный удар грома.
— Как из дальнобойных бьет, — весело проговорил Самсон Кириллович.
— Да, бьет подходяще, — согласился Алексей, вспоминая гражданскую войну и думая о своем предстоящем уходе в Красную Армию.— А страшно было в боях? — спросил он Самсона Кирилловича.
— Да ведь дрался с бандитами?
— Ну это что, мелкие стычки, а там орудия.
— И там не страшно… Робость берет в первые дни, потом ко всему привыкаешь. Нужно стрелять — стреляй и не думай, что тебя могут убить; кончился бой — делай то, что и другие делают: отдыхай, веселись, ешь, пей. Вроде ничего такого и не было.
Гроза продолжала неистовствовать. Уже насквозь промокли зипун и полсть, брезент тоже стал пропускать воду. Холодные капли проникали всюду. Алексею казалось, что холод добирается до самого сердца.
— Вот бы такой дождь в мае! — стуча зубами, проговорил Самсон Кириллович.— Озолотились бы люди.
Алексею вспомнились слова товарища, сказанные несколько недель назад: «Хлеб пошел в стрелку, суховей не прихватит — будем жить».
Дождь, перейдя в обложной, шел всю ночь и почти весь следующий день. Только под вечер в субботу очистилось небо. При свете солнца заблестело серебро капель, поминутно меняя оттенки на разноперых колосьях и рыжем щетинистом жнивье. Согревшийся и развеселившийся Самсон Кириллович живо засуетился, вынося из-под телеги хомуты, сумки, горшки. Алексей помогал ему.
«Еще, чего доброго, и воскресенье тут проторчим», — с досадой думал он, боясь, что в эту неделю совсем не увидит Параню.
— Томишься? — спросил его Самсон Кириллович.
— Томлюсь, — откровенно признался Алексей.
— Параню хочется повидать?
Алексей молча кивнул.
— Смотри, парень, это не всегда к добру.— Самсон Кириллович говорил серьезно, глядя в глаза Алексея.
— Я знаю, — глухо сказал Алексей.
Некоторое время молчали.
— Ты что же, жениться задумал?
Алексей удивился не вопросу, а тому, что до сих пор не думал об этом. Ему просто хотелось постоянно видеть Параню, говорить с нею, слышать ее голос.
— Кто его знает? Уж очень мы бедно живем, а тут осенью в Красную Армию идти.
— Вот что я тебе по-дружески посоветую, — убежденно проговорил Самсон Кириллович.— Не забивай головы ни себе, ни девке. Пойдешь, послужишь, а там будет видно. Может, остынешь. А нет, тогда женись, только обязательно приглашай меня на свадьбу, — он засмеялся, обнажив белые, ровные зубы.— Я свадьбы страсть как люблю.
Алексей ничего не сказал, лишь улыбнулся, слушая старшего друга.
Минут пять молчали. Самсон Кириллович, занятый своей думой, трогал кончики усов, усмехался. Взглянув на Алексея, сказал:
— Скоро домой поедем. Работать уж нынче не придется. Хлеб теперь не возьмешь косилкой: чистая мочала. Копны вон подправим и поедем.
— Копны? — переспросил Алексей и, взвалив на плечо вилы и грабли, быстро зашагал к копнам, весело насвистывая мотив старинной казачьей песни. Если бы он знал, что ожидает его в Грушках, то, может быть, и не радовался бы так.
Полураскрытый курень Михаила Андреяновича стоял почти в центре хутора. Алексей открыл дверь в коридор, затем без стука, как принято на хуторе, вошел в большую комнату с низким, покосившимся потолком, с неровным дощатым полом.
В комнате никого не было. Мухи зажужжали, как встревоженный рой пчел.
Алексей сел на скамейку.
Посредине комнаты висела пустая засаленная люлька. На деревянной кровати — куча тряпья. На одной из скамеек — сапожный инструмент, кусок кожи и шмат вара.
Окна куреня были почти у самой земли. С улицы в них заглядывала зеленая крапива и сизый полынок. Стекла в рамах не цельные, а собранные из обрезков, кое-где скрепленных замазкой и пожелтевшими полосками бумаги. Окно над посудной лавкой заткнуто подушкой.
Мухи летали над закопченным челом русской печи, над столом. Пеньковая веревка, на которой была подвешена к потолку люлька, казалась черной от мух.
Алексей закурил.
«Да, — думал он.— Жить так невозможно. Мы плохо живем, а эти еще хуже».
Не впервые зашел сюда Алексей, но его всякий раз поражала эта нищета. Алексей знал, что семья Михаила Андреяновича почти никогда не ела чистого хлеба. В муку подмешивали что-нибудь несъедобное. У многочисленной детворы были бледные, болезненные лица. Не изменилось положение и в последние годы, хотя два старших сына были уж отданы в работники.
Низко нагибаясь, чтобы не стукнуться о притолоку, вошел Михаил Андреянович. В своем словно вросшем в землю курене он казался еще выше, чем был на самом деле. Алексей даже подумал сейчас: не сутулься он, пожалуй, достанет головой до потолка.
— А, Алеша, в гости пришел? — Михаил Андреянович, вяло улыбаясь, подал горячую, потную руку. Что же, подстричь тебя?
К Михаилу Андреяновичу полхутора ходило стричься.
— Да, немного надо подровнять.— Алексей пригладил рукой свои светлые прямые волосы, пошевелив пальцами, как ножницами.
Михаил Андреянович, покашливая, сел рядом с Алексеем.
— Что же это вы двери-то не запираете? Хоть бы на цепок накинули, коль нет замка, — сказал Алексей.
— А зачем? — глухим голосом спросил Михаил Андреянович с такой горечью, что Алексей сразу согласился: запирать действительно незачем.
— Плохо живешь, Михаил Андреянович.
— Надо бы хуже, да некуда, — ответил он и взял ножницы.— Знаешь, в другой раз бывает так, что хоть завязывай глаза и беги из дому куда нипопадя. Чистая ардюка! Не напасешься на них ни штанов, ни рубах. Жена совсем замучилась, прихварывать начала. И у меня здоровьишко пошатнулось. Если бы не дети, может, и руки на себя наложил бы. Наверно, не доживу я до новой жизни.— При последних словах у Михаила Андреяновича дернулась голова.
Алексею хотелось чем-нибудь утешить друга, и он сказал:
— Доживешь. Определенно доживешь!
Перед вечером Алексей старательно, до блеска чистил свои сапоги. В душе все ликовало — сегодня он встретится с Параней. Марья Ивановна, положив локти на стол, задумчиво смотрела на сына. Увидав на лавке кисет, проговорила:
— Кисет-то у тебя какой хороший.
— Неплохой, — ответил Алексей, улыбаясь и продолжая чистить сапоги.
— Ну-ка, я погляжу поближе.
Марья Ивановна отошла с кисетом к окну и долго разглядывала разноцветную вышивку и расшитые шелком слова.
— А это что тут вышито? — спросила она, указывая на буквы.
— Да так, одни глупости, — смущенно пробормотал Алексей и еще старательней заработал щеткой. Его скулы покрылись горячим румянцем. Парень стеснялся: как это говорить с матерью о подарке девушки!
— А ты, сынок, почитай мне, — тихо попросила Марья Ивановна, подходя к Алексею.
— И читать нечего — глупости одни, — с еще большим смущением проговорил Алексей.
Марья Ивановна настаивала.
«Алеша, люби, не забывай», — скороговоркой и без выражения прочитал он, пряча глаза.
На смуглом, все еще красивом лице Марьи Ивановны тоже появился румянец. Тяжело вздохнув, она взволнованно и решительно сказала:
— Не по себе дерево рубишь!
Алексей взглянул на мать. Глаза их встретились.
— Знаешь, сынок, давно я с тобой хотела погутарить, да все духу не хватало. Теперь уж скажу… Тяжело родниться с такими людьми.
— Почему, мама?
— Они богаче нас, сынок. Не по нам. Да и мать у нее и бабушка… от своих мужей гуляли. Пропадешь ты с ней.
Алексей попытался отделаться шуткой, но мать шутки не приняла:
— Не до смеху. Тут нужно как следует подумать. Я жизнь прожила, кое-что повидала. Не по тебе эта девка.
Алексей был убежден: мать не знает Парани и валит на нее чужие грехи. Он снова попытался свести разговор к шутке:
— Кому-нибудь надо и на этой осине повеситься. Значит, уж моя судьба такая, так на роду написано.
Лицо Марьи Ивановны сделалось озабоченным. Она строго спросила:
— А какой тебе край влезать в эту семью? Девок, что ли, мало?
Глаза Алексея посуровели, сузились.
— Вот что, мать, — жестко сказал он. — Ты в эти дела не суйся. Теперь не старое время. Я сам себе невесту выберу.
Мать не отступила.
— Женись на ком хочешь, это твое дело, но посоветовать-то я могу? Я мать. Или ты, может, теперь уж и не нуждаешься в моих советах?
Алексей, опустив глаза, сказал тихо, но решительно:
— Не лезь в это дело, мама, я сам себе не лиходей.
Марья Ивановна опять отошла к окну. В уголках ее плотно сжатых губ легли многочисленные морщинки.
— Эх, сынок, сынок… Молод ты еще. Понравилась — и думаешь, лучше ее на свете нет, а потом хватишься, да поздно будет. Прошлого не воротишь.
Сдерживая раздражение, Алексей сказал:
— Давай лучше прекратим этот разговор. По всему вижу: до добра мы с тобой не договоримся.
— Ладно, только запомни: девка она хоть и видная и на лицо красивая, а толку не будет. Красота до венца, а ум до конца. Я не говорю, что она глупая, да ум-то у нее наизнанку вывернут.
— Хватит! — зло сказал Алексей и быстро вышел из куреня.
Марья Ивановна была удивлена. Никогда прежде Алексей не разговаривал с ней так. Скорее мог погорячиться Николай.
«Да что же я сказала обидного? — думала она, вспоминая свои слова. — Уж если теперь ничего сказать нельзя, то женится и совсем другим станет. Жена всегда в уши навьет. Ночная кукушка дневную перекукует».
Она с неприязнью представляла себе Параню, перебирала в уме весь сегодняшний разговор. «Нет, это добром не кончится».
Долго сидела за столом.
— Дюже ошибется Алеша, — прошептала мать. — Жена не чирик, с ноги не скинешь…
В субботу перед вечером Семен Сазонович Бородин, неторопливо бродя по широкому, чисто подметенному двору, увидел, как распахнулись обе створки ворот и старик Потап, рябой и угрюмый, мало изменившийся за последние годы, ввел на поводу во двор двух рослых рыжих белоногих коней в хомутах.
— Ну что, приехали? — спросил у Потапа Семен Сазонович.
— Приехали, — глухо пробасил Потап.
— А где Митрий?
— Там, у косилки, — кивнул Потап на высокий светло-зеленый забор и провел задиравших головы лошадей к конюшне мимо колодца с журавлем и двух новых, крытых белым листовым железом амбаров.
Лохматый пес, увиваясь вокруг Потапа, радостно повизгивал, блестя глазами, но Потап не обращал на него никакого внимания.
За Потапом прошел и Дмитрий с охапкой одежды и сбруи.
Семен Сазонович, став спиной к бричке, громко позвал сына:
— Митрий, пойди-ка сюда!
Дмитрий подошел.
По одному тому, что лицо отца приняло суровое выражение, а голову он слегка откинул назад, Дмитрий понял: старик настроился его ругать.
— Ну как тут? Все в порядке? — стараясь не глядеть на отца, спросил Дмитрий, заискивающе улыбаясь.
— Тут-то все в порядке, расскажи, как вы там работаете!
— Да помаленьку убираемся.
— У Полынков скосили?
— Нет еще.
— Почему?
— Да у Катиной балки задержались.
— Что же так прохлаждаетесь?
— Сначала косилка не ладилась, а вчера с обеда дождь пошел… — Дмитрий готов был выставить еще причины, но Семен Сазонович строго сказал:
— Ты бы хоть отца постыдился обманывать.
— Вот истинный бог, не брешу. Косилка не ладилась, хоть Потапа спроси.
— Знаю, как она у тебя не ладилась. Не дают тебе покою жалмерки да девки. Целые ночи по станам шатаешься, потом до полдня спишь, а дело стоит. Мне все известно. Старого воробья хочешь на мякине провести. — Семен Сазонович строго посмотрел на сына и спросил с издевкой: — И, скажи, в кого ты такой уродился? Не иначе, как в материну родню. Учиться не захотел, к работе — канатом не притянешь. Тебе, Митрий, вся стать по дорожке Савуни Хватыша идти. Как воровать привыкнешь, вот тебе и второй Савуня Хватыш.
— Так уж и Хватыш?
— Чистый Савуня Хватыш, без подмеса. С ним тоже отец бился, и ничего бедняга не достиг.
— Ну, с Хватышом ты меня напрасно сравниваешь.
— Настоящий Савуня Хватыш, — подтвердил Семен Сазонович.
Дмитрий ехидно улыбнулся.
— А разве Савуня Хватыш не дружок твой?
— Цыц! — как на собаку, прикрикнул Семен Сазонович. И уже совсем тихо, но зло сказал: — Не говори, чего не понимаешь. Молод еще мне указывать, с кем отцу дружбу заводить… Посмотришь на других, — выждав, проговорил он, — счастливые есть родители. Вот я на днях встретил мальчонку Ястребовых. И от горшка-то два вершка, а собирается в этом году идти в школу. Уж читает, и люди говорят, на германском да на французском слова знает, А Миколай их в студенты уехал учиться. А от каких капиталов? Самовар продали. Понял, дурья башка? Если бы ты хорошо учился, я не пожалел бы на тебя в год по паре быков. И Алексей у них с малых лет хозяин. За что ни возьмется, все сделает. Счастливая Ястребиха, не то что мы со старухой.
— Ты всегда мне Ястребовыми в глаза тычешь, — озлился Дмитрий. — Но ведь они комсомолисты, им все доступно. А ты только и знаешь, что меня ругать.
— Стоишь того, вот и ругаю.
— А чем я виноват, если учение мне не пошло?
— Молчи. Разбаловался с малых лет, вот и не пошло. Женю — остепенишься.
— Время придет — сам женюсь, — не глядя на отца, нахмурив черные брови, проговорил Дмитрий.
— Сам? Да куда ты годен-то сам? Ведь я тебя кормлю, пою, обуваю, одеваю! Тоже мне «сам»… Нынче осенью сыграем свадьбу. Подыскивай невесту. Или у тебя уж есть какая на примете? — Говоря это, Семен Сазонович только испытывал сына. На самом деле он отлично знал, где шастает Митюня, на кого глаза пялит.
Но Дмитрий хитровато усмехнулся и сказал, что на примете пока нету. А сам, собираясь на улицу, ломал голову: как увести Параню от Алексея.
Дом у Бородиных — полная чаша, всего хватает. Редкий человек на хуторе не завидует их жизни. Трофимовна, ставшая еще более рыхлой и болезненной, постоянно озабочена тем, как угодить мужу и получше накормить любимого сынка. На утренней заре, когда Дмитрий возвращается с гулянки, в малой горнице на столе он находит белый пшеничный хлеб, кусок свиного окорока, кувшин молока, лапшевник, блинцы и еще что-нибудь вкусное.
С девушками и жалмерками Дмитрий ведет себя развязно, уговаривает замуж, а потом смеется над ними, хвастаясь перед товарищами своими «победами». У него всегда есть деньги. Отец часто ругает его, но без денег не оставляет.
«Один он у нас в живых остался. Пусть повольничает, — рассуждает Семен Сазонович. — Молодому самое и погулять». Старик Бородин с некоторых пор перестал увиваться возле чужих бабочек. Из мыслей своих о прошлом он старался изгнать неудачу с Марьей Ивановной Ястребовой.. А когда жена, не щадя его самолюбия, с неслабеющей ревностью напоминала о ненавистной ей Ястребихе, он яростно матерился, хлопал дверью и уходил из дома.
Сегодня воскресенье, и после обеда Дмитрий в малой горнице стал переодеваться в праздничный костюм. Вошел Семен Сазонович, сел на стул, задумчиво глядя на сына, спросил:
— Далеко собираешься?
— Да хочу на Роднички смотаться, — с деланным равнодушием ответил Дмитрий.
По тону ответа Семен Сазонович понял, что парню не хочется вводить отца в свои секреты. Семен Сазонович усмехнулся:
— Опять к закадычным дружкам?
— К ним, — подтвердил Дмитрий.
— Вот что: ты это брось. Не надо на рожон лезть.
— О каком ты рожне говоришь?
— Думаешь, отцу непонятно? Я, брат, сам на семи яйцах сидел, а десять цыплят вывел. Понял? — Семен Сазонович помолчал и твердо сказал: — С Алешкой не связывайся. Ничего из этого путного не выйдет. Мне жалко тебя, ты у меня один сын, а, свободная вещь, можешь и в тюрьму сесть. Сейчас знаешь какое время? Они человека убьют, н их оправдают, а мы собаку убей — в тюрьму сядем. Так что лучше не связывайся, не стоит она того.
— Но меня нынче в Родничках ждут.
— Кто?
— Никита Вилков, Гусев да Москалев.
— Не встречался бы ты с ними. Из-за твоего Никиты в тот раз мы могли бы жизни лишиться, — напомнил Бородин случай, когда Вилков был в бандитах. — Попадись он тогда, непременно выдал бы нас. А время было сурьезное, сразу ставили к стенке. — Семен Сазонович начал вертеть цигарку.
— Никита не выдаст, он парень твердый.
— Твердый, — презрительно проговорил Семен Сазонович. — Я, парень, в братскую войну повидал и не таких твердых, как твой Никита, и те, когда смерть в глазах, ломались. Да и то сказать: ведром Безымянки не вычерпаешь. Нынче их власть, нынче все у них в руках, лезть на пролом не стоит, надо выждать: придет и наше времечко.
Некоторое время молчали.
— А знаешь, отец, у Никиты опять неприятность.
— Какая?
— Да он в Ростовском университете учится, а теперь туда поехал Ястребенок. Никита боится, чтоб Колька не узнал его.
— Свободная вещь — может узнать, — подтвердил Семен Сазонович.
— Вот эти Ястребовы, — зло сказал Дмитрий. — Стали они поперек, хоть бы убрал их кто с дороги.
— Ты, Митрий, в это дело не ввязывайся. На такие дела нужно дураков искать.
— А разве я сам? — Дмитрий деланно засмеялся.— Пусть Гусев с Москалевым. Даром, что ли, они водку мою пьют? Очень нужна мне их дружба!
— Да-а, а другой-то компании у тебя и нету. Не доучился вот, не стал на иную дорогу, не потешил отца-матери, и, попомни, самому тебе всю жизнь придется мучиться.
Дмитрий нахмурился:
— Об этом теперь гутарить поздно.
— Оно, конечно, и поздновато трошки, — согласился отец. — А на Роднички я тебе все-таки не советую ехать. Ежели думаешь что-нибудь сделать, сам не показывайся с Гусевым да с Москалевым. Ребята они невоздержанные, горячие, головы у них дурные. Пропадешь. Потоньше надо.
— Да я и так тонко.
— Где уж там! Пьяный черт-те что несешь: и с Дона и с моря. Того и гляди, и меня посадят вместе с тобой. Расстраиваешь ты меня, Митрий, на каждом шагу расстраиваешь.
На Роднички Дмитрий все-таки поехал.
Давнишний приятель Дмитрия Никита Вилков был блондин, небольшого роста, со слабым приятным голосом, с маленькими острыми глазками. Уроженец хутора Роднички, он приехал домой на летние каникулы. Еще в семнадцатом году Никита и Дмитрий вместе учились в гимназии. Тогда же они горячо поддерживали контрреволюционную группу старшеклассников, которую организовал директор мужской гимназии Виталий Владимирович Благосклонов. С приходом в станицу красных Дмитрий и Никита выбыли из гимназии. Никита был потом довольно долго в банде. А теперь он комсомолец. В университет по путевке крайкома комсомола поступил.
Сегодня в доме кулака Гусева собрались ближайшие собутыльники Дмитрия.
— Значит, учишься? — с завистью спрашивал Дмитрий Никиту.
— Учусь… И представь себе, у нас в университете преподает профессор Благосклонов.
— Виталий Владимирович?!
— Да, Виталий Владимирович. Внешне он почти не изменился. Внутренне — остался тем же.
— Интересно.
— Очень интересно. Я думаю, что мы еще тряхнем стариной. Не надо терять надежды. Луну не скроешь навсегда пылью, а ведь это пыль, со временем ничего от нее не останется.
— Говорил с профессором Благосклоновым? — допытывался Дмитрий, не склонный к философским отвлеченностям.
— Говорил.
— Помнит нас?
— Отлично помнит.
— А у меня что-то неопределенное, — пожаловался Дмитрий. Вот пьянствую, никакого выхода не вижу.
— Почему так?
— Хутор. Медвежий уголок. Ты в большом городе. Ростов не то, что Грушки. А я так никуда и не пристроился.
Три года назад Дмитрий Бородин подавал заявление в хуторскую ячейку комсомола. В Суходольской нашел себе поручителей и в их числе даже какого-то парня, занимавшего видный пост.
Председательствовавший на комсомольском собрании Алексей Ястребов зачитал заявление Бородина и рекомендации поручителей, обвел глазами товарищей.
— Заодно с Бородиным нам следует принять поповну и Афонички Красноглазого сынка. Вот будет ячейка! — с издевкой сказал Тихон Кукушкин.
— Да, ловкий малый. Ничего не скажешь, — подтвердил Дронов.
Алексей как председатель сказал Бородину:
— Запомни, Дмитрий, на носу заруби: мы кулацких сынков в комсомол не принимаем. Можешь идти.
Бородин оскорбился. Он думал, что окажет своим хуторянам честь: вместе с «голодранцами» будет состоять в одной комсомольской ячейке. А «голодранцы» его не приняли, хотя он и образованный по сравнению с ними. Еще до революции он начал учиться в гимназии. Правда, не окончил ее, но считал, что помешала революция. В гимназии товарищи дразнили его флексией, потому что Дмитрий долгое время никак не мог отличить суффикса от флексии. Собственно говоря, и тогда учеба мало интересовала его, больше занимали девушки. Захотел бы — в этих, не таких уж сложных, вопросах разобрался запросто.
— Офицером все равно буду, — не раз говорил тогда Дмитрий. А вернувшись из гимназии домой, со злостью сказал отцу: — Кончил курс науки, сдал экзамен в пастухи.
С двадцать первого года по вечерам возле своего дома, крытого железом, или на пустоши, возле амбаров, или над берегом Безымянки Дмитрий играл на гармонике польку, русского, гопака, вальсы «На волнах», «На сопках Маньчжурии». Планы на будущее у него были самые неопределенные. То думал, что не худо бы заняться торговлей, пойти по отцовской дорожке. То всерьез рассчитывал на скорую гибель Советской власти и на военную карьеру. То строил проекты вступления в комсомол и даже в партию и уже видел себя комиссаром в кожаной тужурке и в непомерных галифе. Учиться Дмитрий не собирался: чем дальше в лес, тем больше дров — за суффиксами и флексиями появятся ещё какие-нибудь премудрости, которые нужно изучать, ломать голову. Знал и другое: можно двадцать лет проучиться и все равно жить кое-как. А ему хотелось жить на широкую ногу.
С тех пор как комсомольцы указали ему на дверь, Бородин стал мстить им через многочисленных дружков. Сам он при этом обычно оставался в стороне.
Сегодня за выпивкой разговор зашел о коммунах и кредитных товариществах, о том, что в хуторские Советы народ стал больше избирать коммунистов и комсомольцев, голь перекатную. Друзья Дмитрия были из богатых семей, молодые, рослые, чубатые, здоровые, самоуверенные. Спели старинную казачью песню «Разродимая моя сторонушка» и расстроились.
— Невеселая, братцы мои, жизнь надвигается, — сказал Москалев, однолеток Дмитрия, глядя в открытое окно на темно-красные, с тонкой кожицей, налитые до косточек соком вишни.
— Еще поживем, — уверенно проговорил его сосед, белобрысый молодой казак Гусев.
— Да ведь это как сказать, — продолжал Москалев.— Была гражданская война, дали по шеям нашим родителям, умыли их кровью. А теперь и нас жмут, скоро совсем шеи не повернешь. — Москалев встал, подошел к окну, закрыл обе створки. — Даже поговорить по душам боишься.
— Бояться нечего, — сказал Гусев, — надо хуторян из рук не выпускать.
Дмитрий поставил на стол недопитый стакан самогона. Разговор принимал интересный оборот.
— Как не выпустишь, — проговорил он, — когда делается такое. Вот у нас на хуторе живет Ястребов Алешка. Все вы его знаете.
— Знаем, — подтвердил Гусев.
— Ну, вот он комсомолец, за дедом своим, за коммунистом идет. Тот старик, того теперь не переделаешь. А этот — на губах еще материнское молоко не обсохло, а туда же. — Он передразнил Алексея: «У нас на хуторе надо коммуну и кредитное товарищество!..» Что он понимает в этом? А его слушают, волнуются.
— У таких, как Алешка, языки нужно вырывать, — высказался Гусев.
— Языки вырывать, — передразнил его Дмитрий. — А кто будет вырывать-то?
— Мы будем, — чуть побледнев, сказал Гусев. — Ты будешь, я, вот он. И еще найдутся! — Гусев встал и взволнованно прошелся по комнате. — Только знаешь, Митя, ты тут не юли. В каждом деле хочешь украсть. Ты с ним девку не поделил.
— Девка — это десятое дело, — краснея, сказал Дмитрий.— Я вам правду говорю. Спросите кого хотите. Весь хутор об этом знает.
— Хорошо. Если правда, зажмем где-нибудь.
— А не страшно? — вздрогнув, спросил Москалев.
— С умом все можно сделать, а по-глупости в два счета влипнешь, — сказал Гусев. — Только о нашем разговоре — никому.
— Ну что ж, неплохо получается у вас, — слабым голоском похвалил Никита.— Я смотрю, вы настоящие казаки. — Он повернулся к Дмитрию. — А ты говорил: «медвежий уголок», «выхода не вижу». Выход всегда можно найти. Я вот что вам посоветую, братцы мои. — Никита, оглядев присутствующих, понизил голос.— Держите со мной связь. Где можно — действуйте. Надо бить советских работников. Они думают, что мы разгромлены. Как бы не так. Сейчас многие таят свои взгляды. Ждут часа, когда расправу можно начать.— Никита встал и прошелся по комнате.— Я сегодня же с вами пойду на Алексея. У меня с Ястребовыми свои счеты.
Гусев почтительно сказал Никите:
— Давай так: твоя голова, а наши руки. Мы сами с ним справимся. А вот насчет Ростова и связей — это хорошо, это с удовольствием. Ты только дай нам свой адресок.
— Адрес я вам дам. И если случится кому-нибудь из вас туго, прямо приезжайте ко мне. Все будет шито-крыто.
Только что прошло стадо, и над хутором еще не улеглась пыль.
На высоком берегу Безымянки, на Канарейкиной пристани, казаки и казачки стояли в два отдельных круга: женский и мужской. В компании молодых женщин и девушек слышались перешептывания и сдержанный смех. Развязней других вели себя жалмерки. В группе мужчин — почти непрерывный громкий хохот.
— Чтой-то Нюрки Петруничкиной нынче нету? — для смеха спросил один из казаков.
— Да она в постный день скоромного наелась. Живот пухнет, вот и не приходит, — пояснил весельчак и балагур Тихон Кукушкин. Он тут же повернулся к самому робкому на хуторе парню:
— Ты, Федя, хоть бы проведал ее.
— Да я… — Парень растерялся и не знал, что ответить. Девушек и женщин он просто боялся и даже в мужском обществе не выносил пристального внимания к себе.
— Вот именно, Федя. Ходить ходил, а теперь в кусты! Знаем тебя, тихоню. Все равно алименты придется платить.
— Да, братцы… да что вы?
То, что он попытался оправдываться, поддало жару. Теперь со всех сторон заговорили:
— Смотрите, да он и чуб навил!
— Небось часа два перед зеркалом стоял.
— Верно, верно! Я к ним заходил, так он с утра еще у зеркала вертелся, а мне и невдомек, чего это он крутится.
— Ну, держись, девки-бабы, Федя во всей красе пришел!
— Он придет, он такой!
Федя покраснел до слез и готов был сквозь землю провалиться. К его счастью, внимание молодежи перешло на другое.
— Расскажи, Тиша, как Родяню сон придавил.
— А было это, братцы мои, так, — начал Тихон Кукушкин. — Пришлось Родяне со станции домой ехать. Ну, а поспать-то он любит… Возьми да и засни дорогой. Он спит, а лошадь-то дорогу знает, идет себе и никаких. Родя спросонья только почмокает губами и скажет: «Н-но-но!» А сам опять спит. Даже головы не подымет. Подъехал к своему дому, лошадь остановилась у ворот, а он опять почмокал губами: «Н-но-о, н-но-о! Трогай!» Ну, лошадь — какое ее дело, — трогать так трогать. Ты — хозяин, ты все знаешь.
Кукушкин на минуту передохнул. Все слушали молча, ближе подошли к рассказчику.
— Пошла лошадь дальше, мимо своих ворот. Остановилась у крайнего двора. Видать, здорово ей не хотелось с хутора уходить. Очнулся Родя, поднял голову, поглядел — темно, а в окнах пятистенка — свет. Он спросонья и своего хутора не узнал. «Ну, — думает, — заблудился, едят тебя мухи с комарями. Дай тут ночевать попрошусь». А это дом Миколаевых. Заходит. А у них как раз портные, люди с чужого хутора, сидят, к рождеству одежду шьют. Увидал он их, незнакомых, и — «Здорово живете». — «Слава богу»,— отвечают те. «Пустите, люди добрые, переночевать». «А что такое?» — спрашивают. «Да едят тебя мухи с комарями, с дороги сбился». А Миколай Егорович в это время выходит из горницы. «Это, — говорит, — ты, Родя, заблудился вроде?» — Тот так и ахнул со стыда: «Меня, слышь, сон придавил, едят тебя мухи с комарями…»
Тихон Кукушкин рассказывал об этом уже не в первый раз, и смешного здесь было мало, однако его последние слова потонули в сплошном хохоте: уж очень хорошо передавал он голос и манеру говорить Родяни, его любимую поговорку: «Едят тебя мухи с комарями…» Смеялся и Федор, справившись от недавнего смущения. Из соседнего круга хлынули женщины и девушки.
— Что у вас такое? Над чем смеетесь?
— Опять Кукушонок учудил, — сквозь смех пояснили им. У Кукушкина лицо в крупных веснушках. «Каждая конопинка стоит полтинку», — сам говорит он о себе. Всюду Тихон находит смешное, подмечает особое в голосах людей и умеет это передавать. А всех, кто гутарит не так, как принято в Грушках, хуторяне высмеивают, нарочито искажают слова: «здеся», «чиво» (на хуторе принято — «тут» и «чаво»). В искусстве гутарить не по-хуторному никто не может сравниться с Кукушкиным. Начнет рассказывать — все со смеху надрываются:
— На печке была сучкя, пила кисленькее молочке. Я ее дрючкём — она хвост крючкём да на речкю…
Смеются, а Тихон уже передает разговор двух старух, меняя голоса:
— «Кума!» — «Що?» — «Ильин день во що?» — «А тебе на що?» — «Да так, купить кое-що».
Где Кукушкин, там всегда смех, только сам рассказчик обычно не смеется. И сейчас по его милости жидкий круг мужчин сразу пополнился, в него влились девушки и жалмерки.
Одеты девушки и жалмерки по-праздничному. Почти на всех белые платки, подсиненные, с кружевами и вышивкой; юбки и кофты — ярких расцветок; на груди — в несколько рядов монисто и бусы. Почти у каждой — серебряные серьги, а на руках — кольца. В косах у девушек — ленты, и голубые, и красные, и розовые.
Алексей глядел на пеструю толпу. Вот и Параня. Она небольшого росточка. Зеленая кашемировая кофта оттеняет ее белое, нежное и тонкое лицо с черными, будто нарисованными бровями, с очень живыми глазами. Встретив взгляд Алексея, она вспыхнула и отвернулась. Только на миг ласково блеснули ему ее глаза. Но Алексею достаточно было и этого мига. Он расправил плечи, заулыбался.
Оглядывая чубатых, молодцеватых парней, Параня увидела высокого, стройного, с гордо откинутой головой Дмитрия — в руках у Бородина гармоника. Встретив наглый взгляд его зеленоватых глаз, смутилась. Бородин довольно улыбнулся и заиграл на гармонике. Одна из жалмерок — жох-бабочка — нежнейшим голосом, будто призывая, запела:
И Бородин повел частушку с вызовом, в лад гармонике:
Параня, также речитативом, ответила:
— Это у Алешки красивое лицо! Это он — парень симпатичный?! — Кукушкин громко, с издевкой засмеялся: он не мог обойти подковыркой и своего закадычного дружка Алексея Ястребова. Зная характер Кукушкина, друзья обычно не обижались на его выходки: все равно не переделаешь. А Кукушкин успел вставить под гармонь свою частушку — вроде без него и тут не обойтись:
Комсомолец Дронов, молодецки заложив руку за правое ухо, запел:
И парни, и девушки, и жалмерки вскоре образовали возле Дронова общий широкий круг, будто хоровод собрались водить. Песню подхватили, и она покатилась над рекой.
А немного погодя уже играли другую, жалостливую, старинную:
Досказывает песню комсомолец-запевала, а подголоски парней, женщин и девушек высоко-высоко «дишканят».
В стороне от общего круга перед небольшой группой без устали хохотавших парней чудил Кукушкин:
— Господа старики, седлайте каюки. Рак морской угнал табун донской.— Не успели отсмеяться над этой шуткой, он уже передразнивал всем хорошо знакомого хуторянина, который без форса и слова не мог сказать:
— Вот, бр-р-ратцы, в тр-р-ретьем годе тар-р-рань ловилась. — При этом он бросал на окружающих многозначительные взгляды, точь-в-точь как тот казак-хуторянин.
— Алексей Петрович, можно вас на минутку? — К Ястребову подошел Дмитрий Бородин, гармонь у него как-то особенно молодцевато держалась на одном наплечном ремне.
— Пожалуйста…
Отошли шагов на пять от толпы.
— К Параньке не лезь… Поищи других девок. Я ее возьму замуж.
— Это если она пойдет, — сказал Алексей.
— Пойдет. За меня любая пойдет. Я не какая-нибудь шантрапа, — уверенно проговорил Дмитрий.— Только у меня под ногами не путайся.
— Ты брось на басы нажимать, — посоветовал Алексей.
— Хуже будет. Шумну кое-кому — ноги переломаем.
— Та-а-к, та-а-к, — неопределенно протянул Ястребов.
— Так не так, перетакивать не будем, — угрожающе сказал Дмитрий.
— Ой, парень, ты меня насмерть перепужал, — сделав испуганное лицо, с насмешкой проговорил Алексей.— Ты же знаешь, я сроду пужливый, особенно боюсь кулацких выползней. Подползет как гадюка и ужалит.
Ястребов знал: Дмитрий может и бесшабашность свою проявить, и чужими руками сотворить всякое. Но Парани Алексей никому не уступит, в кровь будет драться за нее!..
Запевала Дронов выразительно досказывал слова песни, которая, может, потому переходила из поколения в поколение, что была в ней большая задушевность:
Когда смолкли последние слова, Кукушкин подошел к общей группе и громогласно, на свой манер объявил о пляске:
— Сейчас начнется топталовка!
Вернувшись в круг, Дмитрий задорно заиграл на гармони, а Кукушкин тонюсеньким жалким женским голоском повел частушку:
И он действительно скорчился, согнулся, будто тяжело больной человек.
Разноголосо кричали петухи. Занималась утренняя заря. Алексей и Параня тихо шли, разговаривая.
— Параня, завтра я пойду к твоим родителям, — сказал он.
— И не думай! Осенью пойдешь служить, и два года тебя не будет, а я что: ни девка, ни баба?
— Но, Параня, как же быть?..
— Сейчас я замуж не пойду. Отслужишь — тогда другой разговор. А то: нынче женишься, а завтра разженишься. Привезешь, как Макар Трифонов, какую-нибудь городскую вертихвостку. «На что мне, — скажешь, — сдалась наша деревенская дура?» А я и останусь на бобах. Они там есть завлекательные. Намажутся да накрасятся, поневоле влюбишься.
— Зачем ты мне об этом говоришь? Да разве я так могу сделать? — Алексей попытался обнять ее узкие плечи.
Девушка отстранилась.
— Ты, Алеша, говорить говори, а рукам воли не давай.
— Постой… Параня… Слышишь? — зашептал Алексей.— Я тебе хочу еще одно словечко сказать… погоди, — он снова взял ее за плечо, ощутив холодок кашемира и тепло ее тела.
Но девушка повела плечом и, ускользнув, отбежала от Алексея.
— Не подходи близко. Боюсь.
Алексей уже спокойней:
— Я не кусаюсь.
— Все вы так говорите. Вот возьму и выйду замуж за Митюню. Чем не казак? И собой хорош, и живут богато, и мне прохода не дает… Не вам, комсомольцам, чета.
Алексей зябко повел плечом.
— Ну, выходи, мне-то что?
Девушка с усмешкой приблизила к нему черные заблестевшие глаза.
— А ты уж поверил? Думаешь, этим шутят?
Снова шли рядом.
Вот и ее дом в две комнаты, с яблонями и тополями по углам палисадника. Здесь Алексею все знакомо до мелочей. От дома и деревьев на землю упали косые тени. Алексей и Параня зашли в затененную часть улицы. На дороге, по влажной от росы траве лежат кружева теней. Окна Параниного дома кажутся бездонно темными. В сумраке белеет стена, а по ту сторону улицы тускло отсвечивает оцинкованная крыша. Хорошо видны переплеты рам трех окон пятистенки.
В курятнике, захлопав крыльями, давясь хрипотой, закричал петух.
— Ну, Алеша, я ухожу.
— Подожди… Давай постоим еще чуток.
— Липнешь, чистая смола.
— Параня!
— Ну что? Я давно Параня, девятнадцатый год, как Параня.
— Слушай, Параня!
— Я тебя и слушать не хочу… Ты охолонь немножко. Да и уходить нужно, а то отец в окно увидит. Он у нас по ночам встает курить. — Она тревожно посмотрела на окна.
Алексей тоже скосил туда глаза, потом обнял ее, стал целовать в волосы, в лицо. Девушка сначала отбивалась, потом лихорадочно быстро обняла его, поцеловала в губы и, упершись ему в грудь сильными руками, вдруг оторвалась и легко побежала во двор.
— До субботы, — ласково сказала она из-за калитки. Алексей простоял у ворот до тех пор, пока в доме не скрипнула осторожно дверь.
На другом конце хутора мужские голоса дружно пели:
«Надо идти домой. Немного вздремну — и в поле»,— решил Алексей.
Он прошел саженей двести, как вдруг от забора, затененного деревьями, отделились три мужские фигуры.
— Стой!
— В чем дело? — проговорил Алексей, не останавливаясь.
Этих людей он не узнавал. Очень низко, на самые глаза, у них были надвинуты козырьки фуражек.
— Стой! — повторил тот же голос, и все трое кинулись к Алексею.
Он побежал. Один из троих упал ему под ноги. Алексей оступился, но удержался на ногах. «Митюнина работа»,— мелькнуло в мыслях. И в ту же минуту он почувствовал удар в шею. Обернулся, наотмашь хватил кулаком по чему-то твердому, кажется по зубам, и нападавший отвалился. Алексей побежал изо всех сил. Но его опять нагнали, схватили за рубашку и очень больно несколько раз ударили по лицу. «Только бы не упасть, — думал он, — только бы не упасть». В руке одного из парней блеснул нож. «Зарежут, проклятые, как быка».
Один из нападавших сопровождал удары словами:
— Это тебе за комсомол! Это тебе за коммунию!
«Эх, рано мы сдали оружие!» — с горечью вспомнил Алексей о нагане. Он вырвался и побежал. За ним долго гнались. Отстали только у самого куреня Ястребовых.
Дрожа, как в ознобе, хотя ему было очень жарко, Алексей вошел в комнату, осторожно снял со стены зеркало, подошел с ним к окну.
Марья Ивановна подняла с подушки голову.
— Алеша, это ты?
— Я.
— Чего это ты не спишь?
— За спичками пришел, — шепотом ответил Алексей.— Хватился закурить, а спичек нет. — Спал он обычно на гумне.
Марья Ивановна сказала:
— Смотри, сено там не запали.
— Что я, маленький? — с обидой в голосе проговорил Алексей и, нашарив в печурке коробок, ушел в сад.
Деревья будто спали. Яблони роняли плоды. Звучно шлепались о землю яблоки. В ночной тишине все звуки были отчетливы и далеко слышны.
Под луной Алексей поглядел в зеркало и увидел свое лицо: под правым глазом большой темно-синий круг. На смутно белеющем лбу застывшие сгустки крови.
«Кровь… А я вгорячах и не почувствовал!»
Царапина и кровоподтеки были и на левой щеке.
«Ну, это ничего. Счастливо отделался. Вот если бы упал, тогда бы…» Алексей вспомнил блеск ножа. С минуту он смотрел на свое широкоскулое лицо, как на чужое, будто видел его впервые.
«Мать перепугается… Как-то нужно объяснить. А чтобы никто из хуторян не встретил, лучше в поле пораньше убраться».
Он прошел к Безымянке. Над ней висел знобящий туман. Алексей засучил рукава праздничной рубашки, обнажил мускулистую шею, долго умывался, прислушиваясь к всплескам рыбы, к легкому шороху камыша.
Когда отошел от берега, снова посмотрел в зеркало — теперь уже стало светлей. Никак не мог он привыкнуть к своему новому облику. Кустистую бровь перепахивал темный рубец. Потрогал — больно.
Алексей пошел к дому.
По вершинам деревьев загулял предутренний ветерок. Листья вишенника и яблонь на самых макушках зашелестели. Шелест дальних сливался, а вблизи каждый листок шуршал по-своему. Алексей ускорил шаг и у крыльца столкнулся с матерью.
Марья Ивановна, увидав его лицо, так и присела на скамейку. Ведро выпало у нее из рук и, подпрыгивая, с дребезжаньем и звоном покатилось по ступенькам.
Алексей быстро подхватил ведро.
— Что с тобой? — испуганно спросила Марья Ивановна.
Он густо покраснел и, растерявшись, проговорил:
— Ты не бойся… Это я… с коня упал.
Увидав в его руке зеркало, Марья Ивановна сказала:
— За ним приходил?
— За ним… Но ты не бойся. — Он уже овладел собой и твердым голосом добавил: — Вот что, мать, собирай мне харчишки: хочу пораньше выехать.
— Я сейчас.— И она метнулась в курень.
На восходе солнца Алексей приехал к месту покоса. Ему на этот раз повезло: он никого не встретил. Когда прибыл на своей телеге Самсон Кириллович, Алексей очищал косилку от засохшей земли.
— Ты нынче, парень, и не позоревал, — сказал Самсон Кириллович.— Я-то думал, с милушкой пролюбуешься до вторых кочетов, а потом до самого завтрака будешь спать.
— А кто же за меня работать будет? — глухо спросил Алексей.
— Работать? — Самсон Кириллович мельком взглянул на его лицо и опешил.— Кто это тебя?
— Нашлись такие.
Неловко улыбаясь и чувствуя саднящую боль, Алексей с наигранной веселостью рассказал о нападении. Голубые глаза его при этом перебегали с лошади на телегу, потом на желтеющие копны, затем опять на телегу. За все время, пока рассказывал, Алексей ни разу не взглянул на Самсона Кирилловича. Ему было мучительно стыдно.
— Да, веселые, видать, у вас были дела, — протянул Самсон Кириллович и потрогал себя за правый ус.— Настоящее Полтавское сражение. Все из-за нее?
— Нет, не из-за нее… Кто такие, разглядывать мне было некогда, раздумывать тоже не приходилось. Ну, меток, правда, я им тоже наставил, так что милиция угадает, меченые!
— Милиция?
— Конечно. Комсомольца избивают за то, что он комсомолец и агитирует за коммуну… Это дело не простое. Тут без милиции не обойдешься.
— Говорил тебе: не забивай ни себе, ни девке голову. Говорил?
— Ну говорил.
— По-моему, Алеша, и выходит. Политика тут ни при чем.
— Посмотрим.
Самсон Кириллович с сомнением покачал головой:
— Не верится что-то.
— Потом поверите.
— Ты на кого думаешь? — понижая голос, спросил Самсон Кириллович.
— Да пока думать-то не на кого.
Ковалев сказал строже:
— Не крутись, я тебе не чужой человек… Правду скажи.
Алексей пристально посмотрел на него: «Сказать иль не сказать? Нет, надо сказать, пусть поймет!» — И проговорил:
— Есть у меня подозрения на Митюню. Но это пока между нами.
— Как в воде потонет… А Митюня может такое сделать,— согласился Самсон Кириллович, — весь в отца, подлец: бровь в бровь, глаз в глаз! — И о чем-то глубоко задумался.
На хуторе в этот день только и разговору было:
— У Параньки-то Донсковой ворога дегтем вымазали!
— Неужели!
— Сама, кума, видала.
— Ай-яй-яй, какая срамота! Да с кем же это она спуталась?
— Говорят, с комсомолистом Алешечкой Ястребовым.
— С Алешкой?
— С ним.
— Вот девки-то нынче пошли!
— Девки — не приведи бог.
— Того и гляди в подоле принесут.
— Нынче принесут. Нюрка Петруничкина ходит вон — живот выше носа, чистая гора! Того и гляди — двойню родит. И эта тоже… На это у них ума хватает.
— А нам-то, бывало, отец-мать шагу ступить не дадут. Скажи ты, пожалуйста, как жизнь меняется.
— Воля она ведь сроду, куманюшка, доводит до горя.
— Ну, а сам Донсков-то как?
— Да как?.. Встали утром — все ворота в дегтю. Дядя Федор, он ведь у них горячий, и начал Параню чересседельником учить. Она плачет: «Я ни в чем не виновата», а он знай ее учит, знай учит. Попалась жена на глаза: он раза два и тетку Ганьку перепоясал. «Ты, — говорит, — потатчица старая. Из-за тебя, — говорит, — она целыми ночами с этим комсомолистом пропадает».
— Это, кума, он правду сказал: все из-за матери. Какая мамаша была, такая, видать, и дочка народилась. Вот это я иду вечером, а они, куманюшка, — не в переказ дело — Алексей с Параней стоят в обнимочку, как голубь с голубкой…
Кто пустил слух по хутору, неизвестно, но про Алексея тоже чуть не в каждом дворе шли разговоры.
— Говорят, нынче ночью Алешку-то убили.
— Убили?!
— Да не до смерти. Чуть живой домой приполз.
— А где же он теперь?
— Может, в курене лежит, а может, в больницу на станцию уехал.
— А Марья Ивановна как?
— Да утром корову выгоняла… Из себя такая невеселая. Глаза, вроде как заплаканные. С Марфуткой Апряткиной не остановилась и не погутарила по-соседски.
— Будешь невеселой. Он в доме один работник, вся надежда у нее.
Еще задолго до субботы Алексей уже знал и про ворота, и про Параню, о которой отец якобы сказал, что больше ее нога не ступит на улицу, и про то, что Алексея Донсков всячески ругал, даже грозил пожаловаться на него председателю хуторского Совета.
— Тебя уж там, парень, чуть не похоронили наши бабы. Говорят, еле живой дополз до дому.
Алексей слушал все это с внешним равнодушием. Но Самсон Кириллович, знавший его с детства, видел, что парень не спокоен. Ночами плохо спит, днем ходит насупившись.
В среду Алексей съездил на хутор. Долго разговаривал с председателем хуторского Совета. В тот же день послал заявление в милицию.
В субботу вечером Парани среди подруг не оказалось. Как только стемнело, Алексей завалился спать на прикладке сена. Глядя на раскинувшийся через всю ширь неба Млечный Путь, прислушиваясь к словам песни, доносившейся с берега Безымянки, он думал о любимой девушке, о матери, потерявшей покой, о Дмитрии Бородине.
«Завтра схожу к Федору Петровичу. Бить ее он не имеет права. Теперь не старое время», — решил Алексей.
Не заметил, как подошли Кукушкин и Дронов.
— Ты тут живой? — спросил веселым голосом Кукушкин.
— Живой.
Легли с ним рядом на сено.
— Рассказывай, — потребовал Дронов.
— Да что рассказывать? И говорить не охота… Избили, сами видите, все лицо поколупали. Ходил к председателю хуторского Совета. Да что толку от нашего Чулка? Пьяница! Ему кулаки рюмку поднесут, он что угодно подпишет…
— А что же все-таки Чулок-то сказал? — спросил Кукушкин.
Алексей усмехнулся и заговорил деланным басом:
— «Это все ваши личные дела. Небось девок не поделили. Мы тоже дрались, как кочетья, когда я был в женихах».— Дальше Алексей заговорил уже своим голосом: — Я с ним не согласился. Подал заявление в милицию, по почте переслал, чтобы вернее. Вчера, говорят, милиционер приезжал в Грушки, но меня даже не вызвал. Посидел с председателем хуторского Совета, раскурили по цигарке, составили протокол и запылил обратно в станицу. Мало нас, вот потому и достается нашему брату. Тут же кругом контра. Почти все в белых да в бандах были.
Лежали некоторое время молча.
— Да, это верно, нас мало, — согласился Дронов.— Надо ребят в комсомол вовлекать.
В хате у Донсковых было жарко. Когда вошел Самсон Кириллович, семья, только что закончив обед, выходила из-за стола.
Агафья Кондратьевна, полная, рыхлая пожилая женщина, по утиному переваливаясь с ноги на ногу, направилась в горницу и немного погодя вернулась оттуда с холстинным полотенцем в руках.
Параня убирала со стола, наклонив голову. Два ее младших брата, десяти и двенадцати лет, озорно переглянулись и весело выбежали во двор. Там их ждали соседские мальчишки. Нынче ребята собирались сходить на поле, где был посеян горох Бородиных.
Сам Донсков, старик с черной с сединой жидкой монгольской бородкой, поредевшим чубом и смуглым морщинистым лицом, отодвинувшись от стола, свертывал цигарку. Поздоровавшись, Самсон Кириллович сел рядом с хозяином.
— Что это вы, Федор Петрович, припозднились так с обедом? — спросил он у хозяина.
— Да я все утро с удочками просидел… А потом, пока рыбки принес, пока пожарили ее, то да се, время-то и ушло.
— Ловится рыба-то?
— Да не особенно. С пяток окуней да двух чебаков небольших, фунта по полтора, поймал.
— Да, время-то, оно не видя летит, — проговорил Самсон Кириллович.
— Совсем, парень, не видя, — охотно согласился Федор Петрович.
Он прошел к русской печи, достал из гарнушки уголек, прикурил и, вернувшись на свое место, продолжал говорить, попыхивая цигаркой:
— У меня вон второй сын в армию пошел. Старший давно отслужился. Да двух дочерей, до дела довел — замуж выдал за хороших людей. Нынче сам уж дедушка раз двенадцать, а все кажется, совсем вроде недавно на царской службе лямку тянул. Подумаешь другой раз, как все равно вчера это было.
— Тебе, Федор Петрович, какой год-то?
— Да уж шестой десяток идет.
Заговорили о службе в царской армии.
— Чертячья была дисциплина. Ни за что ни про что, бывало, офицеришка привяжется и норовит тебя в зубы двинуть. У нас командир сотни такой был мозглявенький, скудненький, а едучий — не дай бог! Чистое шило, а не человек.
— Да, люди бывают тяжелые, — неопределенно поддержал Самсон Кириллович.
— Оно, знаешь, слава-то у нас была казачья, а жизнь собачья.
Самсон Кириллович слушал хозяина с видимым вниманием, а сам нет-нет да и посматривал на Параню.
До нынешнего дня при ее имени ему представлялось что-то почти детское: худенькое личико с плутоватыми глазками, жиденькая подвижная фигурка. Как-то, много лет назад, довелось ему видеть ее пляшущей. Ахнув, Самсон Кириллович сказал тогда:
— Настоящий чертенок!..
Этой зимой случилось ему встретить Параню в обществе девушек. Теплая кофта на ней была коротенькая. По сравнению с подругами Параня казалась подростком. И когда после этого о ней заходил разговор у Самсона Кирилловича с Алексеем, он не переставал удивляться, что говорят они о Донсковой как о невесте.
Но сейчас Самсон Кириллович дивился еще более: да ведь она совсем взрослая — выровнялась, округлилась, похорошела.
Вот Параня перетирает чистым полотенцем столовую посуду. Самсон Кириллович видит ее колыхающиеся черные косы с синими будничными ленточками на концах, высокие груди. Дело свое она делает, кажется, не торопясь, но споро.
«Хороша девка!» — подумал Самсон Кириллович, любуясь ее быстрыми и точными движениями.
Убрав посуду в шкаф, Параня пошла к двери. Фигура красивая, гибкая, глаза темные с желтизной, ресницы густые, черные. Проходя мимо окна, она увидала что-то на улице и ресницы ее вздрогнули, упали, в углах тонких губ мелькнула радостная улыбка. Самсону Кирилловичу показалось обидным, что не ему она так улыбнулась, а кому-то там и что на него она и внимания не обращает. Потом он опамятовался и пристыдил себя.
«Что это я?» — с насмешкой подумал он о себе, понимая всю нелепость своей обиды. Вздохнув, отодвинулся и некоторое время со вниманием слушал Федора Петровича, но потом опять не удержался и посмотрел в ту сторону, где была Параня. Она уже подметала комнату. Поймав на себе взгляд Самсона Кирилловича, вспыхнула и тут же вышла.
А Федор Петрович, ничего не замечая, рассказывал, как он отделился от отца и начал хозяйствовать.
— Совсем плохо приходилось, а нынче ничего живем… И коровушка своя — молочко всегда на столе, чужим людям, благодаря бога, не кланяемся и работаем на своей лошадке и быках; хлеба до нови каждый раз хватает. Иной раз даже на базар вывозим…
Федор Петрович был из числа тех, которые всегда и во всем видят только светлую сторону. Сколько ни выпадало ему невзгод — и в семье, и на работе, и в армии, особенно в германскую войну, — он лишь на короткое время опускал голову, а потом опять как ни в чем не бывало находил в настоящем только хорошее, а будущее представлялось ему отличным.
Самсон Кириллович знал эту черту характера Донскова, знал и то, что он очень словоохотлив. Если слушать его не прерывая, то, наверное, никогда не переслушаешь. С полчаса Самсон Кириллович посидел на лавке рядом с хозяином, поддакивая, потом, понизив голос, сказал:
— Я к тебе не без дела, Федор Петрович. Поговорить надо. С глазу на глаз.
Старик растерянно посмотрел на Самсона Кирилловича выцветшими глазами. Он и не предполагал, что тот пришел к нему по какому-то делу. На хуторе в праздники принято запросто приходить друг к другу. Обычно поговорят да и разойдутся.
— По делу? Ну-ну, пойдем в горницу…
Пропустив гостя, он плотно закрыл за собой тонко скрипнувшую дверь.
Глядя то на высокую кровать, то на стену со множеством застекленных фотографий, то на приклеенные картинки, вырезанные из книжек и газет, Самсон Кириллович, тщательно подыскивая слова, — сватом ему еще никогда не приходилось бывать — смущенно заговорил:
— Видишь ли, Федор Петрович, я пришел к тебе насчет Алексея Ястребова и твоей дочери. Парень на виду тает, как свечка. А парень стоящий, такого хозяина во всем хуторе поискать.
— Это уж я знаю, — подтвердил Донсков.
— Он хотел бы посвататься…
Федор Петрович с изумлением посмотрел на гостя и тотчас нахмурился, ощетинился. «Ишь ты, — подумал он, — сватом заявился». Он был и обрадован и раздосадован в одно и то же время. Обрадован тем, что Алексей имеет серьезные намерения и с дочерью ничего плохого не случилось; раздосадован — не тот жених для его дочери: хоть и работник золотой, но голь, да к тому же и комсомолец. Желая выиграть время, чтобы сообразить, что к чему, он спросил:
— А венчаться как?
— По-нынешнему, по-советски, без попа.
— Та-ак, — неопределенно протянул Донсков. Он хотел увернуться от прямого ответа, но не знал, как это сделать.
А Самсон Кириллович донимал:
— Ну так как же, Федор Петрович?
Дверь в комнату распахнулась, на пороге появилась Параня. Одета она была по-праздничному: в поплиновую юбку и кофту, на груди в два ряда — бусы, в ушах — серебряные сережки, на голове — шелковая косынка. По одному тому, что лицо ее покраснело, а глаза потемнели и смотрели строго, почти гневно, Самсон Кириллович понял, чего от нее можно ждать.
— Я знаю, — сказала Параня,— о чем у вас тут разговор. — Этого не может быть. Я и Алексею… Петровичу говорила… Пусть он пока об этом и речи не заводит. Он все знает…
Перед глазами Самсона Кирилловича мелькнули две широкие розовые ленты, заплетенные в косы, и девушка быстро вышла, притворив дверь.
Посмотрев на нее, старик резко крякнул и только развел руками.
Едва стемнело, Алексей появился у дома Донсковых и несколько раз прошел мимо окон.
«Значит, больше я не увижу ее,— подумал он. Смеялась она надо мной, дураком, дарила платки, кисет вышивала, — все для потехи, а я думал всурьез… Но теперь-то понятно. У Митюни карман толще, где уж мне с ним тягаться». Алексей вспомнил слова Дмитрия: «Все равно моя будет». Так и есть. Избили, ославили на весь хутор и катись ко всем чертям».
Он медленно шагал по улице, не зная, куда деть себя в эту ночь.
Послышались легкие, торопливые шаги. Еще не видяг Алексей безошибочно узнал Параню. Она проворно подбежала к нему, взяла за руку.
— Подожди!
Он остановился, посмотрел на нее.
Кивнув на окраину хутора, Параня сказала:
— Пойдем куда-нибудь.
Алексей недоуменно пожал плечами и сухо ответил:
— Пойдем.
Молча вышли на глухую пристань Саломатиных, спустились к Безымянке. Он остановился у воды, она — повыше, на скате. Глаза их оказались на одном уровне.
По обе стороны от дорожки, идущей к речке, низко над самой водой — ровные площадки огородов. На них белели под луной крупные тугие кочаны капусты, продолговатые грядки с огурцами и круглые — с помидорами. Пахло капустным листом, огуречной травой. Возле парня и девушки, по правую сторону, две молодые вербы. Одна, постарше, как бы отделилась, забрела в самую воду да так и осталась там.
На той стороне, за Безымянкой, саженях в ста отсюда — неподвижный лес. От него на воду упала густая ровная тень. Безымянка поэтому как бы разделилась на две части: в одной вода темная, в другой — светло-зеленая.
— Ты долго будешь молчать? — спросила Параня.
— А почему дома отсиживаешься?
— Нельзя мне выйти: отец глаз не спускает. Да и сама я не хотела.
— Так бы сразу и сказала, а то: «Отец, отец…»
Она вздохнула.
— Думаешь, отец обо мне не беспокоится? Ведь я ему не чужая, не на кочке нашли меня.
— Бьет тебя отец-то? — меняя голос, спросил Алексей.
Она тоже понизила голос:
— Сейчас — нет… Он ведь у нас какой? Разошелся, закипел, чистый самовар, — никак не уймешь. А горячка сошла, хоть веревки вей. И даже обижаться на него нельзя… Ну, правда, побил немножко.
— Слыхал я, как он немножко… Не понимаю, — горячо заговорил Алексей, — почему ты так встретила Самсона Кирилловича?! Ведь ты перед своим отцом и его и меня опозорила.
— А тебе непонятно почему?
— Нет.
— Напрасно ты этого не понимаешь.
— Что делать? Бестолковый такой зародился. Вот не понимаю и понять не могу. По хутору всякие разговоры пошли. Говоришь — люблю, а замуж не идешь. Чего ты ждешь? — Алексей и сам понимал: она права, что не соглашается на замужество именно теперь. Но парень боялся: уйдет он б армию — навсегда потеряет ее.
— Я, Алешенька, давно тебе сказала, чего жду. А на все эти разговоры… — Она немного помолчала. — Я на них ноль внимания… Что мне разговоры? Ну, поговорят-поговорят да и отстанут. Надо ж о чем-нибудь людям говорить… Ты вот ругаешь меня, а знал бы ты, Алеша, как я соскучилась по тебе! — Параня нежно заглянула ему в глаза, приблизив свое лицо.
Алексей все еще хорохорился:
— А чего ж ты на улицу не выходишь?
— Боюсь.
— Здравствуй, Марья, я твой Яков! То на людские разговоры — ноль внимания, а то всего боишься… Ей-богу, ты за это время совсем какая-то непонятная стала.
— Да, совсем непонятная, — в тон ему проговорила она.
— Я сурьезно тебе говорю.
— А ты, стало быть, раньше и не видал, какая я есть?
— Этого не замечал в тебе.
— Напрасно… Так знай же, что я не бабьих сплетен боюсь.
— А кого же?
— Тебя.
— Меня-а?! — удивился Алексей и, отступив на один шаг, снизу вверх посмотрел на нее: не шутит ли? Она не шутила: он видел ее невеселые глаза и лицо.
— И тебя и себя боюсь.
— Это почему я такой страшный вдруг стал? — Он шагнул к ней и взял ее обе руки. Они были холодные и какие-то как будто неживые. Словно это были не ее руки.
— Не трогай меня, Алеша, — печальным голосом проговорила она. На ее густых ресницах заблестели слезы.
— Дурочка, да что же ты боишься-то? — ласково сказал он. — Ведь я такой же, какой был и раньше.
— Не трогай, — повторила Параня. — Если ты меня тронешь, я на себя руки наложу.
— Что-что?
— Руки наложу на себя. Либо вот в Безымянку брошусь, либо еще что-нибудь сделаю. — Она заплакала.
Алексей напугался, выпустил ее руки, отодвинулся к тихо плещущейся воде и словно застыл. Никогда прежде он не видел ее такой. Всегда, всегда Параня была веселой, умела на любое слово найти десяток своих. Спорить с ней было невозможно: поднимет на смех. Недаром некоторые из пожилых женщин-соседок говорили: «Зубастая девка!» А сейчас с ней происходит что-то непонятное.
Близко от берега плеснула рыба, и от всплеска расплылись по воде круги. Алексей смотрел на них. Река казалась ему бездонной. На ее ряби плавали и качались звезды. Он представил, как Параня бросится в эту воду…
А девушка жадно смотрела на его широкоскулое лицо со следами недавней драки, на его большие серьезные глаза, на непокорный чуб и тоже не двигалась.
Наверху, за невидимой отсюда дорогой, женский голос ласково выводил:
— Тпрусе-э-ня! Тпрусе-э-ня!
Девушка и парень подались ближе к вербам, спрятались в их тени. И Алексей, и Параня узнали по голосу Гулюшку. Наверно, она ищет телку-летошницу, которая забралась теперь либо к кому-нибудь в сад, либо на огород. Чего доброго, увидит их Марфушка — сразу на весь хутор растрезвонит.
Немного погодя крики послышались уже дальше, где-то за ериком, впадающим в Безымянку:
— Тпрусе-э-ня! Тпрусе-э-ня! Тпрусе-э-ня!..
Алексей и Параня снова вышли на прежнее место и опять стали: он ближе к воде, а она на дорожке, круто подымающейся в гору.
— Об одном прошу тебя, — сказала наконец Параня.
— О чем?
— Пиши мне со службы. Чаше пиши. Каждую неделю. Нет, каждый день. Будешь?
— Обязательно буду!
Она вздохнула.
— Ох, Алеша, пройдут эти два года, и как я жалеть тебя буду! — Глаза Парани вдруг заблестели, словно наполнились лунным светом, губы тронула радостная улыбка: — Зацелую тогда!
— Да, жди того времени…
— Хоть бы скорей прошли два года! — мечтательно сказала девушка. Если бы теперь можно было заснуть, а через два года проснуться… Я так бы сейчас и сделала. А через два года проснулась бы — и прямо Алешеньку из Красной Армии встречать. Как было бы хорошо!
Алексей глядел на нее и улыбался. Он все сдерживал себя. Хотелось шагнуть к ней, крепко-крепко обнять ее и целовать, целовать…
— Звездочка скатилась, — тихо сказала Параня,— кто-нибудь помер.
Не находя слов, они снова некоторое время стояли молча, счастливые, близкие и далекие.
— А ты знаешь, Алешенька, — нарушив молчание, сказала вдруг Параня. — Больше у нас под окнами не ходи.
— Почему такой запрет вышел?
— Когда я вижу тебя, скажи, как все равно мне острым ножом сердце на части режут…
— Ну, это ты обманываешь!
— Верно тебе говорю. Пожалуйста, Алеша, не ходи. Я лучше сама вот так же к тебе приду.
— Ладно, — согласился Алексей. — Ты всегда на своем поставишь.
Она боязливо оглянулась на пустынный высокий берег, который до самого гребня был залит лунным светом, и, сильно обхватив шею Алексея, вдруг крепко поцеловала его в губы и быстро-быстро побежала вверх по извилистой тропинке, вьющейся между кустами крапивы.
— Не догоняй меня! — негромко крикнула она Алексею.
В эту ночь Алексей так и не смог заснуть.
— Вот поговори с ним, Саша,— произнес Редько, указывая глазами на Ястребова.
К столу, за которым Николай читал книгу, широким шагом подошел незнакомый парень, довольно высокий, темноволосый, с зачесом назад, по-студенчески. Лицо свежевыбритое, но щеки уже отливают синевой.
— Углов,— низким голосом отрекомендовался он Николаю.
— Это секретарь комсомольской ячейки педфака, — пояснил Редько. — Рассказывай ему все, как родному брату.
— А что рассказывать? — спросил Николай, переводя взгляд с лица Афанасия на лицо Углова.
— Ел сегодня? — тихо спросил Углов.
Николай покраснел.
— Пока еще нет.
— Вот тебе четыре талона в столовую. — Углов достал из кармана гимнастерки маленькие бумажки с круглой фиолетовой печатью.
— Тут только обеды, — сказал он.
— А сам останешься без обедов?
— Я голодным не буду… Обо мне не беспокойся.
Николай вопросительно взглянул на Редько. Тот ободрил:
— Не сомневайся, бери.
Углов передал талоны Николаю.
— А завтра, — сказал он, — непременно сходи на биржу труда. Обещают студентам работу.
Николай так растерялся, что даже не поблагодарил своего нового знакомого. А Углов, пожелав успеха, отошел к группе ребят, которые стояли у окна. Он немного поговорил с ними и вышел из комнаты.
С биржой труда у Николая были связаны чувства не из приятных. Он не сомневался, что когда-нибудь получит работу, может быть, даже скоро. Но как только выходил на знакомую улицу, где была биржа, настроение сразу менялось. Он вспоминал толпу безработных, маленькое квадратное окошечко, через которое администрация общалась с безработными, как будто боялась этой ищущей дела толпы. По мере приближения к бирже чувство уверенности терялось. Появлялись мысли о том, что работы все равно не будет, и напрасно он ее ждет. Столько народу без дела, где уж тут!
«Верно, я родился неудачником,— тоскливо думал Николай. — Сережа вон и образования не имеет, а профессию себе нашел. Вот этот дворник, он лучше меня живет, потому что зарабатывает. Чистильщики сапог и те сгребают пятаки. А тут все прожито, все проел. Отцовскую пряжку за полтора рубля отдал… Дурак, попадалось счастье, давали раньше два с полтиной. — Николай вспомнил лицо паренька с черными смородинками глаз. — Он и три дал бы…
Николай был убежден: все, кто имеет кусок хлеба и теплый угол, счастливцы. О чем еще толковать? Все пустяки, была бы работа!
Он тяжело вздохнул, представив себе очередь на бирже. Но не зря же говорил Углов. Николаю захотелось поверить в удачу. А вдруг в самом деле предложат работу! Хоть какую-нибудь, хоть самую что ни на есть плохую. Быстрее зашагал он мимо бани и толкучки, хмурясь, прошел в помещение биржи, лавируя среди множества людей. Волнуясь, пробрался к квадратному окошку. Оно было открыто.
— Работу можно получить? — со страхом спросил Николай.
И вместо обычного короткого «нет», которое он привык слышать, полненькая блондинка — Николай через окно видел только ее молодое лицо — сказала:
— Вы не студент ли?
Он сунул в окошечко документы. Рука дрожала.
Прошла томительная минута, показавшаяся часом, и он услышал из окна сразу ставший волшебным голос:
— Завтра возьмем тридцать пять студентов на земляные работы. Приходите не поодиночке, артелью.
Кажется, никогда в своей жизни Николай не ходил так быстро, как сейчас. Где можно было, он бежал, не разбирая дороги, и думал об одном: он первым принесет в общежитие радостную весть. Тяжело дыша, Николай ворвался в приемник и с порога крикнул:
— Работа! Всем работа!
А потом, перебегая от кровати к кровати, к топчанам и козлам, к столам, где играли в шахматы, повторял:
— Работа! Понимаете, работа! Настоящая!
Шахматная конница застыла в момент стремительной атаки. Отдыхала королева белых, загнанная и попавшая на «вилку» вместе с королем.
Николая обступили со всех сторон.
— Где?
— Врешь!
— Смотри, этим не шутят.
Николай сел на чьи-то козлы и, глотая слова, рассказывал:
— На бирже… Тридцать пять мест… Специально студентам… Завтра… Артелью…
В тот же день студенческий профком утвердил Николая старостой будущей артели землекопов.
— Эй, староста, нарисуй там и мою фамилию, — шутя обращались к нему студенты.
Под вечер пришло двое второкурсников.
— Работа есть? — спросил один из них, тряхнув мягкими черными кудрями.
— На ваше счастье два места осталось.
— Записывай. Анатолий Балахонов. Толик, так меня называют все… Разреши отрекомендоваться: член МОПРа (международная организация помощи революционерам), кандидат в Осоавиахим (общество содействия авиации и химии), есть поручители в ОДН (общество «Долой неграмотность») и в ОДД (общество «Друг детей»)!
Он говорил это серьезно, только его черные нагловатые глаза светились лукавством.
Николай пристально посмотрел в лицо Балахонова и тихо сказал:
— Я уже тебя видел.
— Неужели?
— Помнишь того деревенского парня, которого ты в Нахичевань отправил разыскивать Сережку?
— А-а, помню! Нашел?
— Сережку-то я нашел, — серьезно проговорил Николай, — а вот о твоей злой шутке мне все потом говорили: не иначе какой-то хулиган попался. Среди рабочих такого не встретишь. А оказалось, даже студент.
Балахонов засмеялся весело и звонко, ни капельки не смутившись:
— Ну, значит, и рекомендоваться нечего.
Товарищ Анатолия, парень с бледным одутловатым лицом, с карими небольшими глазками, сухо сказал, кивнув на список:
— Павленко…
Мест больше не было, а к Николаю все шли и шли. Он отказывал. Ему неприятно было говорить слова отказа, да что поделаешь? Один раз у него особенно дрогнуло сердце. Выслушав отказ, нескладный высокий парень сказал:
— Что же делать?
В его словах, в тоне, каким он произнес их, было столько тоски, что Николай растерялся. Он смотрел на его продолговатое лицо, освещенное сильным электрическим светом, и мучительно думал: чем помочь?
— Скажи, пожалуйста, — тихо говорил парень, — сколько времени ходил на биржу, и не было работы, нынче не пошел — оказалась работа…
А Николай, глядя на него, мучительно думал: «Ведь и я в таком же положении мог бы очутиться, если бы не попал сегодня. Как же быть?»
— Знаешь что? — сказал он вдруг оживленно.— Приходи завтра на биржу. Может быть, кто из записавшихся ребят не придет, и ты займешь свободное место.
— Спасибо, обязательно приду!
Николай долго не мог заснуть. Ворочаясь с боку на бок на жестком столе, он невольно будил Редько. — Ты что? — спрашивал тот. — Не спится, дедушка.— Редько в приемнике все называли дедушкой, потому что он был самым серьезным и самым старшим по возрасту.
— Спи! — у Редько слипались глаза. Он, видимо, еще хотел что-то сказать, но не смог, заснул.
С улицы все лился и лился слабый свет фонаря.
Парень, положение которого так взволновало Николая, оказался рабфаковцем. Утром он явился на биржу, и его вместе с тремя другими струдентами включили в список, вместо четырех неявившихся. Николая очень обрадовало, что так хорошо обошлось с этим парнем.
За окраиной Нахичевани, по соседству с кирпично-силикатным заводом, на неровной, изрезанной балками и оврагами, бугристой, выжженной солнцем земле прокладывали новую шоссейную дорогу. На большой коричневато-зеленой полосе, будущей трассе, упирающейся одним концом в Дон, рассыпалась колонна строителей.
Артель Ястребова получила инструмент. Николай старательно отворачивает ломом глыбы земли. Лицо раскраснелось, ладоням жарко, мускулы напряжены. Рядом с Николаем с одной стороьы Анатолий, с другой — Павленко. Балахонов при каждом ударе выкрикивает:
— Га-а! Га-а! Га-а!
Николай слышит тупые удары лома, иногда лязг железа о камни. «Ничего, тут работы хватит на целый год, — думает он.— А главное, теперь у меня есть кусок хлеба. Остальное зависит от моих способностей и желания. Это замечательно!»
Ему казалось, что способности, как и желания человека, беспредельны, а самое главное зло в том, что им не дают возможности проявиться. Об этом он уже много думал на досуге, когда был безработным.
Николай разогнул спину, набрал в легкие побольше воздуху, провел тыльной стороной ладони по вспотевшему лбу и оглянулся на две высокие трубы кирпично-силикатного завода — корпуса были скрыты возвышенностью. Впереди, в зеленеющей лощине, на расстоянии полверсты,— несколько бараков, сколоченных из свежих досок. Там контора и инструментальная стройки, а за ними — до сверкающей полосы Дона — артели работающих людей.
Тихо, как в станице. Небо высокое, с копнами небрежно разметанных облаков, будто копнил их нерачительный хозяин.
Все работают старательно, и Николай снова начинает долбить неподатливую землю.
Один из студентов снял брюки и рубашку, остался в трусах и майке. Немного погодя в луночках и бороздах запестрели кучи рубашек и брюк, придавленных сверху камнями.
Анатолий и Николай сделали то же, что и все. У Балахонова небольшое загорелое тело. Его можно принять за мальчонку, этакого веселого, кудрявого шалуна. Николай выглядит значительно крупней.
Ястребову попался слой плотно слежавшейся породы, лом отскакивал от нее, будто резиновый.
— Не поддаешься, чертовка? Поддашься! Не поддаешься, чертовка? Поддашься! — бормотал он, нанося удары.
В лицо пахнуло чем-то знакомым. Николай нагнулся, отложил в сторону лом и осторожно сорвал травку. Это был чабрец, сухой, желтый, чахлый кустик с мелкими листочками. Николай посмотрел на него потеплевшими глазами, растер в ладонях, покрытых свежими мозолями, понюхал. Запах чабреца напомнил родную степь, курени с золотистыми соломенными и камышовыми крышами, волнующийся от ветра Ильмень, Анюту.
— Ты чего так блаженно улыбаешься? — спросил Анатолий.
— Видишь, чобор нашел.
— Какой чобор?
— Траву… У нас такая растет. На, понюхай, паху-у-чая. Николай подошел ближе к Анатолию и поднес к его лицу травку.
Анатолий понюхал.
— Хорошо пахнет, — сказал он серьезно.
— У нас много ее.
Работая, Николай рассказывает о своем детстве, об Анюте.
— Любопытно,— Анатолий улыбается.
Николай начинает высказывать все то о чем он думал в последние дни. Анатолий внимательно слушает его, продолжая улыбаться.
Вечером на Николая напустился Редько:
— Ты что же в эти дни ни разу не сходил к Сергею?
— А что?
— Обижается. Приходил нынче, принес тебе пять рублей. «Когда, — говорит, — будут деньги, отдаст». Хороший он парень, настоящий товарищ.
Через день Николай получил денежный перевод на шесть рублей от матери и брата.
В общежитие к Николаю ежедневно приходили студенты. Теперь у него была своя биржа труда.
— Работа есть?
— Есть. Приходи завтра в пять утра. Только запомни: твоя фамилия — Кузьмичев. Запомнил?
— А зачем это?
— Кузьмичев у нас выбыл. Если сообщить об этом табельщику, завтра же дадут кого-нибудь с биржи.
В середине дня табельщик проверял всех работающих, выкрикивая фимилии:
— Ястребов?
— Здесь!
— Бобров?
— Здесь!
— Кузьмичев?
Молчание.
— Кузьмичев? — громче повторяет табельщик.
Опять молчание. Ребята переглядываются.
— Нету, что ли?
— Здесь он, — отвечает Николай и, поворачиваясь к Артемову, свирепым шепотом: — Чего молчишь?
— Здесь Кузьмичев! — громко кричит Артемов.
— Что же вы, ребята, путаете меня? — укоряет табельщик.— Я два раза спрашивал, неужели не было слышно?
— Да нет, знаете, я задумался…
— Может быть, человек про щенят вспомнил, мечтает домой вернуться, — серьезно сказал Анатолий и запел:
— А может, он любимую Анюту вспомнил, — продолжал Анатолий.
Николай густо покраснел и свирепо взглянул на Балахонова, а тот, как будто не замечая его выразительного взгляда, продолжал:
— У нас тут один паренек на днях травку нашел и давай над ней плакать. Плачет и приговаривает: «Ты — моя милая, ты — моя любимая, кто теперь тебя целует?..»
— Замолчи! — крикнул Николай.
Ребята засмеялись, а Балахонов, отойдя от Ястребова, продолжал:
— Найдутся такие, которые с его Анютой там погуляют.
Николай бросился к Анатолию с кулаками, но тот был легче его и подвижней. Он смеялся в лицо Николаю веселым, заливчатым смехом и ловко увертывался, вызывая своими шутками, которые с каждой минутой становились злей и циничней, взрывы хохота окружающих.
«Подожди, ты у меня, подлец, посмеешься!» — подумал Николай и швырнул в Балахонова железную лопату. Она со свистом рассекла воздух и упала рядом с Анатолием, глубоко врезавшись в землю. Если бы он не увернулся, как раз попала бы в голову.
Общий смех сменился молчанием.
— Вот что, друзья, чтобы у вас больше этого не было.— Табельщик пригрозил пальцем и, круто повернувшись на каблуках, пошел к другим артелям.
Николай жалел, что так получилось: с Анатолием легко было дружить. Что-то подкупало в нем. Хотелось Николаю поближе сойтись с кем-либо из студентов, все-таки это свои ребята. Ему, хуторному парню, порой становилось не по себе среди очень уж, как Николаю казалось, разряженных или, наоборот, щеголяющих в тряпье непонятных горожан!.. Вот пышноволосая девушка, пестро одетая, ходит, буд то королева. У нее густо накрашенные губы, черная искусственная мушка на щеке. Как-то в его присутствии она разговорилась с другой нарядно одетой девушкой, тоже подносчицей воды.
— Я все мечтаю,— сказала она томным голосом, прикрывая большие глаза крашеными, искусно загнутыми черными ресницами.
— О чем ты мечтаешь? — спросила ее подруга, стрельнув насмешливыми карими глазами в сторону Николая.
— Меня грезы волнуют, волшебные чары.
— Это очень красиво, — с усмешкой, но в тон ей сказала подруга.
— Я в этой атмосфере задыхаюсь. Уехать бы с обольстительным молодым человеком на лазурное море.— Она повернулась к Николаю.— Прекрасный юноша, вы подслушиваете наш разговор? — В синих глазах у нее и ласка, и смех, и огонь.
— Нет, — с великим смущением поспешил ответить оторопевший Николай.— Я не подслушивал.
Когда он вернулся к своей группе землекопов, Анатолий, смеясь, спросил:
— Прогнали?
— А я и не собирался их подслушивать. Кто она, эта синеглазая?
— Проститутка, – братец, самая настоящая проститутка. От них в Ростове проходу нет. Безработица!.. Слышал я, она бывшая гимназистка. А вот там — гопкомпания,— Анатолий кивнул на группу землекопов, что обычно держались особняком, — воры.
— Не может быть! — не поверил Ястребов.
— Все на свете быть лишь может из того, что может быть, одного лишь быть не может, то, чего не может быть.
— Да ну тебя, ты всегда что-нибудь придумаешь. Так я тебе и поверил: воры…
В субботу у конторы во время получки Николай некоторое время намеренно держался возле них, чтобы проверить слова Анатолия. Да, говорили эти парни иначе, по-своему.
— Смываться пора, — задумчиво сказал паренек с черными беспокойными глазами.
— Думаешь когти рвать?
— Хватит. Липу достал, обарахлился.
— За фраера примут.
— А шпане фарт не идет…
«Может быть, и прав Анатолий, — подумал Николай.— И говорят непонятно и держатся иначе, а с каким шиком через губу сплевывают!»
В другой раз он познакомился с пожилым мужчиной, грабарем, по виду интеллигентом, с морщинистым, очень выразительным лицом.
Тот спросил Николая:
— Стихи пишете?
— Да немножко балуюсь.
Грабарь пожевал морщинистыми губами, придал лицу значительность.
— Если, молодой человек, у вас хватит терпенья наперстком вычерпать воду из колодца, то смело можете браться за литературную работу.— Голос у него разбитый, глаза потухшие, и под ними набрякли мешки. Он снова пожевал губами.— Я существо бесплодное. А у бесплодных, обратите на это внимание, молодой человек, всегда язык плодовит.— Он говорил, будто декламировал, затем переменил тон.— Деревенский?
— Из станицы.
— Назад, молодой человек, вам теперь уже нет пути: упавший лист на дерево не возвращается. Пучина городской жизни поглотит и вас, а литература — если вы начнете всерьез писать — сделает своим рабом. В лучшем случае вы будете преуспевать, но и тогда попадете в плен своих замыслов, в тенета редакторов и цензоров. А в худшем случае — вовсе потеряете веру, начнете пить и проклянете день, когда впервые вступили на городской тротуар. Тогда, молодой человек,— он кивнул на свою грабарку,— земляные работы.
Все это говорилось высокоторжественно и было Николаю ново. Ястребов даже подумал: «Такой человек — и грабарем работает».
— Вы писали книги? — почтительно спросил Николай.
— Все было. Я вкусил мед славы и узнал, как он горек! — патетически воскликнул грабарь. Он снова переменил тон: — У вас найдется копеек двадцать?
— Пожалуйста, — ответил Николай, чувствуя какую-то неловкость и поспешно опуская руку в карман брюк.
Грабарь с жадностью подхватил две серебряные монеты, в глазах его что-то блеснуло.
— Долгов, молодой человек, я никогда не возвращаю и вам этого делать не рекомендую, — как бы между прочим заметил он. Затем снова заговорил патетически: — О, я знаю горечь славы! У каждого цветка свой запах, у каждой птицы своя песня, у каждого актера свое амплуа, у каждого писателя своя тема. А посмотрите на меня, я человек без голоса, без песни, без сцены, без своей темы, без каких-либо надежд на будущее. Ныне, когда началось великое переселение народов,— он широким жестом величественно сделал полукруг,— и на сцену, в литературу, в живопись идут с фабрик и заводов, из Красной Армии и из деревень, нас, — он с горечью трагика показал себе на грудь,— на земляные работы. Но вы, молодой человек, всегда смотрите в корень. Вон река, — кивнул грабарь в сторону Дона, — что для нее главное? — Он поднял палец вверх и многозначительно произнес: — Те-че-ни-е во-ды.
Слушать его Николаю было любопытно: на хуторах и в Суходольской с такими встречаться не приходилось.
— А если вам снова попробовать свои силы? — спросил Николай.
— Это сказка про белого бычка. Я на точке замерзания, меня задушила жизнь,— он выразительно взял себя за горло.
Однажды синеглазая с черной мушкой на щеке остановила Ястребова.
— Прекрасный юноша, вы из деревни?
— Из станицы, — не подымая глаз, ответил Николай. Он чувствовал, что лицо у него горит.
— Ваше кредо?
— Что-о? — удивленно спросил Николай и невольно поднял на нее глаза.
Она негромко засмеялась, может быть нарочно, чтобы показать ровные, белые, очень красивые зубы.
— Какие у вас идеалы?
— Учиться хочу.
Николая явно тяготил этот разговор. Отвечая на ее вопросы, он думал: «Проститутка. Что могут подумать ребята? …Да черт с ними!.. Безработная, бывшая гимназистка… А красивая, никогда не допустил бы мысли, что она из этих…»
— Вы счастливей меня: я в Ростове разочаровалась, мечтаю уехать на юг, на море лазурное.— Она играла глазами, синими, тоже лазурными, наверное, такими же, как цвет моря, которого Николай никогда не видел. «Вот взять бы и уехать с ней в солнечные края, к кипарисам, к Черному морю!..»
Пожилой грабарь видел, как Николай разговаривал с этой девушкой. Улучив момент, он подчеркнуто трагическим голосом шепнул парню:
— Молодой человек, берегитесь красавиц! Это — дамоклов меч. Вы можете проделать сизифов труд, но красавица всегда найдет у вас ахиллесову пяту, и вы погибнете. Здание, что годами будете воздвигать, в одночасье рухнет и под своими обломками погребет вас…
Впоследствии Николай узнал: старик грабарь когда-то был актером, но спился. Он еще не один раз брал у Ястребова по двадцать — тридцать копеек: больше, видимо, не осмеливался просить. И всякий раз Николай давал ему деньги с чувством какой-то боли, будто сжимающей сердце.
Анатолий тоже видел Николая разговаривающим с синеглазой. Он посмеялся:
— В гости приглашала?
— Нет! — испуганно ответил Николай.
— В следующий раз непременно пригласит. Здесь все разыгрывается, как по нотам. Парень ты приглядчивый, она тоже ничего бабочка, подходящая. Но, я бы шефства над ней не взял. По-моему, культпоход нужно объявить к другим девушкам…
Николай на земляных работах сошелся с Балахоновым, он не сомневался, что это парень живого ума и неистощимой энергии. И вдруг этот нелепый случай: запустил в товарища лопатой!.. И конечно, не только цинизм Анатолия взорвал Ястребова, была тут другая, более серьезная причина. Когда Николай вспоминал об Анюте, всякий раз его что-то тревожило. Особенно неприятно было то, что она работает с Кондратом Сухоруковым. Николай даже мысли не допускал, что у нее может быть что-то с этим однокурсником. Но он понимал, что Сухоруков не упустит случая, попытается ухаживать за Анютой… Тут Анатолий Балахонов со своим цинизмом попал в точку.
Два дня Николай и Анатолий не разговаривали, а потом все пошло по-старому. Балахонов по-прежнему шутил и в общежитии, и в трамвае, и на земляных работах. Ребята ожидали от него шутки даже тогда, когда он просто почесывал веко. У него все выходило как-то по-особенному, оригинально и смешно. Копая землю, он говорил, что Павленко из беспризорных, и предупреждал:
— Ты смотри, лишнего при нем не болтай — он председатель стипендиальной комиссии и непременно скажет: «Ага, дядя у Ястребова середняк, а сам он пастух. У всех дяди середняки и все сами пастухи. Наверно, и табунов столько никогда не было, сколько теперь пастухов». Он такой парень, подкопается…
Иногда в разговоре Балахонов, понижая голос, осторожно касался Анюты:
— Хороша?
— Лучше — никого нет, — убежденно говорил Николай.
— Пропащее твое дело.
— Почему?
— К такой не подступишься. Ты ее любишь, при встрече с ней, наверное, несешь какую-нибудь ахинею или дико молчишь. А с женщиной нельзя молчать и говорить надо вдохновенно. Вот я им столько наговорю, что в трех коробах не унесешь, мне всегда поверят.
— Но это же не любовь.
— А черт его знает! Думаешь, твоя болтовня о Дульцинее с хутора Роднички — любовь? Пустое. Возраст сказывается.— Анатолий усмехнулся.— Любопытно бы посмотреть на тебя. Наверное, больше вздыхал да со стороны глаза пялил.— И он начинал поучать, как Николаю следовало бы действовать.
— Толик, — прервал его Николай.
— Что?
— Лопатки не пожалею.
— Дурачок, я же тебя просвещаю.
— А лопатки все-таки откушаешь.
В первые дни работы под солнцем Николай страдал от ожогов, даже вазелин не спасал. Зато спустя месяц он потемнел, как мулат. Только зубы да белки глаз блестели. Чуб и тот выгорел, вылинял.
Несложная техника давно освоена. В этом помогли более опытные рабочие из соседней артели. С одним парнем из этой артели, татарином, Николай познакомился довольно близко. Татарин Газиз работал усердно, мечтал стать дрогалем и жениться на русской «бабе». Сблизился Николай с Газизом в тот день, когда десятник неправильно учел работу соседей. Те засомневались и обратились к Ястребову, чтобы он разобрался и решил спор. Николай с карандашом в руках доказал десятнику, в чем тот ошибся.
— А-а, обсчитывать нас! — бросаясь к десятнику, закипел Газиз.— Сейчас мой лопатка твой голова будет!..
До драки дело не дошло, но с того часу Газиз к Николаю относился с нескрываемой симпатией и уважением. Да и со многими другими рабочими на строительстве познакомился Николай.
Теперь он безбоязненно бегал по узкой доске с грохочущей тяжелой тачкой, ловко отбивал глыбы породы, зная, где и с какой силой ударить ломом, в какую почву войдет лучше лопата или кирка. Работал он с увлечением, лишь изредка позволял себе закурить.
Быстро была забыта недавняя безысходная нужда. Николай защеголял в новых брюках и ботинках. С детства приученный к бережливости, он не расходовал зря и копейки. На толкучке купил поношенную солдатскую шинель и отдал ее перелицевать. Матери и братьям послал гостинцы и, кроме того, почтовый перевод на огромную сумму — десять рублей. В письме он просил мать и Алексея купить винограду для Степы.
Возможность послать гостинцы и перевод очень обрадовала Николая. Он представлял, как мать и братья получат деньги и посылку, сколько у них будет хороших разговоров о нем, как соседки будут завидовать матери, как они станут говорить ей: «Должно, и правда твои сыны не бросят тебя. Видишь, какой — сам, поди, не съел, а сюда прислал».
В часы досуга и в выходные дни Николай, уединившись, читал книги или писал стихи.
На втором этаже главного здания университета, возле дверей актового зала, в полутемном коридоре ходят группами юноши и девушки. У многих радостные лица. Голоса и смех звучат как-то особенно приподнято. Но кое-кто мрачен. У доски объявлений — толпа. Николай, работая локтями, пробрался к спискам. С волнением он пробежал глазами фамилии тех, кто зачислен в университет. Попадались имена знакомых ребят, работавших с ним в артели землекопов, товарищей из приемника. На букву «я» в списке очень мало людей. Ястребова там не было.
«Не приняли,— горько подумал Николай, и у него похолодело в груди.— Ну, вот и все…». Но разве он виноват, что в педтехникуме был плохой преподаватель по физике? «Э, да разве в этом дело! — Николай с яростью кусает губы.— Я эту физику перед экзаменами изучил не хуже многих других. Просто растерялся, а задача попалась дурацкая — и завалился».
От списков Николай отошел с мрачным выражением лица.
— Здорово! — весело воскликнул Редько.— Ты что это такой невеселый?
— А чему же мне радоваться? — зло спросил Николай, взглянув на свежевыбритое веснушчатое лицо друга.— Пусть другие радуются.
— Так ты не нашел себя в списках? — изумился Редько.— Эх ты, шляпа! Пойдем.— И он потащил Николая к доске объявлений.
Николай упирался.
— Нет меня там…
— Тебе говорят, пойдем! Ты принят.
У Николая остановились глаза.
— Да что ты на меня уставился, как баран на новые ворота!— кричал Редько.— Принят, говорю тебе, принят! Вот смотри сюда. Ну, видишь?
— Так это же «дополнительный список»…
Редько захохотал.
— А тебе не все равно? Вот чудак!
— Да, это все равно, — согласился Николай, удивляясь, что в такой момент они говорят такие обыкновенные слова.— А я и не подумал про «дополнительный»…
Низенький на своих култышках, Редько хлопнул его ладонью по спине, хотел хлопнуть по плечу, но не достал.
— То-то, брат, а ты нос повесил. Теперь пойдем в канцелярию по студенческим делам, получим справки о зачислении. Студенты! — Редько ликовал.— Понял, Николашка? Теперь мы с тобой студенты университета! Настоящие! Я еще на фронте, когда беляков бил, мечтал об этом вот дне. Понял?..
Николай широко и глупо улыбался. Он хотел сказать, что тоже давно мечтал об этом дне, но все слова показались ему в эту минуту какими-то незначительными и пустыми, и он ничего не сказал, а только улыбался. «Песню бы теперь запеть. Широкую, просторную, да так громко, чтобы на весь мир!»
От главного здания университета до канцелярии — каких-нибудь двести саженей. Но Николаю это расстояние кажется огромным. Тут надо бы, на крыльях лететь, а с безногим Афанасием разве скоро дойдешь!
Наконец справка получена. Николай несколько раз перечитал ее. Да, теперь уже нет сомнений: он — студент. В справке говорилось, что Ястребов зачислен на литературно-лингвистическое отделение педагогического факультета Северо-Кавказского государственного университета. Николаю незнакомо слово «лингвистическое», но оно чем-то его трогает.
«Теперь напишу письма своим, Василию Марковичу и в ячейку, Анюте напишу!» — думает Николай.
Редько понимает, что его друг витает где-то в облаках, и не донимает его вопросами, хотя ему до крайности хочется поговорить.
— Пойдем в приемник? — предлагает он.
— Пойдем.
— Может, выпьем по случаю такого праздника?
Продолжая думать о своем, Николай машинально отвечает другу:
— Выпьем.
Из канцелярии по студенческим делам они вышли вместе с двумя другими счастливчиками. Вечером забрели в какой-то полуподвальчик на Буденновском проспекте. Румяный, круглолицый, небольшого роста армянин что-то говорил Афанасию Редько и тем двум счастливчикам, оказавшимся здесь же. Ему отвечали. Николай не вслушивался. Он продолжал думать о своем и радоваться: «Почему же все-таки приняли, несмотря на физику? Возможно, произошла какая-нибудь ошибка».
Только на другой день после своего зачисления Николай узнал от одного из членов приемной комиссии (представителя от студенчества), что своему счастью он обязан отличной письменной работе по литературе. Было принято во внимание и прошлое Николая: батрак, с пятнадцати лет участник гражданской войны…
И Редько, и два других парня, что-то весело говорившие, и компания за соседним мраморным столиком, и очень подвижной, в коротком белом халате армянин, и бочонки, из которых он наливал вино, и запах и шипенье поджаривающегося шашлыка — все было для него необычно, все волновало.
Только подумать: отец и мать были неграмотными, а он студент! Впереди его ждет заманчивое будущее, о котором он столько мечтал.
От этих дум его отвлек громкий возглас:
— Товарищи студенты! Не отметить такого случая нельзя.
Николай согласился:
— Нельзя
И его переполнила радость: «Я студент!» Он глядел на людей за соседним столиком, на своих товарищей и повторял про себя: «Студент… Студент! Добился! Свершилось!» Виноградное вино пил машинально. Вдруг поймал себя на том, что силится сказать одно, а с языка невольно срываются другие слова, в которых так и звучит радость. Хотелось петь, кричать об этой радости.
Из полуподвальчика ребята направились в общежитие, а Николай — к Сергею. Хотелось поделиться своей радостью с ним и его родными. Шел по улице, и казалось, что все — люди, дома, автомобили, трамваи — приветствует его, улыбается ему. Николай тоже улыбался. Сейчас он выглядел большим мальчишкой — скуластым, загорелым, обветренным, с чубом, выбившимся из-под новой фуражки. Мальчишка с голубыми глазами, светящимися радостью. Нет теперь на земле человека более счастливого, чем он.
Сентябрьское утро. Воздух чист, прозрачен и сух. К серому зданию университета по тротуару идет молодежь. Студентов легко отличить от других людей. Идут они с книгами в руках, разговаривают громко, смеются, будто они везде дома.
С особенным чувством, как победитель в завоеванную крепость, входит Николай в главное здание университета. Это здание кажется ему лучшим во всем Ростове. И сознание, что это его университет, делает Николая в собственных глазах чуть ли не героем. Он слышит счастливые голоса:
— У вас первая лекция в какой аудитории?
— Литераторы, на четвертый этаж!
«Лекция, — думает Николай, приостанавливаясь возле бездействующего лифта. — Я иду на лекцию, а не на урок! Я, как все другие, студент». Он гордо и независимо подымается по широкой лестнице; на нем совершенно новые полушерстяные темно-синие брюки, приятно поскрипывающие желтые ботинки; в руке — две толстые тетради для записи лекций, в кармане гимнастерки торчат, как газыри, новые карандаши. Студент!..
Волнения первых дней — зачислят или не зачислят нэ стипендию, переселение из приемника в студенческую комнату — все это промелькнуло и исчезло быстро, как сновидение. Теперь каждый день одинаков: с утра — лекции, вечером — «читалка».
Никого не пугала пятнадцатирублевая стипендия. Многие жили по пословице: «Одна голова не бедна, а коли бедна, так одна». Если есть полтинник, значит, будет курево, хлеб и сахар — чая студенты никогда не покупали. Если есть рубль, значит, можно пойти в кино или в театр. А завтра… Что завтра? Будет день, будет и пища. Обед обеспечен в студенческой столовой, а на завтрак и ужин, может быть, удастся занять где-нибудь десять—пятнадцать копеек. В крайнем случае, день-два можно обойтись без завтраков и ужинов… Зато не бывало такого хорошего спектакля или кинокартины, которых большинство студентов, особенно живущих в общежитии, не посмотрело бы.
Ястребова избрали заместителем старосты первого курса и членом предметной комиссии русского языка и литературы. Этому предшествовал разговор с секретарем партийной ячейки Самойловым.
Вечером Редько сказал Николаю:
— Завтра в восемь часов утра зайди в партбюро.
— Это зачем? — По усмешке Редько Николай видел, что тот знает, в чем дело. — Ну?
Афанасий махнул головой.
— Там увидишь…
В партбюро за широким столом, покрытым красной к скатертью, Николай увидел мужчину лет двадцати восьми, с рябым лицом, одетого по-военному. Это и был Самойлов, секретарь партийной ячейки педагогического факультета. Когда он встал навстречу Николаю, то оказался на целую голову выше его.
— Садись, товарищ Ястребов, — сказал он, подавая широкую ладонь и указывая глазами на стул. — Я давно хотел поближе познакомиться с тобой. Как принимаешь городскую жизнь?
— Понемногу привыкаю.
Самойлов сказал, что и сам он деревенский, в восемнадцатом году впервые увидел паровоз.
— А теперь вот знаю город, как свои пять пальцев. Чуть не на всех заводах побывал. — Он говорил с улыбкой, просто. Стал рассказывать, как приехал в Ростов, как осваивался со студенческой жизнью. Говоря о городе, он называл крупнейшие предприятия — Ленинские мастерские, табачную фабрику, завод «Красный Аксай», где, по его словам, выковывались стальные кадры рабочего класса.
«Но ведь не за тем же он звал, чтобы рассказывать мне о стальных кадрах? Что-то он таит пока», — думал Николай.
После очень запомнившегося разговора с секретарем горкома комсомола, которого Николай тогда мысленно обозвал фон-бароном, и многочисленных безуспешных хождений по кабинетам некоторых ответственных работников он теперь не смог сразу довериться Самойлову, как в Суходольской безоговорочно доверился бы секретарю партийной или комсомольской ячейки.
Заложив руки за спину, Самойлов прошелся по комнате и остановился перед Николаем.
— Ну как, хватил горюшка, пока безработным был? Нынче трудно живем. Только знай: не нэпманы и не безработица определяют нынешнюю жизнь города. Это, считай, перевернутая страница истории. Безработице скоро крышка, а нэпманов мы укоротим.
Николаю было приятно слышать эти слова: Самойлов говорил то, что думал и сам Ястребов. «Но не за этим же только он меня пригласил сюда, чтобы поговорить о текущей политике?» — задавал себе вопрос Николай, глядя на внимательные, ласковые и вместе с тем изучающие серые глаза Самойлова.
— Ты наш человек, — закончил Самойлов.
«Ага, кажется, теперь скажет о главном», — подумал Николай, подвигая стул ближе к столу.
— Мы рекомендуем тебя в старостат первого курса и в предметную комиссию…
И Самойлов стал рассказывать Николаю о том, какие в университете профессора и преподаватели, «кто чем дышит».
Николай слушал с интересом. Он не знал профессоров и представлял их какими-то особенными людьми, непохожими на простых смертных. В последние дни некоторых из них он видел за кафедрой, да разве их так сразу поймешь?
Николай знал по собственному опыту, как идет классовая борьба в станице. Но у него и мысли не возникало, да он об этом ни от кого и не слышал, что в профессорско-преподавательской среде тоже идет классовая борьба, что некоторые из профессоров говорят одно, а думают совершенно иное. Сообщил Самойлов и о социальной пестроте студенчества. Но тут Николаю не требовалось длинных объяснений. Эту «пестроту» он уже сам успел заметить.
— Как видишь, положение очень сложное, — подытожил беседу Самойлов. — Ухо надо держать востро. Ну, желаю успеха.
Николай поднялся.
— Ты был неплохим организатором студенческой артели, — задержал его Самойлов. — Постарайся справиться и с этим поручением.
Николай снова ощутил крепкое рукопожатие.
«Значит, борьба везде», — думал он о профессорах, быстро шагая из университета к общежитию.
Скоро Николаю пришлось убедиться, что Самойлов был прав.
К лекциям Николай готовился обычно в квартире студента Владимира Добровольского, с которым сошелся в первый же месяц учебы. Во время занятий шумно спорили, много курили.
Добровольский нравился ему независимостью суждении и тем, что он много знал. Николай всегда завидовал образованным людям, пытливым, ищущим.
У Владимира была своя хорошая библиотека, а Николай больше всего любил книги: он мало обращал внимания на то как одет человек,- это пустяки, а вот книги – богатство. Еще подростком ради хорошей книги он ходил к ее владельцу иногда за много верст.
С Добровольским Николай часто встречал черноглазую девушку Таню, тоже студентку первого курса. Таня нравилась Николаю может быть потому, что в ее лице было какое то сходство с Анютой. Но еще и потому он относился к ней с особенным вниманием, что она была дочерью доцента Моисейченко, который так помог Николаю при поступлении в университет. Улыбка и голос Тани всякий раз вызывали в его памяти улыбку и голос ее отца. Благодарное чувство к доценту Моисейченко он невольно переносил и на дочь. Таня ему казалась такой же простой, общительной, внимательной к людям, как и Михаил Васильевич.
Николай по-хорошему завидовал Добровольскому: счастливец, дружит с такой девушкой! Но в этой зависти не было чувства ревности. От него Николай был застрахован: он любил Анюту.
Одна черта не нравилась Николаю в Добровольском. В спорах насмешливая улыбка не покидала его тонких губ, искрилась в желтых близоруких глазах под стеклышками пенсне. Раздражали его самоуверенный голос Владимира и игра словами.
Однажды Добровольский перевел разговор на модную в то время тему: будет ли искусство при социализме, и заявил, что, по его мнению, не будет.
— Не будет? — переспросил Николай.
— Не будет, говорю, искусства при социализме.
— Как же так?
— А так: с ликвидацией частной собственности исчезнет и частная инициатива, а без частной инициативы какое же искусство? — И Добровольский стал развивать мысль о том, что люди в коллективе теряют индивидуальность.
— Ты это всерьез?
— Вполне. — Но дальше он стал говорить, что все это, в конце концов, относительно, его слов о будущем искусства нельзя понимать буквально, во многом трудно разобраться.— Я согласен с Монтэнем. Почем я знаю? — громко, с отчетливой интонацией превосходства продолжал Добровольский. — И потом скажите, в каком произведении Маркса вы читали, что искусство будет при социализме?
— Да это же само собой понятно, — проговорил Николай уже не так решительно.
— Нет, вы скажите, из какого произведения это видно? — не унимался Добровольский.
— Из всего учения Маркса! — выпалил Николай. — «Издевается»,— подумал он просебя.
— Поконкретней, истина всегда конкретна. Где и в каком произведении говорится об этом? Не знаете? Не помните? Тогда не полемизируйте.— Он сдержанно засмеялся, смягчая смехом прорвавшуюся наружу злость. Усмешка кривила углы его тонких губ. — Я эмпирик и эгоист, я верю только в свой опыт, в свои знания! Вот мой принцип.
Добровольский часто говорил так, что трудно было понять, где у него злая ирония и где он просто серьезен. Тем более трудно было разобраться в этом Николаю, никогда не участвовавшему в таких спорах
«Зачем он пригласил меня? Чтобы поиздеваться?» — думал Николай, оглядывая комнату, заставленную множеством вещей, назначения которых он иногда и не знал и которые одним видом своим сейчас возмущали его.
— Эгоизм — это твое убеждение? — спросил Добровольского Павленко, выбивая ладонью из мундштука остаток папиросы.
Добровольский лукаво подмигнул в ответ. Это не ускользнуло от Николая. С нарастающей ненавистью он глядел теперь на пианино, на книги и цветы, на бледное, изнеженное лицо Добровольского, на его шерстяной модный костюм, на сложную прическу. Все раздражало его.
— Экзамен устраиваешь? — крикнул Николай и так крепко ударил по спинке венского стула, что тот затрещал.— Диалектику я и без тебя сумею изучать! — и вышел из комнаты.
— Обиделся. За что? — Добровольский пожал плечами.— Я пошутил, а он вдруг хлопнул дверью.
Павленко молчал.
— Даже пошутить нельзя, — ноющим голосом продолжал Добровольский. Он хотел унизить Николая, но такого результата не ожидал. Резкость Ястребова его испугала, однако Добровольский старался не показать этого.
Павленко встал.
— Хороши шутки, нечего сказать!
И, не прощаясь, вышел.
Николай долго еще не мог успокоиться. — Что же я ему не сказал об освобождении личности при социализме? Дурак! — Он хлопнул себя по лбу. — Разве об этом не говорится в «Манифесте Коммунистической партии»? Дура-ак! — еще раз повторил Николай.
— Это ты кого ругаешь?— спросил его Саша Углов.
— Себя.
— Это можно, — разрешил Углов.
— Heт, ты представь, Саша, сколько еще осталось такого народа! Били-били их во время гражданской войны, а они опять из всех щелей, как тараканы после побелки, выползают.
— В чем дело? Что тебя так взволновало?
Николай рассказал о столкновении с Добровольским.
— Мне Самойлов говорил, но теперь я и сам увидел: старая интеллигенция ненавидит нас, и из молодых кое-кто туда же тянется!— горячо закончил Николай.
— Это ты о всех старых интеллигентах?
— Все — один черт.
— И профессора?
— И профессора.
— И Моисейченко тоже?
— Ну, Моисейченко — другое дело. — Николай сбавил тон, — это, знаешь…
— Но он же интеллигент! — продолжал пилить Саша, — Интеллигент. Но это другое дело. — Николай старался как-нибудь выпутаться из трудного положения, а перед глазами все еще стоял Добровольский и в ушах звучал его голос.
— На попятную пошел? — насмешливо произнес Степанюк, один из жителей комнаты.
Слов у Николая не находилось. Он видел: Саша улыбается, Степанюк смотрит на него задумчиво и испытующе.
Столкновение с заведующим литературно-лингвистическим отделением университета было значительно серьезнее. Случилось оно вскоре после ссоры с Добровольским.
Николай и Редько только что вошли в аудиторию. Из окон была видна мельница со снегом на крыше. На фоне ее красных корпусов по-зимнему белели деревья. Эта мельница теперь хорошо знакома Николаю. На ней работают грузчиками десять студенческих артелей. Каждой артели приходится работать раза три в месяц. В одну из них входит и Николай.
Окна аудитории плотно закрыты, и поэтому здесь тихо.
Только изредка, как от подземных толчков, слегка вздрагивает все здание — это проходят мимо грузовые автомашины.
К аудитории примыкает кабинет заведующего отделением Валентина Евгеньевича Калганова. Влево от двери в кабинет возвышается профессорская кафедра. Ближе — скамьи и некрашеные столы. За одним из первых столов сидит Добровольский. Перед ним — мохнатое кепи и раскрытый блокнот. Заметив Добровольского, Николай старается смотреть в другую сторону.
Вот в аудиторию тяжелой походкой вошел Валентин Евгеньевич. Он кивком головы поздоровался со студентами, прошел к кафедре и, втянув в широкие ноздри воздух, ядовито сказал:
— Чем это у нас пахнет?
Один из студентов встал и открыл форточку. В аудиторию ворвалась уличная многоголосица.
Валентин Евгеньевич — толстый старик, с желтым, сухим, почти обнаженным черепом. Лоб его исчерчен крупными синими венами и глубокими морщинами. Старческим полунапевным голосом он начал читать третью часть «Песни про купца Калашникова».
Он перевел дыхание. Затем, прикрыв глаза щитком маленькой сморщенной желтой руки, продолжал читать:
Николай слушал, и ему казалось, что над головой уже нет потолка. Он видит перед собой Москву-реку, Кремль, утро, кулачный бой. В кулачных боях он участвовал, пока не стал комсомольцем.
Профессор был мал ростом, с огромной бородой, с сердитым и вместе с тем грустно-усталым лицом. Темно-синие очки и большой живот, что-то и величественное и комическое в осанке, и его манера читать нараспев — все было необычным.
Профессор увлекся. В такт своим словам он постукивал маленьким сморщенным кулачком по кафедре, забыв о слушателях.
Николай тоже увлекся и перестал замечать окружающее, хотя в аудитории перешептывались. Обладатель часов подавал сигналы пальцами, показывая, сколько осталось минут до перерыва.
Но вот наступил перерыв. Николай машинально пошел к выходу. В ушах еще звучали заключительные слова профессора. Его остановил один из студентов. Он показал глазами на Добровольского:
— Видишь?
Добровольский боком, осторожно ступая, входил в кабинет Валентина Евгеньевича.
— Думает ученым быть, — прололжал студент. — Уже и теперь перед товарищами заносится!
Николай представил себе, как заносчивый Добровольский будет говорить с Валентином Евгеньевичем — понимающе улыбаясь и ловя каждое его слово. Всплыла старая обида. Николай нахмурился.
Словно из-под ног ребят вывернулся Редько.
— Ты что такой надутый? — спросил он Николая.
— На Добровольского, — пояснил словоохотливый студент.
— Напрасно ты, Николай, так смотришь на него, — проговорил Редько, глядя снизу вверх в лицо друга.
— Напрасно?
— Он говорил мне, что пошутил.
— Так не шутят, — возразил Николай. — Они презирают нашего брата. Да и профессор нас не особенно жалует. Знаний у них, конечно, больше. Но надо учитывать не только знания, но и направленность человека.
Редько с хитрецой улыбнулся.
— Возможности и у тебя большие: университетская библиотека достаточно богата. Надо трудиться, а не философствовать. Понял? — Редько весело подмигнул студентам. Был он ниже всех ростом, казалось: его поставили за что-то на колени, а он все-таки не унывает.
Николай не собирался спорить с ним, но было досадно, что человек говорит совсем не то, что хотелось бы слышать от него.
— Не знаю! — горячо возразил он. — Добровольский умеет показать свое превосходство в знаниях, но это не заставит меня отказаться от мысли, что он не только в споре, а и в жизни противник! Противник всего, за что мы боремся.
— Определенно! — вставил Павленко, присутствовавший при столкновении Николая с Добровольским.
— А вот Редько не хочет этого понять, — повернулся к Павленко, ища поддержки, Николай.
— Добровольский идет, — заговорщическим тоном сообщил один из студентов.
Николай хотел уйти, но его остановил Редько:
— Подожди.
Николай отвернулся и стал сосредоточенно разглядывать орнамент, как будто это очень занимало его. В коридоре пел хор:
Николаю хотелось присоединиться к поющим.
«Черт рыжий», — мысленно ругал Николай Афанасия и за то, что тот держал его здесь, и за то, что все эти дни настойчиво старался примирить с Добровольским. Вот и сейчас Владимир подошел с улыбкой, и Редько подмигнул ему, указывая глазами на Николая.
— Видишь…
Добровольский утвердительно кивнул, легонько взял Николая за локоть и заговорил приятельским тоном.
— Ты на меня сердишься? — спросил он.— Напрасно. Я тогда неудачно пошутил, а ты чересчур погорячился.
— Я не на тебя обиделся, а на себя, — ответил Николай. — Знал, что ты не прав, но мало у меня знаний…
Добровольский терпеливо выслушал.
— Говоришь, не обиделся, а вижу — обиделся. Я же отлично понимаю, что ты в этом не виноват. Условия твоей жизни из нас не всякий выдержал бы. Но у тебя богаче жизненный опыт.
Николай посмотрел в лицо Добровольскому, в его глаза. В них не было и тени насмешки, а в голосе чувствовалось искреннее сожаление.
«Что ж, — думал Николай, — может быть, Редько прав. Добровольскому, как потомственному интеллигенту, трудно к нам подойти. И Саша говорит, что я не прав,— вспомнил он слова Углова. — Добровольский — сын крупного инженера. Он не виноват, что у меня была иная жизнь, чем у него. Надо по-человечески рассуждать».
Владимир Добровольский продолжал говорить, ища примирения. Несколько слов сказал и Редько. Николай смягчился и под конец сдался. Редько был рад состоявшемуся примирению.
Раздался звонок. В аудиторию хлынули студенты. Снова вошел Валентин Евгеньевич. Добровольский сел рядом с Николаем.
Хотя Николай помирился с ним, все же ему было неприятно, что он сел рядом. Ястребову не нравилась прическа Добровольского, его синий шелковый, ловко повязанный галстук. Была тут и другая причина: он все еще не мог согласовать доводов Редько и сегодняшних слов Добровольского с тем впечатлением, какое вынес из ссоры с ним.
Валентин Евгеньевич начал рассказывать об эпохе Ивана Грозного, отраженной в «Песне». Фактов он знал бесчисленное множество, говорил свободно, легко, как будто сам жил в то время.
До революции Валентин Евгеньевич Калганов был профессором Юрьевского, затем ректором Варшавского университетов. Он читал студентам курс философии. Калганов в начале своей ученой деятельности особенно много работал над Кантом и неокантианцами, позже его захватил Гегель, и особенно его ученики, разрабатывавшие не социальные проблемы, а преимущественно морально-этические. По мировоззрению старик-профессор был убежденным идеалистом. Вполне понятно, что материалистической философии он читать не мог, а после Октябрьской революции никакая другая философия, кроме материалистической, в советских вузах не преподавалась. И Валентин Евгеньевич стал читать русскую литературу и народную словесность.
С первых же слов профессора Николай забыл о ссоре с Добровольским.
«И когда он столько умудрился прочитать? — с удивлением думал Николай о профессоре. — Какими способами работают ученые? Неужели так же, как все мы? Нет, наверно, у них есть особая система занятий».
А Валентин Евгеньевич, до того читавший лекцию старческим, надтреснутым, грустным голосом, вдруг заговорил с желчным раздражением, язвительно.
— Михаил Юрьевич был нечистоплотен, — сказал он и принялся смаковать анекдотические случаи из жизни Лермонтова.
Николай побледнел и, не задумываясь, крикнул:
— Неправда!
Профессор сделал вид, что не слышал его возгласа и продолжал:
— Его нечистоплотность…
— Это грязные выдумки, — громко выпалил Николай и встал.
Стало тихо.
С открытым ртом профессор уставился на Николая. В глазах его было изумление. Редько дергал друга за полу шинели, пытаясь усадить.
Николай отстранил Редько, а Добровольский сам отодвинулся далеко в сторону.
— Как вы смеете порочить это имя?
Многие студенты вскочили с мест. Николай быстро вышел из аудитории.
«Исключат… Черт с ними!» — думал он, шагая по коридору.
Профессор посерел и стал молча ходить взад и вперед перед кафедрой, пальцы его то сжимались, то разжимались.
— Да, так-то, да, так-то…— заговорил он скороговоркой. Затем вздохнул, безнадежно махнул маленькой рукой, его сморщенные тонкие пальцы дрожали. Но лекцию Калганов продолжил, как если бы ничего и не случилось. Даже еще один анекдот о Лермонтове рассказал.
Николай ждал Редько у мраморных колонн возле парадной двери. Подмораживало. Под ногами прохожих хрустел свежий, выпавший утром снег. Николай с грустью смотрел на серое, кажущееся очень высоким на белом снегу здание университета и думал: «Вот стал студентом, а удержаться не сумел. Теперь меня исключат, но нельзя же терпеть такие вещи!..»
Гудя, промчался трамвай, проехали легкие санки, прошел старик в дубленом тулупе. Николай проводил взглядом и трамвай, и сани, и старика. «Казак, наверно, — решил о нем Николай.— Да, вот и столкнулись. А зачем он порочит гения?»
Как только закончилась лекция — она была последней,— Ястребова со всех сторон обступили однокурсники.
Николай ничего не говорил, не отвечал на вопросы. Он глядел на широкие двери, через которые выходили студенты, и нетерпеливо ждал Редько. «Нескоро он сойдет на своих культях с четвертого этажа», — думал Николай, представляя себе, с каким трудом Редько спускается со ступеньки на ступеньку.
Но вот наконец и он. Глухо застучали его култышки, и он вошел в разомкнувшийся круг студентов-однокурсников. Лицо невеселое, глаза невольно щурились от сверкания снега, и потому стали заметнее морщинки. Взглянув исподлобья на Николая, Редько остановился, ничего не сказал и пошел дальше. Николай догнал его.
Если бы Редько не молчал, Ястребов стал бы защищаться, спорить. Но молчание друга еще больше расстраивало и угнетало Николая.
— Валентин Евгеньевич с лекции не ушел?
— Он не такой дурак, как ты.
— Но я не вытерпел! Нельзя же глумиться над Лермонтовым! Его достаточно травили и при жизни, как же можно терпеть это издевательство теперь?
— Полегчало?
— А как тебе кажется? Пусть и он почувствует: не все так думают о Лермонтове, как он.
Редько понимал Николая. Он знал, какие чувства заставили его так резко выступить против Валентина Евгеньевича. Он был согласен, что профессора надо одернуть, но не одобрял метода. Он обвинял и себя, что до сих пор не поставил через ячейку вопрос перед деканом о лекциях Калганова, хотя и сам иногда возмущался некоторыми высказываниями профессора.
«Дурак ты, дурак, — про себя ругал он Николая.— Жалко мне тебя, черта. Кабы я не знал тебя, а то ведь вижу насквозь. Ну что теперь будем делать? Профессор потребует твоего исключения из университета, другие поддержат».
— Эх, умник! — сказал Редько. — У тебя голова-то на плечах есть? Надо брать из лекций только то, что необходимо. Понял?
— Погорячился я…
— Погорячился! Что профессор тебе — однокашник, что ли?
Молча перешли трамвайную линию.
— А ты думал о том, что ты комсомолец, что Самойлов дал тебе поручение? — спросил Редько.
— Знаешь, дедушка, я в этот момент забыл обо всем, все вылетело из головы…
— Эх, ты! — Редько хотел еще что-то сказать, но замолчал: их догнал Добровольский.
Николай с досадой посмотрел на Добровольского: хотелось поговорить с Афанасием один на один. Внутри еще жило чувство неприязни к Добровольскому. В такой момент он был лишним.
Добровольский сочувственно-грустно взглянул на Николая, потом спросил Редько:
— Как думаешь, что теперь будет?
— Кто его знает? Наработал! — строго сказал Редько.— Да и профессор тоже… Взять хотя бы факты из биографии Лермонтова. Верные факты? Верные. Но главные ли они в жизни поэта? Нет, они случайные. Мне жаль Валентина Евгеньевича. Он очень ценный человек, увлекается работой, эрудиция богатейшая. Но как посмотришь… Даже и сказать трудно, чем объясняется этот его своеобразный нигилизм?
— Не надо обращать на это внимания, — проговорил Добровольский.
— Внимание-то надо обращать, понял? Но чем объяснить? Может, желанием щегольнуть острым словцом перед пролетарскими студентами? Возможно, в этом, по его мнению, заключается народность? А с профессорскими причудами надо бороться умело. Необходимы спокойствие и организованность.
— Спокойствие и организованность — очень хорошие вещи. — Николай замедлил шаг. — Но всегда ли нужно быть спокойным? Почему ты молчал? Почему? Калганов ведь не первый раз рассказывает пошлые анекдоты, а все слушают и молчат. Где же ваша организованность? Меня возмущает это равнодушие. Вот именно — равнодушие, — обрадовался Николай найденному слову. — Пусть я не прав, но я действую, я не равнодушен.
— Уже надействовал. — Редько махнул рукой. — Разве Валентин Евгеньевич плохо сегодня читал лекцию?
— Хорошо… А анекдотики — это тоже хорошо?
Редько вздохнул.
— Попробуй теперь разберись: один оскорбил Лермонтова, другой — профессора. Что из этого выйдет?
— Комиссию создадут, — усмехнувшись,сказал Добровольский. — В таких случаях обязательно комиссии создают.
Редько неприятно резанул тон и усмешка Добровольского. Он почти сурово ответил:
— Безусловно, создадут.
— Ну, друзья, мне сюда, — останавливаясь, сказал Добровольский. — Так ты, Николай, забудь свою обиду. Приходи ко мне по-приятельски. У меня есть новые книги. И ты, Редько, заходи. А это все устроится. — И он подал сначала Ястребову, потом Афанасию свою небольшую, покрасневшую от мороза руку. Николай вяло пожал ее.
Попрощавшись, Добровольский глубже надвинул мохнатое желтое кепи, втянул тонкую шею в воротник пальто и пошел, поскрипывая модными шевровыми ботинками по тугому притоптанному снегу.
Недружелюбным взглядом провожая стройную фигуру Добровольского, он мысленно обвинял Редько за устроенное им примирение и невольно сопоставлял Добровольского с Валентином Евгеньевичем. И если к Добровольскому он относился сейчас еще более враждебно, то за выпад против Валентина Евгеньевича чувствовал какой-то смутный укор, обращенный к себе. «В чем-то я действительно тут не прав», — думал он.
Редько вскользь окинул взглядом лицо друга.
— Ты что? — спросил он.
— Ничего.
— Особенно духом не падай. Понял?
— Все равно.
— Как это все равно? — изумился Редько.
— Пойдем, — Николай рванулся вперед.
— Нет, ты скажи,— допытывался Редько.
— Я ничего не боюсь, не приставай. — Николай ускорил шаг.
Редько на своих култышках отстал.
— Куда бежишь, дьявол!
Николай замедлил шаг.
— Знаешь что, ты из себя дурака не строй. Понял? — запальчиво заговорил Редько. — Тебя опять взбесил Добровольский?
— А тебя нет? — вместо ответа спросил Николай. Зачем он двурушничает? То к Валентину Евгеньевичу бочком пробирался, то меня бросился догонять. Подумаешь, сочувствует! Очень мне нужно его сочувствие. Тебе он нравится?
— Не совсем, — выдерживая взгляд товарища, признался Редько.
— Ты же старался меня с ним помирить.
— Старался, потому что ссориться вам незачем. Черт его знает, может, я ошибаюсь.— Редько вдруг засмеялся.— Погоди, еще вместе с Добровольским будешь изучать диалектику.
— Ну, это мы увидим.
— Эх, — Редько вздохнул, — посмотреть на тебя, — до чего еще ты молод!
— Молодость — небольшой порок. С годами изживается.
Сегодня Николай получил письмо. Дядя Иван Тимофеевич сообщал, что Анюта вышла замуж за Сухорукова.
Не досидев на лекциях, Николай пошел в читальню. Но книги не захватили его, как захватывали до этого.
«Зачем мне это? — думал Николай. — Из университета исключат, Анюта вышла замуж. Одно — к другому».
Николаю хотелось забраться куда-нибудь в глушь, чтобы остаться наедине со своими мыслями. Он пожалел, что нет здесь Ильменя и степи с знакомыми курганами. Там никто бы не помешал остаться наедине с самим собой. Выйдя из читальни, он побродил по шумной Садовой, потом завернул в городской сад. На главной аллее было много народа. Детвора играла в снежки, скамейки были заняты взрослыми. Он свернул на узкую боковую дорожку, но и здесь были люди. Увидал вдали лощинку с редкими голыми деревьями.
«Там никого нет». Николай пошел к одинокому дереву, в сторону от расчищенных дорожек. Немного погодя он уже стоял, прислонившись спиной к тополю.
Мысли унесли его далеко. Вот хутор Роднички. В нем сотни полторы дворов, они разбрелись по высокому крутому берегу Безымянки. Хотя сейчас зима, Николай представляет Роднички одетыми в зелень. В центре хутора на площади рядом с церковью два больших дома с одинаковыми крышами. Снаружи они обиты досками, окрашенными в зеленый цвет. В одном из этих домов — школа, Николай в ней когда-то бывал. С курганов он не раз видел колокольню, дома и за ними — гору Родничковку, омываемую дрожащим маревом.
Теперь эта колокольня, синеющая гора и потоки марева вызывали особенно щемящее чувство. Там учительствует Анюта, там все это произошло.
«Вышла замуж за Сухорукова». Николай машинально начал чертить прутиком по снегу, а когда опомнился, увидел: «Анюта». И хотя он понимал, что в письме Ивана Тимофеевича ошибки быть не может, он все-таки старался поставить новость под сомнение.
«И сплетню могут выдать за правду. Там это случается».
Но в глубине души Николай знал: в письме — правда, и все эти месяцы тревога его была не напрасной. А встревожился он, как только увидел Анюту в степи рядом с Кондратом Сухоруковым и услышал, что они будут работать в одной школе.
«Этот умеет ухаживать за девушками, он как соловей запоет»,— с неприязнью подумал тогда Николай. Правда, в то же время он возражал себе: «А возможно, у Кондрата есть какие-то достоинства, и я до сих пор не замечал их, потому что ни к чему мне это было».
Сейчас за появившуюся невольно мысль о сплетне Николай ухватился лишь потому, что она в какой-то мере успокаивала его. Так врачи иногда прописывают больному что-нибудь безобидное, вроде воды с содой, чтобы успокоить, и это порой помогает, хотя бы на время.
«Может быть, я сам виноват? Я же никогда не говорил ей о своей любви? Да, да, я виноват. Я всегда представлял ее особенной, а она такая же, как и все остальные девушки». Но, мысленно говоря это, он и сейчас не мог Анюту сравнять с другими.
Одна за другой вставали в его памяти встречи с Анютой. Ведь, в сущности, Николай совсем не знает ее. Влюбился и стал рисовать себе такой образ, на какой только способно было его воображение.
Вспомнился давнишний случай. Николай с одним из товарищей юности как-то темной зимней ночью вез по улице уснувшей станицы на салазках дрова — надо же было чем-то отплатить хозяевам за ночлег. Спускаясь в овраг, ребята так разбежались, что салазками чуть было не сшибли с ног девушек. Было темно, и Николай не узнал встречных, но одна из них крикнула:
— Вы что, ослепли? Окаянные!..
У него все похолодело внутри: голос принадлежал Анюте. В ее слишком уж простых словах, и особенно в тоне голоса, было что-то такое станичное, что тогда и обрадовало парня и разочаровало. На какие-то мгновения Анюта будто сошла с высот на Суходольскую улицу, и вдруг все в ней показалось будничным. Но вскоре это как-то сгладилось в памяти, и голос Анюты опять зазвучал для него «слаще муз и пенья», как писал он в те дни в одном из стихотворений…
Николай долго ходил взад и вперед по небольшой площадке возле тополя. Пошел снег. Остановившись, Николай смотрел и смотрел, как удивительно чиста ничем не тронутая белизна снега. Хотелось думать о чем-то хорошем, но невольно вставали в памяти растерянное лицо Валентина Евгеньевича, прощание с Анютой перед отъездом в Ростов.
«Ну что же, поеду домой. Буду жить в Грушках. Учительствовать мне в этом году не придется: теперь уже все места заняты. Буду с Василием Марковичем организовывать коммуну, а там и работать в ней… А с вузом кончено». Он вздохнул, замедлил шаг и в мыслях опять увидел хутор Грушки, свой курень — в комнате с большой русской печью книжная полка.
«А ведь однотомник Лермонтова остался дома», — вдруг вспомнил Николай.
Перед вечером Ястребов сидел в общежитии. Лицо у него было усталое. Ссора с Добровольским, столкновение с Валентином Евгеньевичем и, наконец, письмо от Ивана Тимофеевича выбили его из колеи. Он думал о том, что надо все начинать сначала: ехать в Грушки, снова готовиться в вуз, а летом ехать в Москву или, в крайнем случае, в Саратов. Опять придется выискивать деньги на дорогу, сдавать экзамены, устраиваться на работу. Хотя он старался внушить себе, что не боится никаких трудностей, на душе у него было пасмурно.
Пришел Анатолий. Он сочувственно посмотрел на Николая, сел рядом и, положив руку на его плечо, сказал:
— Знаешь, я искренне жалею, что так получилось. Парень ты хороший, жить с тобой можно. И надо же было тебе заводить ссору с профессором!
— Так уж случилось, — нехотя проговорил Николай я, помедлив, добавил: — Тут у меня другое: девушка, которую я любил, вышла замуж.
— Анюта? — с удивлением спросил Анатолий.
— Даже имя помнишь?
— А как же. Ты ведь чуть мне голову не проломил из-за нее! А все так и случилось, как я предполагал. Я лучше тебя знаю женскую психологию. — И Анатолий вполголоса запел:
Потом особенно выразительно произнес:
— Так сказать, перехватываю, чтобы они не изменили. То ли дело жить, как султан: рассылай янычаров и башибузуков, наслаждайся в гареме. Нынче я дуализм проявляю: люблю двух девушек, — весело продолжал он. И вдруг, гряхнув кудрями, предложил: — Пошли с горя выпьем, а?
— Зачем это?
— Ну давай так пройдемся. Бросьте, милорд, вешать голову. На улице сейчас хорошо, а ты сидишь и хнычешь. Пошли!
В погребке за мраморным столиком они выпили водки и по кружке пива. Анатолий был в самом хорошем расположении духа, говорил, советовал, утешал. По его словам выходило, что все пройдет и нечего зря волноваться, что Ястребов — свой парень, за которого и голову сложить не жалко. Но Николай плохо слушал его: хмель не заглушал горечи.
— А я тогда еще на земляных работах догадывался, что с Анютой может так получиться, — вдруг проговорил Николай.
— А почему же ты швырнул в меня лопату? — удивился Анатолий.
— Точно не знаю. Наверно, пошлости твоей не выдержал.
Из погребка направились по ярко освещенному Буденновскому проспекту. Впереди шел какой-то прилично одетый парень невысокого роста. Николая что-то поразило в его осторожной, будто крадущейся походке и в том, как парень загребал руками. Где-то он видел эту согнутую спину, эту голову, втянутую в плечи, эти загребающие длинные руки.
Не удержавшись, он крикнул:
— Гражданин, подождите!
Тот остановился.
— Где мы с вами встречались?
— Да это же наш студент, Никита Валков, — засмеялся Анатолий. — В одном общежитии с нами живет! А это свой парень, Николай Ястребов, — отрекомендовал он Николая Валкову.
Никита Валков взглянул на Николая встревоженными маленькими глазками, потом деланно засмеялся:
— Да мы на дню по семь раз встречаемся!
— Нет, я где-то тебя видел раньше. Голос мне твой незнаком, а фигуру помню. Ну подскажи! Ей-богу, забыл.
— Не знаю, — сухо проговорил Никита, — ты меня принимаешь за кого-то другого. До университета я с тобой никогда не встречался.
— Вы, синьор, простите его, — наверно, переложил с непривычки чихиря, — шутливо сказал Анатолий о Ястребове. — Пошли в свою саклю.
— Да куда ты меня тянешь? — уперся Николай. — Дай с человеком поговорить.— И снова обратился к Никите.— Нет, ты мне все-таки скажи, где мы встречались, откуда я тебя знаю.
— Выпил, так иди проспись, — сказал Никита, отворачиваясь от Николая. — Уведи ты его, пожалуйста, — обратился он к Балахонову, — на нас уже внимание обращают.
Анатолий, крепко взяв Николая за талию, повел его в общежитие. Он был убежден, что тот захмелел. Никита, прищурив левый глаз, посмотрел им вслед так, словно брал на мушку.
Параня не приходила на свидания после того памятного вечера у реки, хотя и обещала прийти. Алексей решил, что она избегает его. Опять появились сомнения: любит ли?
Впервые в жизни Алексею приходилось теперь многое решать самому. Раньше он жил так, как жилось. Нужда заставила пойти в батраки, потом начал работать в своем хозяйстве. Топором, вилами овладеть не такая уж мудрость, за плугом ходить или с косилки сваливать — тоже. В любом деле можно было обратиться за советом к соседям или к матери.
В любом — да только не в этом… С матерью после первой стычки Алексей совсем не говорил о Паране. Марья Ивановна с того разговора была явно недовольна сыном. Ничего не мог посоветовать и Самсон Кириллович. У Алексея были ближайшие товарищи — Дронов и Кукушкин; теперь он и от них замкнулся. Как-то неудобно было говорить с ними о Паране. Был бы еще Николай дома, с тем можно бы потолковать…
Алексей стал реже показываться на улице. На игрище ему было скучно. Песни петь он небольшой охотник, плясать не выучился, шутки у него не получались. Его потянуло к пожилым людям. Серьезнее начал он присматриваться к жизни хутора. По воскресеньям Алексея частенько можно было встретить в горнице у Василия Марковича, куда казаки заходили поговорить, узнать новости…
Хотя Алексей, как и каждый хуторянин, знал, что на хуторе все живут по-разному, но теперь жизнь Грушек раскрылась перед ним полнее.
Вот Афоничка Красноглазый богатеет. Дом у него в три комнаты. На стенах снаружи — зеленая шалевка под один цвет с крышей. Во дворе два амбара, сараи, хлевы, и открытые и отгороженные от основного двора, базы, пять пар быков, коровы, лошади, овцы. А гусей, уток, кур столько, что похоже, будто двор занесен снегом.
Только теперь Алексей понял, как Афоничка Красноглазый тиранит свою семью, какая жизнь досталась его снохам. Прошло немало лет, а до сих пор хорошо помнится, как однажды Афанасий Трофимович ругал в степи сноху, без памяти лежавшую в тени под арбой:
— Рассопливилась, чистый кандырь. Заболела. Да разве теперь время хворать?
Алексей знал, что снохи Красноглазого ходят в зипунках да в старых шубенках, а кашемировые, шелковые да поплиновые юбки и кофты лежат в сундуках.
Года за три до Октябрьской революции на хуторе Грушки произошло событие, о котором до сих пор вспоминают.
Афанасий Трофимович сосватал за своего сына дочь одного из хуторян Екатерину Курганову. Ее хорошо помнит и Алексей. Жила она в заеричной части хутора. Катя просила отца и мать не губить ее молодой жизни, не отдавать замуж за немилого человека, в семью, где жизнь — сущий ад. Но отец и мать не послушались дочери… На красную горку Катя должна была идти под венец. Но за три дня до свадьбы она вдруг исчезла с хутора. Тело девушки нашли в овраге. Подруга ее рассказывала потом изумленным хуторянам: сама на себя наложила руки. С тех пор овраг стали называть Катиной балкой.
Глядя со своего крыльца на сутолоку во дворе Афонички Красноглазого, Алексей думал: «И такая жизнь тоже не по мне. Уж если Михаил Андреянович живет плохо, то и эти не лучше».
Как-то встретившись с работником Афонички Красноглазого Микишей, которого на хуторе все называли Микишей Хохлом, Алексей спросил:
— Хозяин хоть немного изменился за эти годы?
— Ни-ни, все такой же скаженный, — ответил Микиша. С Микишей Алексей знаком давно. Тот уже лет десять как приехал с Украины и живет в работниках, поэтому Алексей говорит с Микишей по-свойски.
— Столько лет прошло Советской власти. Кажется, пора бы ему поумнеть!
— Вин разумие, коли скажешь: на. А так завсегда у него одна балачка: лается, як та собака. — При этом Микиша улыбается, будто это он виноват, что его хозяин не изменился к лучшему.
Через два двора от Афонички Красноглазого живет Василий Маркович Костров. Дом у него — пятистенок, но не такой большой, как у Афонички Красноглазого. Да и человек он другой.
— От него ума наберешься, — говорили о Василии Марковиче казаки.
— И зародится же такой человек!
— На нашинской земле возрос…
Даже такие люди, как Семен Сазонович Бородин и Хватышов, не смели корить его чем-либо. В Грушках Кострова не дали бы в обиду.
А в глубине души, конечно, и о нем не все думали одинаково хорошо.
Вплоть до семнадцатого года Василий Маркович вел переписку с писателем Александром Серафимовичем. Добровольцем ушел в Красную гвардию.
Теперь ему уже под шестьдесят. Но как и в молодые годы, он слыл книгочеем, интересовался химией и физикой, собирал книги, в том числе специальные — по сельскому хозяйству, выписывал «Крестьянскую газету». Кроме того, Василий Маркович вел дневник, начатый еще лет тридцать пять назад.
Никто на хуторе не заглядывал в будущее с таким ясным представлением, как Василий Маркович. Будущее, по его словам, для всех казаков было в артельной работе.
В один из воскресных дней, направляясь к Кострову, Алексей повстречал Хватышова. Волнистый рыжый чуб Савелия Андреевича выбивался из-под фуражки, надетой набекрень.
— К деду? — спросил он.
— К нему.
— Агромадного ума казак…
Хватышов зашагал рядом с Алексеем. Алексей искоса оглядывал его лакированные сапоги, синие суконные шаровары с лампасами, такую же синюю тужурку. Видеть все это было Алексею неприятно. Он знал, что казак обрядился в чужое, воспользовавшись благосклонностью и простотой вдовы с соседнего хутора. Толстая шея Хватышова, лицо кирпично-красного цвета, беспокойные глаза были противны. С неудовольствием Алексей подумал: «И зачем он за мной увязался?»
Савелий Андреевич в молодости жил богато. Но все, что ни попало ему под руку, пропивал с такими же горькими пьяницами, как и сам.
Он долго не был женат… Привозил он однажды женщину. У нее столько было приданого, что в Грушки воз еле дотащила пара хороших лошадей. А недели через две женщина ночью убегала в Суходольскую лесными тропами с одним узелком в руке, боясь, что Хватыш догонит, заставит есть землю, будет бить плетью и, не слезая с лошади, гнать до самого дома, — этим он ей уже грозил.
После службы Хватышов больше года бражничал по хуторам, смеялся над жалмерками, не раз бил чужих жен, за что разъяренные казаки его самого избивали до полусмерти. Потом женился.
Внешне после женитьбы Хватышов утихомирился. Днем на людях был очень ласков с женой, а ночью избивал. На красивом лице казачки не было синяков, зато на теле ее они чернели, как чугун.
Знал Алексей и о ссылке Хватышова в Сибирь, о том, что он был в белой банде и каким-то чудом позже оказался председателем хуторского Совета. Если бы не Василий Маркович, Хватышов долго еще издевался бы над жителями хутора Грушки, выдавая себя за революционера, а всех казаков он зачислял в белые. «По духу чую их», — любил повторять Хватыш.
Жена Савелия Андреевича состарилась преждевременно. В соседних хуторах он находил себе новых жен, и его частенько видели теперь щеголяющим в обуви и одежде, некогда принадлежавших мужьям этих вдов.
В Грушках Хватышова презирали все от мала до велика. Близкого знакомства с ним избегали. Казаки говорили о нем:
— Вид-то у него богатырский, шея, как у хорошего бугая. А поди ж ты, на деле первейший и подлец и трус. А сколько он за две войны народу ограбил! Сколько своих хуторных пересажал — конца-краю не видно. Если рассуждать по-доброму, так давно о нем веревка плачет…
И вот теперь Хватышов шел рядом с Алексеем и без умолку говорил и говорил. Алексей молчал. Но этим Хватышов и был доволен — лишь бы ему говорить не мешали.
В дом вошли вместе.
Жена Василия Марковича с неприязнью посмотрела на Хватышова, а он, поздоровавшись, бесцеремонно зашагал в горницу, откуда доносились оживленные мужские голоса.
Алексей задержался.
— Где ты его подцепил? — спросила хозяйка.
— Да на улице пристал.
В горнице — на лавках, табуретках и сундуке — сидело несколько пожилых, с бородами, усами и поредевшими чубами или совсем гололобых казаков, и все они с нескрываемой досадой глядели на Хватышова. Василий Маркович смотрел на него с любопытством.
— Я, Василий Маркович, давно к вам собирался зайти посидеть, покалякать,— говорил Хватышов.— Праздничное дело.
— Милости просим, — ответил хозяин.
Но глаза Василия Марковича будто спрашивали: «На разведку пришел?»
Савелий Андреевич прошелся по горнице, каждому пожал руку, затем с достоинством отошел к окну и сел на лавку.
В горнице было так накурено, что дым совсем почти закрыл портреты и зеркало, на котором висело полотенце с вышитыми красными петухами на концах.
Сам хозяин сидел на сундуке. Это был еще бодрый старик. Его подстриженную черную бородку лишь слегка тронул иней седины. Синие глаза смотрели молодо, пытливо. Четкие, несколько суховатые черты лица смягчались добродушной улыбкой. Что-то в нем напоминало Алексею мать. Марья Ивановна всегда держалась вот с таким же достоинством, в чертах лица ее была такая же четкость и суховатость.
Разговор, который до этого, видимо, был хорошо налажен, теперь не клеился. Каждый нет-нет да и взглянет на крупную, массивную фигуру Хватышова.
Но постепенно все же разговорились.
— Ну вот, Василий Маркович, ты нас упрекаешь,-— сказал хозяину Михаил Андреянович. — Но ведь мы тогда чоху-моху не понимали. Да и теперь которые, значит, как в темном лесу. Ты человек ученый, коммунист, ты разъясни… Вот у нас на хуторе опять верх забрали Афанасий Красноглазый да Бородин. Как раньше были первые богачи, так ими и остались. А мы до революции, которые, значит, бились в нужде как рыба об лед, так и теперь бьемся.
Алексей с интересом ждал ответа Василия Марковича. Начала беседы он не слышал, но понял уже, о чем здесь говорили. Понятно было Алексею и другое: не праздный вопрос задавал Михаил Андреянович; Ястребов знал, что его семья дошла до последней грани нищеты.
— И до революции надо было своей головой соображать,— тихо ответил Василий Маркович. — Разве не вы в девятьсот пятом году повстанцев усмиряли, с плетьми да шашками гонялись да помещичью водку за это пили?
— Я согласен, — Михаил Андреянович утвердительно кивнул головой, — был такой грех: которые, значит, не думали тогда. Но это давно уже все быльем поросло. В революцию-то мы тоже стали малость умнее. А вот дальше-то, дальше что будет? Про коммуны что-нибудь слышно или опять о них, стало быть, замолчали?
— Нет, не замолчали.
Василий Маркович встал, прошел к столу, надел очки, из стопки выбрал газету, развернул ее и стоя начал читать о жизни коммуны на Кубани, возле Ладожской станицы.
— Вот видите, — сказал он, сдвинув на лоб очки и глядя умными лучистыми глазами на Михаила Андреяновича, который ждал его слов с каким-то благоговением и надеждой. — Хорошо живут люди.
Василий Маркович любил говорить с людьми, и его любили слушать. Алексей четвертое воскресенье подряд приходил сюда. По дружелюбному взгляду, по отдельным словам Василия Марковича он понимал, что старик одобряет его участие в беседах. И это радовало парня.
— Диковинное дело, — сказал один из казаков, — да как же это жить-то вместе? Я про коммунию…
— Не жить, — поправил его Василий Маркович, — а работать. Сыздавна хлеборобы, которые победнее, складывались для совместной обработки земли. Было?
— Так ведь то ж другое дело! То по два-три двора, а тут, почитай, весь хутор.
— А какая же разница? — спросил Костров. — Всем хутором выгода еще больше. Трактор нам с тобой не под силу купить, а артель может. Вот сейчас больше половины хутора косит вручную, а в артели можно бы лобогрейками. То для каждого хозяйства надо дворы да базы строить, а то один хороший хлев для всей скотины. При дружной работе гору своротить можно.
— Н-да, — со значительным видом проговорил Хватышов. — В коммуну я бы тоже пошел жить…
Казаки переглянулись.
И Хватышов понял, почему все замолчали. «Расскажу Бородину, — решил он, — то-то смеяться будет».
Хватышову всегда и во всем хотелось быть первым. Но он никогда не пользовался уважением на хуторе. Василия Марковича, наоборот, все уважали. Уже за одно это Хватышов его ненавидел. С годами ненависть возрастала, особенно она поднялась, когда Костров «спихнул» его с должности хуторного «комиссара». Сколько раз ему хотелось «прихлопнуть вредного старичишку»! Но благоприятного случая не представилось, и он стал почтителен к Василию Марковичу, как и другие хуторяне. При встречах с ним вежливо раскланивался, пытался заводить умный разговор.
— Мы с вами, Василий Маркович, одни на весь хутор понимающие люди. Комсомольцы? Ну, те еще зеленые, чиво-чиво, а жизню они мало разумеют. А мы с вами…
Василий Маркович как-то пытался отвязаться, но из этого ничего не получилось.
— Не сумлевайтесь во мне. Вы человек ученый и коммунист, а я — старый революционер, по тюрьмам скитался.— И Хватышов начинал рассказывать: — Тобольская тюрьма, томская, омская — до самого Байкала гоняли меня. Я ведь был забубённый, никому не покорялся, ни одному начальнику спуску не давал… Да, пришлось повидать и леса, и горы, и реки. Что по сравнению с ними наши Волга или Дон, я уже не говорю о Безымянке. А с какими людьми пришлось повидаться! Таких никогда на воле не увидишь.
— Интересные люди?
— Законники! Понимаете, настоящие законники. С книгами ложатся и с книгами встают. Еще в цирицынской тюрьме познакомился с одним… Из наших мест офицер, за большую политику сел. Законник!.. Чиво-чиво только не рассказывал, когда узнал земляка! Рад был мне, бедняга, до смерти рад. Ну, я ему уважения оказывал; большие разные одолжения.
Хватышов знал, что Василий Маркович не верит ни одному его слову; но после разговора с Костровым обычно хвалился хуторянам:
— Мы с Василием Марковичем по душам побеседовали.
— О чем же у вас речь шла?
— Да так, о жизни. Я ведь старый революционер, а он ученый, партейный. Нам с ним есть о чем поговорить…
Посмеются-посмеются казаки над хвастовством Хватышова, и на этом дело кончается.
С некоторых пор какие-то незримые нити связывали Хватышова с Семеном Сазоновичем Бородиным. Обычно в праздничные дни Хватышов зайдет к Василию Марковичу, поговорит с казаками, а вечером завернет на огонек к Бородину. Пройдет через кухню и осторожно постучит в дверь большой горницы.
— К вам можно?
— Кто там? Заходите,— ответит Бородин, хотя прекрасно знает, что стучит Хватышов.
Медленно открыв дверь, Хватышов осторожно входит в горницу.
— Доброго здоровьица, Семен Сазонович! Как живете-можете?
Семен Сазонович с чувством собственного достоинства отвечает:
— Слава богу! — Он непременно при этом запрокидывает голову, чтобы тем самым придать себе больше важности. — Проходи, Савелий Андреевич, садись.
— За приглашеньица спасибо. Оно бы и некогда сидеть-то, да уж надо кумпанию поддержать.
Хватышов, ступая так, чтобы не скрипнули половвды, степенно приближается к столу. На его лице все то же умильное выражение.
Молча обмениваются рукопожатиями.
— Можно сесть? — спрашивает Хватышов.
— Ради бога, садитесь, Савелий Андреевич.
С деланной вежливостью Хватышов садится на краешек венского стула: нельзя садиться на весь стул, необразованность свою покажешь.
— Закурите? — предлагает хозяин.
— С превеликим моим удовольствием.
Бородин достает из кармана добротного суконного пиджака зеленый кисет с табаком и свернутую газету. Оба молча курят цигарки. Хозяин зажигает спичку и подносит гостю.
Хватышов непременно при этом говорит Бородину:
— Покорнейше вас благодарим!
— Не стоит благодарности, Савелий Андреевич.
В комнате вместе с дымом распространяется запах пряно пахнущего донника.
— Подмешиваете в табачок? — спрашивает Хватышов, имея в виду запах донника.
— Да, старая привычка, Савелий Андреевич.
Нравится Хватышову эта просторная горница с большим нарисованным масляной краской цветком на потолке, с тюлевыми занавесками на окнах и плотными ставнями, закрытыми снаружи. В комнате большое зеркало, рядом шкаф с посудой, а в переднем углу иконы и совсем рядом с ними портрет Ворошилова на коне. Стол покрыт клеенчатой скатертью, лампа-молния освещает газету. Все здесь дышит довольством и изобилием. И сам хозяин сидит спокойно, по-домашнему. Вид у него невозмутимый.
— Привычка — большое дело, — говорит Хватышов.
— Да, это верно.
Хотя Хватышов очень хорошо знает, что Бородин неспроста ведет с ним знакомство, но ему приятно, что здесь его называют по имени-отчеству, тогда как для всех на хуторе он только Хватыш и Савуня.
Минут пятнадцать-двадцать они церемонно говорят о том, о сем, стараясь превзойти друг друга в вежливости; затем Бородин, вдоволь натешившись этой игрой, спрашивает:
— Может, выпьем, Савелий Андреевич, а?
У Хватышова в глазах вспыхивают искорки, и он невольно потирает мясистые ладони. Даже подбородок у него вздрагивает.
— С превеликим удовольствием, Семен Сазонович!
Бородин встает и приносит из угловой комнаты граненую рюмку, наполненную до краев водкой, настоенной на вишне, тарелку с крупно нарезанными огурцами и несколькими ломтиками белого хлеба.
При виде этого угощения Хватышов старается сдержать радость, но все же у него заметно дрожат руки. Он выпивает и крякает. Затем, взглянув на дно рюмки, с сожалением ставит ее на стол, достает вилкой ломтики огурца и с хрустом съедает их. К хлебу не притрагивается.
— Ну как жизнь, Савелий Андреевич? — спрашивает Бородин.
— Да жизнь — лучше некуда… Хе-хе-хе-хе… Глаза завязывай и бросайся в яр — вот какая жизнь. Скрываемся, таимся, мнения своего не можем сказать. Вот когда революция закончилась, я было начал себе курьеру пробивать, да Василий Маркович позарился на мое положение и оклеветал меня. С тех пор и нету мне жизни. Что я ни пробовал делать, не получается.
— А ты бы посильней попробовал.
— Честному человеку ходу нету. Ведь вот я давнишний революционер, первый на десятки хуторов в этих местах в большевики пошел, а меня пихают в яму.
— Неужели? — изумляется Бородин.— Такого заслуженного революционера — и в яму!
— В яму. Даже в коммуну не хотят принять. Разве это не обидно?
— Обидно, — охотно соглашается Бородин.
— И ведь что нужно сказать тебе, — Хватышов понижает голос.— Собираются всю лучшую земельку к рукам прибрать, а нас спровадить на солонцы да на пески, чтобы мы с сумой по свету пошли.
— Неужели?!
— Покарай меня бог, если это не так! — Хватышов быстро крестится.
Бородин знает, что Хватышов не любит работать, за всю свою жизнь вряд ли вспахал хоть одну делянку.
— Что же дальше будем делать? — спрашивает он Хватышова.
— Не знаю. Ума не приложу.
— Н-да.
— А все Василий Маркович! — И Хватышов, горячась, рассказывает, кто у Кострова был в это воскресенье, о чем говорили. От Бородина он не скрывает своей ненависти к Кострову. Ему нетрудно было догадаться, что Бородин тоже ненавидит Василия Марковича.
Беседа затянулась до поздней ночи. Высказав все, Хватышов собирается уходить.
— Ну, я пошел, Семен Сазонович, — говорил он, выразительно подчеркивал слово «пошел» и приглядываясь к лицу хозяина.
— Дорожку погладь, Савелий Андреевич,— любезно предлагает Бородин, делая вид, что не замечает ни того, как сказано слово «пошел», ни красноречивого взгляда.
— Не могу отказаться. Характер у меня ужасно общительный,— с облегчением говорит Хватышов, и в голосе его слышится даже что-то похожее на голубиное воркование.
Хватышов следит глазами за тем, как Бородин забирает со стола вилку, рюмку и тарелку и уходит в малую горницу. Когда туда открывается дверь, глаза Хватышова жадно смотрят на широкую никелированную двуспальную кровать, на ковер над ней и на блестящие колеса велосипеда.
«Богато живут, — думает он с завистью.— А тут из-за каждой рюмки унижайся».
Немного погодя, Бородин опять приносит наполненную до краев рюмку водки, крупно нарезанный огурец и ломтики белого хлеба.
Хватышов выпивает, закусывает и торопливо выходит на улицу.
Осенью Алексея проводили в Красную Армию. Перед уходом он долго разговаривал обо всем с матерью, которая не скрыла своего удовольствия, что он уезжает неженатым.
— Покаялся бы ты, сынок, потом, да поздно было бы.
— Ну теперь об этом нечего говорить. Что было, то видели, а что будет, увидим… Держись за Василия Марковича, в коммуну иди без оглядки.
От военкомата до вокзала новобранцев провожало много народу, Алексей чувствовал на себе взгляд Парани, особенно бодро шагал в строю. Он был доволен, что идет в пограничные войска, куда попадали немногие казаки.
Когда отходил поезд, парень, рабочий с государственной мельницы, находившийся с Алексеем в одном вагоне, заиграл на гармонике. Алексей смотрел на мокрое от слез лицо матери, на печальную улыбку Парани и молчал. Так и уехал…
В том же году Степа пошел в школу. И неожиданно для Марьи Ивановны это вдруг отразилось на ней самой. В начале учебного года к Ястребовым наведалась учительница.
Марья Ивановна сидела у стола и чистила картофель. Она с удивлением посмотрела на незнакомую девушку, но догадалась, что это и есть та самая учительница, которую так хвалил Степа.
— Проходите, садитесь. Вы, видать, новая учительша, Зинаида Степановна будете?
— Да.
— А я слышала про вас, но не довелось видать.
Ее слова и в особенности «вы» в устах простой казачки удивили Зинаиду Степановну Быстрову. Она окинула взглядом чисто убранную комнату, задержала взгляд на этажерке с книгами.
— У вас большая семья? — спросила она.
Марья Ивановна скупо улыбнулась:
— Всего нас двое осталось: я да сынишка, в этом году в первые классы пошел.
— А книги чьи? — учительница показала глазами на этажерку.
— Сын у меня студент… В Ростове учится. Мы Ястребовы. Может, слыхали?
— Значит, Николай ваш сын? — спросила учительница, сразу находя в лице Марьи Ивановны какое-то еле уловимое сходство с Николаем. Оно было в форме лба и губ, в голосе, в манере произносить слова просто и отчетливо.
Марья Ивановна отодвинула в сторону чашку с неочищенным картофелем.
— А вы неужто его знаете? — обрадовалась она.
— Учились вместе.
— Да ну?! — Марья Ивановна встала, проворно вытерла полотенцем руки и сказала: — Так мы с вами сейчас вечерять будем… А Николаю я непременно перескажу: так и так, мол, училась с тобой наша учительша, Зинаидой Степановной называется…
— За ужин спасибо, в другой раз, а ему напишите. Он меня хорошо знает: в одном классе были, в одной комсомольской ячейке состояли.
— Да как же ты со мной вечерять не хочешь. Так не годится, — сразу стала проще и веселее Марья Ивановна.— Ты уж меня не обижай.
— Как-нибудь в другой раз.
— Небось матери жалко было тебя отпускать-то?
— Матерям всегда жалко. Но я уже взрослая.
— Взрослая. Скажите тоже. Вот и мои разлетелись. Один учится, другой в армии, на Кавказе. Писал, что туда и возле моря ехали и через горы. Каких только людей не повидал! — Марье Ивановне очень хотелось показать гостье сыновние письма.— А мы тут вдвоем со Степой,— продолжала она.— Не сидится вам, молодым, в родном гнездышке под крылом родимой матери.
— А я к вам, Марья Ивановна, по делу.
— Слушаю, милая, слушаю.
— Вы грамотная?
— Да нет, в мои годы на грамоту моды не было. Ребят которых у нас учили, а девок редко кто. Родители и слышать об этом не хотели: ума у них на это не хватало.— Марья Ивановна вздохнула: — А у меня такая охота была учиться! Братишка младший учился, так я все до одной буковки от него узнала. И до сих пор их помню… А ведь что бы стоило поучиться? Теперь бы другим человеком была. Сыны вот разлетелись, Степа подрастет и тоже, может, уедет куда-нибудь… Была бы я грамотной — одному письмо, другому, третьему. От них получала бы да сама читала. А то все людей прошу.
— Вот, Марья Ивановна, я за этим и пришла. Запишу вас в школу, чтобы вы ликвидировали свою неграмотность.
Марья Ивановна испуганно посмотрела на нее:
— Меня… в школу?! Да мне уж сорок три!
— Это беда небольшая. Не одна вы из взрослых будете учиться, — убеждала Зинаида Степановна.
— Стыдновато мне ходить-то туда. Я уж и не знаю, как тут быть.
Зинаида Степановна строгим тоном учительницы сказала:
— Учиться никогда не стыдно.
— Многие мои подруги уже бабушками стали. Да и я, если бы не ребята, а девки были, тоже теперь внучат нянчила.— Марья Ивановна, видимо, продолжала колебаться.
— Итак, я вас записала, — решительным голосом сообщила Зинаида Степановна, закрывая тетрадь и вставая. Как будто от того, что она ввела Марью Ивановну Ястребову в список, совершилось что-то уже невозвратное. В какой-то мере хозяйка так и приняла ее слова.
— Ну уж ладно. Научишь — век буду спасибо говорить. А вечерять со мной все-таки садись.
— В другой раз, Марья Ивановна, как-нибудь в другой раз.
Когда за Зинаидой Степановной захлопнулась дверь, хозяйка снова принялась чистить картофель.
«Стыдно не стыдно, а учиться буду», — думала Марья Ивановна.
Во всякой работе Ястребова любила порядок, все делала аккуратно, точно. И в ликбез стала ходить каждый вечер со свойственной ей аккуратностью. Многие буквы она помнила, только вместо «аз», «буки», «веди», «глаголь», «добро», теперь их называли «а», «бэ», «вэ», «гэ», «дэ». То, что забыла, не составило большого труда вспомнить. Едва лишь поняла, как образуются слова, начала читать. Для этого оказалось достаточно шести-семи вечеров. Сложнее обстояло с письмом. Огрубевшие руки, привычные к любой крестьянской работе, никак не могли приладиться к письму. Перо ползло куда-то вкось, буквы выходили кривыми, а потом начались другие трудности: говорить слова было куда легче, чем писать, составлять из них предложения. Но не прошло и месяца, как она сама написала сыновьям по письму.
«Перед выборами в Советы, — писала она Николаю, — в Грушки приехал сам секретарь станкома партии Трофим Иванович Завьялов».
Она не знала, зачем он приезжал, но понимала, что Завьялов по-пустому не ездит. А уж сыны и сами поймут, какие большие дела начинаются на их родном хуторе.
Завьялова попросил приехать Василий Маркович. Он и Михаил Андреянович с помощью комсомольцев и казаков-бедняков подготовили в Грушках все для организации коммуны.
Но, посоветовавшись в окружкоме партии, Завьялов предложил организовать на хуторе не коммуну, а сельскохозяйственную артель. Он понимал, что переход от единоличного хозяйства сразу к коммуне будет особенно труден, тем более что большинство казаков в возрасте от двадцати пяти до пятидесяти пяти лет в дни гражданской войны были в белых. Надо было знать, кто из них активный белогвардеец, а кто попал к Краснову или Деникину в мобилизацию, да и как теперь настроены они.
Встречаясь с Василием Марковичем, Завьялов давно убедился, что старик Костров — человек умный, начитанный и авторитетный. Василий Маркович всегда серьезен, не тороплив и основателен в суждениях. Не раз Завьялову приходилось убеждаться, с какой завидной меткостью характеризовал Костров тех или иных людей.
Сам в прошлом учитель, Завьялов охотно прибегал в работе к помощи сельских учителей. В этой среде ему все было хорошо знакомо: и повседневная небогатая событиями жизнь, и книги, которые читали учителя, и их привязанность к чужим детям. Естественно, что Завьялов зачислил в свой актив и молодую учительницу с хутора Грушки Зинаиду Степановну, которая уже довольно хорошо знала многих хуторян, особенно женщин, обучавшихся у нее в ликбезе… В актив Завьялова попала и Марья Ивановна Ястребова, хотя она пока еше не догадывалась об этом.
И на хуторе и в станичных организациях давно уже говорили о том, что нельзя больше оставлять на посту председателя хуторского Совета Виктора Васильевича (по прозвищу Чулок), сразу после революции сменившего фамилию на Комиссаров.
В Грушках и в станице о нем говорили:
— Все пропьет.
— Отца родного с матерью готов заложить шинкарке и других к тому же приучит.
У всех в памяти был последний случай пьянки.
Недалеко от хутора, возле одного из озер, есть заливное место. Трава вырастает там высокая, сочная, густая. Каждый год хуторяне заново делят этот луг между собой. Правда, не так уж много сена набирают: кому достанется воз, кому полтора, но зато оно под руками. Нынешним летом Виктор Васильевич еще задолго до общего собрания хуторян, на котором должны были договориться о дележе луга, пропил его Бородину. А на собрании он повел такую речь:
— Там, на этом лугу, и сена-то по клочку на душу достанется. Чем трудиться над дележкой да ссориться, не лучше ли выпить на доброе здоровье? Вот Семен Сазонович обещал поставить ведро водки…
До революции общественные дела на хуторе часто решали именно так. Казак посостоятельней обращался к «обчеству» с просьбой продать ему для сенокоса клин, не удобный для дележа, с которого всем и достанется-то по клочку, а возни много. Его подпевалы кричали из толпы:
— Ставь магарыч!
Тот с готовностью подхватывал:
— Ведро ставлю!
Любители выпить кричали:
— Ставь два!
Состоятельный поставит и три ведра, зато ему отведут лучший клин. Приедет человек с другого хутора или из другой станицы, попросит нарезать ему здесь пай, предоставить право пользоваться угодьями наряду с казаками-старожилами, на «обчестве» кричат:
— Ставь три ведра водки!
Так же пропивались местным богатеям небольшие участки общественной земли, которые якобы трудно разделить и легче пропить. Верховодили обычно во всех делах атаманы и их приближенные.
Виктор Васильевич с начала гражданской войны на Дону пошел в Красную гвардию, воевал, был командиром, но за пьянство его в двадцать первом году демобилизовали. К тому времени свою фамилию Петров он сменил, стал Комиссаровым. В Грушках первое время Комиссаров держал себя строго, но богачи скоро разгадали его слабость и стали спаивать. Глядишь, пригласят в гости, предложат «дорожку погладить», а там на свадьбу или на крестины. Теперь уже Виктор Васильевич и сам не прочь был вернуть старую традицию.
Бородин так ловко обставил это дело, что председателя поддержали не только пожилые казаки, но подняли руки и некоторые из молодых. Сосчитали: большинство за то, чтобы пропить…
Прямо с собрания направились к дому Бородина. Тот поставил два ведра водки. Подвыпившим казакам этого показалось мало. Тут же проголосовали и пропили Бородину еще «клинушки». Знал Бородин: будут потом неудовольствия. Но народ на хуторе вроде воды в Безымянке: пошумит, пошумит да и перестанет.
Василий Маркович и комсомольцы не смогли помешать этому: их было ничтожное меньшинство. Сообщили в станичный комитет партии и в станисполком. Пропойные «решения» хуторского собрания были отменены, но этот случай показал, что оставлять Комиссарова в должности председателя хуторского Совета нельзя. А когда начали ревизию Совета, то оказалось, что у богатеев хутора значительная часть посевов и поголовья скота скрыта от обложения налогом.
Что касается кандидатуры на должность председателя Совета, то лучше Михаила Андреяновича и желать было нечего. Большинство хуторян возражать не будет, скажут: «Свой рожак, из нашинских казаков, подходящий — об чем тут гутарить?»
И вот сегодня в большой классной комнате Грушковской начальной школы сидят за тесными ученическими партами Василий Маркович, Михаил Андреянович, Зинаида Степановна, избранная секретарем комсомольской ячейки, и тридцатилетняя полная женщина, Анастасия Алексеевна, заведующая школой.
Завьялов, поглаживая небольшую темную бородку, медленно шагает взад и вперед от двери к окну, от окна к двери,..
— Кого же мы порекомендуем в хуторской Совет от женщин? — спросил он.
Первой высказала свое мнение Зинаида Степановна:
— Я думаю, надо избрать Ястребову.
— Я тоже о ней подумала, — согласилась Анастасия Алексеевна.
— А вы, Василий Маркович, — спросил Завьялов,— не против?
— Мне трудно о ней что-либо сказать… племянница.
— Вот как! — удивился Завьялов.
Михаил Андреянович, по обыкновению сутулясь, убежденно сказал:
— Правильная женщина.
— Уж кто-кто, а я отлично знаю Ястребову,— проговорила Анастасия Алексеевна.— У меня учились два старших ее сына. Учится сейчас самый младший. Четырнадцать лет я прожила на этом хуторе, каждого знаю. Марья Ивановна достойная женщина.
Завьялов опять заходил по классу. Лет пятнадцать он учительствовал, и хоть с тех пор прошло уже немало времени, но и теперь сказывалась привычка: ходить во время разговора, как прежде ходил во время урока.
— Самогонку гонит?
— Нет, что вы! — изумился Михаил Андреянович.
— Ну что же,— сказал Завьялов, — будем считать вопрос предварительно решенным.— И он обратился к Михаилу Андреяновичу: — Давайте посмотрим, как живет, поговорим, а вечером посоветуемся с женщинами. Если поддержат, так тому и быть.
…Марью Ивановну выбрали в члены хуторского Совета. Председателем был избран Махаил Андреянович Аникеев.
И еще одно событие взволновало хуторян: в помещении хуторского Совета открыли избу-читальню. На торжественное открытие читальни приехали Завьялов, представители от железнодорожников и от рабочих государственной мельницы.
Когда собрался народ, Михаил Андреянович, подстриженный, в чисто выстиранной рубашке, с орденом на груди, вошел на сцену, сколоченную из свежеоструганных досок.
— Сегодня у нас на хуторе… Как бы сказать?..— Михаил Андреянович сразу вспотел, начал нелепо размахивать руками. От волнения он не различил в зале ни одного лица.— Ну, право, как бы это… Ну событие, что ли… Огромное событие. Мы, значит, открываем избу-читальню. Да, праздник, значит. Вот и представители у нас… Вот пусть Василий Маркович скажет. Праздник у нас, значит…
Совершенно обессиленный этой непомерно длинной для него речью, Михаил Андреянович сел за стол и горько подумал: «Какой из меня председатель? Горе!» Он стал прислушиваться к уверенному голосу Василия Марковича.
После речи Кострова баянист железнодоржного клуба заиграл «Интернационал». Кто-то громко крикнул:
— Встать!.. Снять шапки!
Все встали, обнажили чубатые головы, торжественно и разноголосо запели. Из новой избы-читальни разошлись поздно ночью.
В жизни Михаила Андреяновича произошли решительные перемены. Всей его умственной деятельности в эти месяцы было дано совершенно иное направление.
Перед тем как его рекомендовать общему собранию в председатели хуторского Совета, с ним долго беседовали Завьялов и Василий Маркович.
Аникеев упорно отказывался.
— Какой из меня председатель? Я же малограмотный.
— Учиться будешь, — говорил ему Завьялов. — Малограмотность не порок, а несчастье…
— Устарел я, годы не те…
— Ничего, учиться никогда не поздно,— ободрял Василий Маркович.
— Да я двух слов перед народом связать не сумею…
— Ну давай не тебя, бедняка, орденоносца и бывшего буденновца, выберем, а Савелия Андреевича Хватышова,— серьезно сказал Василий Маркович.— Этот свяжет и тысячу слов, ему ничего не стоит их связать.
— Так уж и Хватыша?
— У нас на хуторе некого больше избрать, кроме тебя,— решительно проговорил Василий Маркович.— Ты воевал за нашу власть, кровь за нее проливал, хорошо знаешь нужду. Кабалу на нашего брата не наденешь, лучшую землю кулакам не отдашь. Верно я говорю?
— Этого-то я, верно, не сделаю, — согласился Михаил Андреянович.
— Значит, и возражать нечего. Я твоим заместителем буду. Да неужели мы не справимся? — Кострова райком собирался приобщить к другому, не менее важному делу.
— Вдвоем-то, пожалуй, справимся.
Задолго до выборов многим хуторянам пришлось объяснять, почему председателем хуторского Совета следует избрать Михаила Андреяновича. Личный авторитет Василия Марковича при этом сыграл большую роль.
Казаки, беседуя друг с другом, говорили:
— Сам Василий Маркович советует, а он не ошибется. Он каждого видит насквозь.
— Но Андреянович двум свиньям половника щей не разделит, — возражали его противники.
— Ничего, научится. А где следует — Василий Mapкович поможет.
Неудачное выступление Михаила Андреяновича при открытии избы-читальни доставило огорчение только ему самому. Доброжелатели одобрительно улыбались: ничего, мол, научишься, не боги горшки обжигают. Те, что побогаче, конечно, морщились, не в присутствии секретаря станкома партии помалкивали. Только Хватышов громко злорадствовал:
— Ну и оратель нашелся! Вышел на сцену и хлопает глазами. Раскрыл рот, а говорить не знает что. Зевает, как рыба, вынутая из воды, а голоса не слышно. Тык-мык и ни с места. Тоже мне председатель! На всю станицу опозорил своей глупостью. А виноват Василий Маркович. Навязал пентюха!
Хватышова осадил Кукушкин:
— Ну ты, захребетник! Помалкивай. Народом руководить — не гужи воровать!
Хватышов сделал вид, что не понял обидного намека, но с ответом не нашелся.
Все обошлось по-хорошему. Но Михаил Андреянович несколько дней после собрания ходил как в воду опущенный, стыдился глаза на людей подымать. Как-то вечером он разговорился со своим заместителем Василием Марковичем.
— Ты духом не падай, — утешал его Василий Маркович.— Надо побороть себя. В атаки ходил — не боялся, а тут и подавно не бойся. Учиться надо.
— Мне? Да что ты, Василий Маркович! Годов-то мне сколько? Да и голова… Вот если б мне твою голову…
— Не позорь свою голову. Очень даже толковая голова. Знаний не хватает, это верно. Учиться надо. И запомни, дорогой Михаил Андреянович! Если я что знаю, то все из книг почерпнул да от хороших людей услышал!— В голосе Василия Марковича слышалась большая задушевность.— Читай и ты. Вникай в дело, порученное тебе. Оно тебя само выучит. Через год-два сам себя не будешь узнавать.
— Я бы с охотой, да голова-то моя, — Михаил Андреянович несколько раз ударил себя кулаком по лбу,— вот эта дурная башка не варит как следует.
Михаил Андреянович пожал руку Кострова и, сутулясь больше обыкновенного, медленно направился к своей хате. Разговор с Василием Марковичем запал ему в душу. Он начинал верить, что в самом деле кое-чему еще может выучиться. Но едва Михаил Андреянович вспоминал о том, как открывал торжественное собрание, как подошел к столу, накрытому красной материей, как вдруг начали у него в глазах троиться две жарко разгоревшиеся лампы-молнии, как запрыгали лица людей, словно покрытые туманной пеленой, как пронизал его озноб, а потом стало необычно жарко,— появились опять тяжкие думы.
А Василий Маркович принял свои меры. Он обратился с просьбой к учительнице Анастасии Алексеевне.
— Помогите новому председателю.
Та ответила с готовностью:
— Я и сама об этом думаю, да не знаю, как это сделать. В ликбез ведь он не пойдет…
— А вы с ним отдельно позанимайтесь, — посоветовал Василий Маркович.— Да не отпугивайте трудностями, заинтересуйте сначала.
— Я попробую, Василий Маркович.
Так в тайне от всех Михаил Андреянович стал учиться. Тридцать пять рублей зарплаты изменили материальное положение семьи Михаила Андреяновича. Два старших сына, бывшие в батраках, вернулись домой, принялись обрабатывать свою землю и налаживать запущенное хозяйство. На столе появился в достатке чистый, без примесей, ржаной хлеб, и лица детишек посвежели и похорошели. Вместе с женой Михаил Андреянович уже несколько раз принимался высчитывать, какие еще «дыры» заткнуть в очередную получку. Неотложных расходов было так много, что казалось, и годовой получки не хватит. Однако же от месяца к месяцу дышать становилось легче.
Ночью, глядя на лунные пятна на полу и прислушиваясь к дыханию спящих детей, он шепотом говорил жене:
— Учить их надо. Без этого теперь нельзя… Четырем там буквари. Это раз…
— О господи, — вздыхала жена, — разор-то какой!
— Рубля два придется…
— Ужас!
— А как же ты думала учить-то? По две тетради каждому — восемь тетрадей… Эта два.
— Да зачем же по две-то? — возражала жена.— По одной для начала.
— Еще и двух мало. Каждому по карандашу, это три… По чернильнице.
— Четыре карандаша!..
На печи раздался детский кашель.
— Ванюшка простыл,— вздохнула жена.— Обувку бы какую ни на есть…
— Это уже в следующем месяце.
Несколько минут они лежат молча, потом жена очень тихим, виноватым голосом говорит:
— Хотела выгадать им по рубашонке.
— Не сейчас,— возражает Михаил Андреянович.— Пока обойдутся. Платок вот тебе надо бы до крайности, а то неудобно: жена председателя — и нет праздничного платка.
— Мне-то что, я дома хомутаюсь, тебе вот, Андреяныч, рубашку бы сатиновую… Нынешняя уж больно застирана, а ты ведь у всех на глазах.
По вечерам, когда ребята уже спали, он занимался, сутулясь над букварем или тетрадью. Порой задумывался, тоскливо глядя на тихо потрескивающий фитиль пятилинейной жестяной лампы. Теперь он понял, что очень плохо знает свой родной русский язык. Много трудного было для него в газетах, и иногда ему казалось, что там целые фразы написаны на иностранном языке.
«Что бы им писать-то попроще», — огорчался он, склоняясь над газетой.
Жена с уважением относилась к занятиям Михаила Андреяновича. Она хорошо понимала, как трудно ему сейчас приходится. Муж не таил от нее свои мысли, и ей искренне хотелось помочь ему, избавить его хотя бы от мелких будничных дел, чтобы дать возможность поскорее одолеть грамоту.
Месяца за четыре Аникеев изучил таблицу умножения, немного лучше стал писать; у него вошло в привычку читать газету. Теперь Михаила Андреяновича уже не бросало в жар и в дрожь, когда надо было выступать перед хуторянами. Не обладая особым красноречием, он все же понятно объяснял казакам и казачкам, что значит для государства своевременная выплата сельскохозяйственного налога, почему надо страховать свое имущество, для чего выпускаются государственные займы.
И на хуторе постепенно привыкали к его новой роли и начинали ценить Аникеева за справедливость, отзывчивость, простоту. Многим теперь казалось, что лучшего председателя и быть не может. Глядя на долговязую фигуру идущего по улице Михаила Андреяновича, хуторяне говорили с удовольствием:
— Вон наш председатель в хуторской Совет пошел.
Или:
— Михаил Андреянович в Суходольскую направился.
Еще недавно его в глаза называли Мишуня Помазок.
Теперь никому и в голову не приходило называть его так. Каждый величал по имени-отчеству.
— Сам Завьялов с ним за руку здоровается, — говорили о нем на хуторе.— Значит, уважает человека!
Только о части этих изменений сумела написать Марья Ивановна Алексею и Николаю. Она частенько получала письма от сынов. Алексей обычно писал, что он жив и здоров, хорошо себя чувствует, доволен своей службой. Николай тоже радовал мать своими успехами и настроением. Но на днях она вдруг получила от него небольшое письмецо, в котором он писал, что, возможно, скоро приедет домой. По тону письма Николая и по его недомолвкам Марья Ивановна поняла, что у сына на душе неспокойно.
«Что с ним случилось?… Ай он заболел? Все занимался и занимался, может, голова не выдержала? Зачем это он в такое время собирается домой?!»
В квартире студента первого курса социально-экономического отделения Карабачинского возле радиоприемника сидело несколько комсомольцев из той самой ячейки, в которой состоял и Николай.
В центре был Степанюк, высокий, красивый блондин, с казачьим чубом, рядом с ним Никита, переделавший свою фамилию. Немного усилий потребовалось для того, чтобы переправить букву «и» на букву «а» и стать Валковым вместо Вилкова, но покоя Никита не приобрел и после этого.
И сейчас его маленькие глазки тревожно глядели на Степанюка, на хозяина квартиры Карабачинского, огромного, рыжего парня, на горбоносого Гринберга в пенсне и других студентов.
Собравшиеся молча слушали радио. Передавалась песенка в исполнении тенора:
— Переведи на какую-нибудь другую станцию, — попросил хозяина студент Пашин, двадцатилетний парень с рубцом на верхней губе.
— Какую же тебе?
— Давай Вену или Будапешт.
Карабачинский занялся поиском иных передач, и в комнату ворвался высокий женский голос из «Пиковой дамы», его тут же сменила горячая мужская речь на немецком языке; потом слушатели как будто сразу попали в кабачок, под игру джаза кто-то рассыпал дробный стук каблуков.
Студенты сидели некоторое время молча. Но вот Пашин встал и нетерпеливым голосом спросил Степанюка:
— Долго будем ждать?
Степанюк посмотрел на часы:
— С минуты на минуту будет здесь.
И, как бы в подтверждение его слов, в глубине коридора послышались шаги и приближающиеся голоса.
— Сюда, сюда, пожалуйте.
— Вас нелегко разыскать.
— Да, извините, живем не на главной улице.
В комнату вошел декан педфака Виктор Осипович Осинский и вслед за ним плотный рыжеволосый мужчина, отец Карабачинского.
— Жора, к тебе гости, — сказал Карабачинскому отец.
— Пожалуйста, присаживайтесь поближе, Виктор Осипович,— почтительно сказал Карабачинский-младший декаду. — Спасибо, папа!
Виктор Осипович небрежным кивком поздоровался со студентами, подвинул кресло к радиоприемнику и как-то порывисто сел.
— Ну, я вам не буду мешать,— сказал Карабачинский-старший, видимо, чрезвычайно довольный и своим сыном а его гостями, особенно Виктором Осиповичем. Осторожно ступая, он вышел, в последний раз не без гордости взглянув на сына, и плотно закрыл за собой дверь.
Как только он ушел, глаза студентов обратились к Виктору Осиповичу, Карабачинский приглушил приемник, джаз и дробный стук каблуков как будто отдалились.
Виктор Осипович, кроме того что был деканом, читал в университете лекции по теории исторического и диалектического материализма. Его считали крупным теоретиком-марксистом. Он часто выступал в Доме ученых, в мраморном зале клуба советских и торговых служащих, в актовом зале университета. Естественно, что отец Карабачинского гордился таким знакомством сына.
— Развлекаетесь? — желчно спросил Виктор Осипович студентов.
— Да, пока ждали вас, слушали радио, — спокойно и с достоинством ответил Степанюк.
— Товарищ Лев недоволен вашей работой, — так же желчно сказал Виктор Осипович, строго взглянув на Степанюка.
— Чем же он недоволен? — спросил Степанюк и вполголоса, но горячо заговорил: — Мы ведем очень успешную работу среди студенчества. Наши люди состоят в факультетских стенных газетах, в литературном и драматическом кружках.
— Но какова эффективность? — едко спросил Виктор Осипович.— Надо привлечь на свою сторону побольше комсомольцев и дать бой руководству ячеек, забрать ячейки в свои руки, иначе все полетит к черту… Эффективности не вижу!
— А мы не сидим сложа руки, — сказал Степанюк.— В недалеком будущем мы надеемся, например, выгнать из комсомола Ястребова, живущего со мной в одной комнате. И на этом, в частности, дать бой руководству комсомольской ячейки. В работе факультета теперь полная неразбериха. Одних анонимных писем в крайком партии и в крайком комсомола послали десятки. Руководители партийной и комсомольской ячеек педфака только и занимаются комиссиями да обследованиями…
— Это все мышиная возня, — презрительно выговорил Виктор Осипович.— Товарищ Лев требует более существенных и решительных действий.
— Может быть, нам вступить с ними в теоретический спор? — спросил Пашин, вопросительно глядя то на Степанюка, то на Виктора Осиповича.
Степанюк окинул его насмешливым взглядом и сказал:
— Если мы начнем открытую борьбу, то будем биты. Я это очень хорошо знаю по печальному ленинградскому опыту. Со мной живет беспартийный студент Балахонов. Это очень беспринципный малый, но даже и он не пойдет с нами. В данных условиях наша тактика безусловно правильная.— Степанюк посмотрел на небрежно слушающего Виктора Осиповича.
— А что там за границей думают? — спросил Валков.
Степанюк не удивлялся недомолвкам Виктора Осиповича, он знал, к чему стремятся троцкисты. Восхищала артистическая способность говорить неясно, больше интонациями, чем словами.
«Все замаскировано… Только наивные люди что думают, то и говорят».
«А с захватом власти возьмем в свои руки фабрики и заводы»,— думал Степанюк, отлично понимавший намеки и недомолвки Виктора Осиповича и с нетерпением ожидавший начала войны.
Степанюк был сыном крупного богатея из Сальского округа. Он никогда не забывал большой дом под железом — отцовское гнездо.
«Никто мне ничего не сделает,— утешая себя, рассуждал Степанюк.— С отцом мы разделились, «Раздельный акт» у меня в кармане, и из Ленинграда уехал я благополучно. В случае чего скажу: «Ошибался, товарищи, по молодости лет ошибался».
В Ростове Степанюк не рисковал выступать открыто. Он хотел во что бы то ни стало получить высшее образование и при новом режиме, который будет установлен после разгрома большевиков, стать хозяином какой-нибудь «фабричонки», как он выражался в беседах с самим собой. Советскую власть он считал явлением безусловно временным.
Когда Виктор Осипович умолк, слово попросил Никита Валков. Он рассказал, как Ястребов настойчиво расспрашивал, где они встречались с Валковым.
— Мною подготовлена на хуторах и в самой Суходольской станице группа наших людей, — говорил он, — но я боюсь, что Ястребов помешает нам. Его необходимо убрать из Ростова.
Степанюк поддержал Валкова:
— Ястребова надо исключить из университета. Предлог есть. Я прошу вас, Виктор Осипович, как декана помочь нам в этом.
— Мы подумаем, — неопределенно ответил Виктор Осипович, улыбаясь и мизинцем стряхивая пепел с папиросы на ковер.
Беседа продолжалась.
Секретарь партийной ячейки Самойлов пришел к члену правления университета профессору Филиппову.
— Ну, что скажете? — спросил Филиппов.
Самойлов догадывался, о чем его спрашивает член правления.
— Создали комиссию. Возглавил Углов. Разбираем сейчас все эти сигналы. Что-то уж больно много ходит слухов, связанных с именем этого студента. А у меня все-таки глубокое убеждение, что Ястребов наш человек.
— Надо проверить…
В университете Самойлов встретился с Филипповым не впервые.
В восемнадцатом году он, безусый юнец, добровольцем вступил в Красную Армию. Воевать ему пришлось против Краснова. Простой крестьянский паренек из Саратовской губернии, он навсегда запомнил ночи у костра в полусожженной донской станице, смелого Киквидзе в черной бурке и в сбитой на затылок шапке, рассказывающего бойцам, как возник и рос его отряд, как дрался с белыми наймитами.
В те дни из политотдела фронта приехал Иннокентий Тимофеевич Филиппов. Это был человек небольшого роста, сухощавый, очень бледный, с глуховатым, будто надтреснутым голосом. Жидкая рыжая бородка — а вокруг была в основном молодежь — сильно старила его. Комиссар батальона, в котором находился Самойлов, рассказал бойцам, что человек этот — старый коммунист, политкаторжанин, был в ссылке в Сибири. Самойлов видел такого человека впервые, он даже смысла слова «политкаторжанин» как следует не знал. Только одно было для него ясно: человек этот очень уж большой революционер.
В первом же бою он снова увидел Филиппова. Батальон в пешем строю бросился в атаку и, не выдержав пулеметного огня, залег перед окопами противника. Вдруг Самойлов услышал глухой голос:
— Товарищи, за мной!
Комиссар Филиппов, в серой, не по росту длинной шинели, поднялся и пошел вперед. Бойцы бросились за ним.
— Ура-а!..
— Ура-а-а!..
Комиссара обогнали, Самойлов бежал вместе с другими, а спустя немного бойцы уже ворвались в станицу. Больше он этого человека не видел.
Лишь через несколько лет, когда Самойлов учился на рабфаке при Северо-Кавказском государственном университете, он встретил в длинном университетском коридоре небольшого горбящегося старика с голубыми глазами и рыженькой бородкой, будто приклеенной на маленьком продолговатом личике. Щеки старика были бескровны. Было в нем что-то очень знакомое, близкое.
«Где же я его видел?» — мучительно вспоминал Самойлов. Возможно, он так бы и не вспомнил, если бы старик не заговорил с проходящим мимо плотным пожилым мужчиной. Глухой, будто надтреснутый голос с какими-то мягкими, сердечными интонациями воскресил в памяти Самойлова образ «политкаторжанина» на фронте.
«Филиппов!» — чуть не выкрикнул он. Захотелось сейчас же подойти в Иннокентию Тимофеевичу, и Самойлов с нетерпением стал ждать подходящей минуты.
Наконец собеседник Филиппова ушел, и Самойлов приблизился. Старик повернулся к нему.
— Вы ко мне?
— Да. Вы не из дивизии Киквидзе?
Лицо старика оживилось, на бледных щеках появился жидкий румянец.
— Да, бывал и в дивизии Киквидзе. А вы тоже там были? Рад познакомиться. Филиппов.— И старик подал худенькую, сморщенную ладонь.
Оказалось, что Филиппов теперь профессор университета. Прошли в его кабинет, и рабфаковец впервые почувствовал себя легко и просто с профессором. Говорили долго. Вспоминали фронт, разные боевые эпизоды, в которых участвовали оба, потом профессор стал расспрашивать Самойлова, что он делает сейчас. Узнав, что учится, похвалил:
— Очень хорошо, что вы винтовку сменили на книгу. Наука, батенька, та крепость, которой вам надо обязательно овладеть. Обязательно!
После этого разговора Самойлову не раз приходилось бывать у Иннокентия Тимофеевича. Часто встречались они на собраниях и заседаниях в горкоме партии, в городском Совете. Садились почти всегда рядом.
— Ну, как дела? — спрашивал обычно Иннокентий Тимофеевич. И беседа завязывалась — непринужденная, сердечная.
Как-то так получилось, что ни одного сложного вопроса Самойлов не решал, не посоветовавшись с Филипповым. Насчет Ястребова он зашел к нему уже во второй раз.
В комитет комсомола государственного кожевенного завода — в Ростове тогда были еще и частные — пришли Углов и Таня Моисейченко. Попросили вызвать для разговора Сергея Савина. Сергей Савин вошел в комитет в бурой перепачканной спецовке, очень похожий на пожарника.
— Мы из университета, — сказал Углов Сергею, — пришли кое-что выяснить о Ястребове.
— А что с ним? — тревожно спросил Сергей.
— Да пока ничего… Ты его давно знаешь?
— Почти что с детства.
— Что он собой представляет?
Сергей ответил:
— Парень мировой! Был батраком, всегда тянулся к учебе. Знаю его и как комсомольца, вместе приходилось на боевых операциях бывать.
Углов коротко рассказал, что произошло в университете и попросил Савина, чтобы тот не проговорился Николаю об этом сегодняшнем разговоре.
— Не надо его волновать, — говорил Саша.— У него и так положение не из веселых.
Сергей опустил голову, серые глаза смотрели куда-то в сторону, он, казалось, забыл о присутствующих.
— А были у Ястребова случаи выпивки? — спросила Таня.
Как бы очнувшись, Сергей ответил:
— Нет, он не пьет.
— Как это не пьет? — повышая голос, снова спросила Таня.
— А так, совсем не пьет.
— А каково его поведение в быту?
Сергей понял, о чем спрашивает его студентка. Ему вдруг стало ясно, что разговор этот может иметь решающее значение для его друга.
— Честный парень,— сказал он твердым голосом.— К девушкам относится как надежный, настоящий товарищ. Об этом мне приходилось слышать и от самих девушек.
— А какая-то там грязная любовная история у него в станице? — Таня покраснела.
— Никакой истории, а тем более грязной, не было,— Сергей вскинул брови.— Уж если вы так ставите вопрос, все расскажу. Любил он одну девушку. Но так любил, что, я думаю, она даже сама не подозревала об этом. Девушка эта недавно вышла замуж. Ну, парень тяжело переживает. Вот и вся история. Печальная, конечно…
— Странно, — тихо сказала Таня.
Возле стенной газеты факультета «За педагогические кадры» стояло несколько студентов. Николай подошел, чтобы посмотреть, чем они так увлечены. В глаза бросился заголовок: «Ястребов и его «художества».
«Обо мне!» — с неприятным удивлением подумал он и впился глазами в текст фельетона.
Сначала в фельетоне шла речь о том, что вот, дескать, учится на педфаке студент Ястребов, стипендию получает, заботится о нем пролетарское государство. Что еще нужно молодому человеку? Честно выполнять свой долг. Но нет, Николаю Ястребову всего этого мало — его «широкой» натуре непременно нужно «развернуться». И он «разворачивается»: по-хулигански ведет себя на лекциях, вот он ни за что ни про что оскорбил заслуженного человека, старого профессора литературы, вот хвастается своей дуржбой с писателями, художниками и музыкантами. А если разобраться получше, кто такие эти так называемые музыканты, художники и писатели? Ни больше ни меньше как представители богемы. Человек явно разложился. Не удивительно, что он так ведет себя, удивляет другое: почему этого не замечает бюро комсомольской ячейки и товарищ Углов как секретарь? Общественность возмущена, общественность требует привлечения Ястребова к суровой ответственности. «Мы не можем проходить мимо подобных поступков, ряды наши должны быть кристально чистыми».
— Удивляюсь, — говорили рядом с Николаем, — почему с этим Ястребовым до сих пор возятся? Почему не исключат из комсомола и не выгонят из вуза?
— Саша Углов его близкий товарищ, вот он и держится…
Николай, понурив голову, пошел на лекции.
Бюро комсомольской ячейки педфака после долгого спора пришло к такому решению: вопрос о Ястребове разбирать после того, как будет получена характеристика от секретаря Суходольского комитета комсомола. Туда был послан срочный запрос. Из-за того, что ожидали ответа, обсуждение задержалось.
Николай один работал в своей комнате. Перед ним лежала раскрытая книга Энгельса «Анти-Дюринг». Он читал о взглядах Дюринга и, пытаясь разобраться в них, перечитывал снова.
Почувствовав, что запутался, Николай вскочил и, нервно потирая руки, начал ходить по комнате. «Мало знаний у меня. А вот Добровольский разбирается во всем. Редько растет не по дням, а по часам. Неужели мне не овладеть философией? Говорят, что для этого нужно иметь какие-то особенные способности».
Он задумался: «Нет, я должен овладеть ею. Иначе мне грош цена».
В комнату, стуча култышками, вбежал запыхавшийся Редько.
— Коля! Колька!
— Что? — Испуганный неожиданным появлением друга, Николай подумал: «Исключили…» И сразу же вопросы, только что волновавшие его, отступили назад.
— Да Колька, чёрт! — кричал Редько бросаясь обнимать друга.
— Ну, говори же, говори, не томи!
— Победа! — закричал еще громче Редько и, не будь он безногим, наверно, пустился бы в пляс.
— Какая победа?
— Вот посмотри! — Редько развернул газету «Советский юг».— Читай.
В левом углу «Литературной страницы» было напечатано небольшое стихотворение за подписью «Николай Ястребов». Никогда Николай не представлял себе, что эти два слова будут выглядеть именно вот так, а рядом с этими словами была обозначена профессия — «землекоп».
Рывком выхватив из рук Редько газету, он впился глазами в стихотворение. Сомнений не было. Его охватила такая же буйная радость, как в день поступления в университет. Николай начал читать стихотворение.
Да, это его, Ястребова, стихотворение. Николай прочитал молча и вслух, потом схватил Редько и стал его душить в своих объятиях. А тот, вырываясь, говорил:
— Смотри, нос не задирай! Твое стихотворение — достижение не только для тебя. Факт остается фактом: твое стихотворение существует. Пусть оно еще слабое, но существует.
Николаю оно не казалось слабым, но он не перебивал друга.
— Ты, — говорил Редько,— начинаешь выступать от имени новой деревни. Понял? — Редько вздохнул, ему было все-таки немножко завидно.
Друзья говорили долго, потом Редько ушел. Но и разговаривая с Афанасием, и оставшись один. Николай все время испытывал радостное чувство: стихотворение напечатано, его читают люди, сотни, тысячи людей.
Стали собираться студенты, жившие в одной комнате с Николаем. Пришел Степанюк. Он самый обеспеченный из жильцов комнаты, работает в краевом бюро пролетстуда членом президиума и за это получает повышенную стипендию — пятьдесят рублей. Николай не знает, что Степанюк имеет еще другие источники дохода.
Степанюк снял драповое пальто и сел на койку. Его черная рубашка из тонкого сукна, туго перехваченная желтым поясом в полнеющей талии, морщится. Синие полугалифе из чистой шерсти и мягкие шевровые сапоги плотно облегают полные икры.
— Сидишь? — спрашивает он Николая.
— Сижу.
— Не поддается? — он имел в виду «Анти-Дюринга».
— Плохо поддается.
Николай и Степанюк не любили друг друга. Ястребову казалось: Степанюк уверен, что только он один настоящий человек, а остальные — ни то ни се, мелочь. Николай не знал ни прошлого Степанюка, ни его убеждений, но такое чувство у парня было все время, едва ли не с первого дня знакомства.
Как-то Степанюк шел позади Николая в трех-четырех шагах. Николай не оглядывался, он считал, что позади идет кто-то незнакомый. Каково же было его удивление, когда, обернувшись у двери общежития, он увидел Степанюка.
— Что же ты не догнал меня? — спросил Николай.
— А зачем? — Степанюк пожал плечами.
После этого случая Николай стал замечать совершенное равнодушие Степанюка и к нуждам других товарищей по комнате. И сейчас он спрашивал Ястребова об «Анти-Дюринге», может быть, для того, чтобы создать впечатление: они живут в одной комнате, а потому не совсем чужие люди. Вошел Анатолий, а за ним Углов. Ребята только что пообедали. Углов подошел к Николаю. На его серьезном лице появилась улыбка.
— Молодец! Читал твое стихотворение. Ты хорошо передал свои чувства. Но тебе надо больше к новому присматриваться. Новое показывать.
«Значит, что-то я написал не так, — подумал Николай,— и Редько говорил о новом».
Николай жадно присматривался к новому. Он видел, как на окраине Ростова строится новый социалистический городок, расспрашивал Редько о жизни шахтеров, пытался разобраться в событиях, найти черты завтрашнего дня. Но у Николая еще не было необходимой подготовки. Он подходил к тому, что носило черты нового, примерно так, как подходят репортеры, брал лишь то, что видел, не умел сделать далеко идущих выводов.
Однажды он приехал с Сергеем Савиным на окраину Ростова. Здесь, недалеко от конечной остановки трамвая, закладывали гигантский завод сельскохозяйственного машиностроения. Стройка раскинулась на многие километры. Николая изумил ее размах. Он удивился, что почти к каждому строящемуся зданию подходили автомашины и подъезжали дроги, груженные то кирпичом, то цементом, то стальными балками.
Строилось сразу множество зданий. Николай никогда до этого не видел в одном месте столько грузовых машин — в то время их вообще было очень мало. День стоял солнечный, морозный, дул восточный ветер — суховей. Николай чувствовал, как холод пробирается под перелицованную шинель, а люди работали в коротеньких телогрейках, весело звенели их голоса, как будто и не было холода. И что еще заметил Николай: почти все мужчины и женщины здесь молодые. Оглянулся на Сергея. Лицо парня поразило его своей взволнованностью, казалось несвойственной обычно флегматичному Савину.
— Ты что, Серега?
Савин вздохнул.
— Буду горком комсомола просить, чтобы меня перевели сюда на работу.
— А кожевенный завод?
— Что кожзавод? — Сергей с минуту помолчал. — Я готовлюсь сдавать экзамены на электрика. Все равно мне с завода уходить — у нас электриков достаточно. А тут,— он кивнул на стройку,— тут другое дело, тут новый завод — потребуются рабочие разных специальностей.
— И не жалко тебе уходить со своего завода?
— Уходить, конечно, нехорошо, сам понимаешь. Друзья-товарищи, в ячейке уже столько лет. Но тут, — указал он на стройку, — другое дело. Тут весь завод будет жить электричеством.
В станице Сергей был плотником. Не ожидал Николай, что друг увлечется техникой. Кем, на крайний случай, он мог быть? Столяром. А город, видно, повлиял на него. В технику ударился.
Однако выводы Николая о жизни города и горожан были слишком приземлены, и, понятно, поэтому стихотворные попытки в этом направлении не могли удовлетворить его уже возросший вкус. Жил в городе, видел кипучую новую жизнь, а в стихах описывал степь, традиционные крестьянские настроения, грусть о родном хуторе, воспоминания о гражданской войне. Тут все казалось более поэтичным.
Да, такие стихи, вероятно, легче писать и еще по одной причине: в этом духе немало было литературных образцов.
Когда Углов заговорил о стихах Николая, Балахонов удивленно вытаращил глаза.
— Его стихотворение? — спросил он.
— Да, его.
Николая окружили.
— Прочитай!
— Послушаем своего автора, комнатного, — усмехнулся Анатолий.
Николай взял газету, и радостное волнение охватило его. Он не заметил, что Степанюк подмигивает Анатолию,— так был полон своей радостью.
— «Землекоп», — прочитал Балахонов, заглядывая через плечо Николая в газету. — Под пролетариат тебя подводят, искусственное под естественное. Ты что же, землекоп, в самом деле Пушкиным думаешь стать? — ядовито спросил он.
Николай отвел руку с газетой и с удивлением посмотрел на Балахонова, Степанюк засмеялся. Радостное возбуждение Николая как рукой сняло. Он скомкал газету, сунул в карман, быстро оделся и выбежал из комнаты.
— Ты не прав! — услышал он, уходя, резкий голос Углова и не понял, к кому относятся эти слова: к Балахонову, Степанюку или к нему, Николаю.
С первых дней учебы в университете Николай стал постоянным посетителем РАППа (Ростовская ассоциация пролетарских писателей). Его привел туда Павленко. — Жить в большом городе, — говорил Павленко, — и не встречаться с живыми писателями, не послушать их, не поговорить с ними, какой же после этого ты будешь преподаватель литературы?!
Собрание РАППа происходило в Доме печати, в низком полуподвальном, но очень просторном зале. Николай и Павленко вошли, когда худощавый юноша читал стихи. Ястребов и Павленко сели за одним из самых отдаленных столиков.
Поблескивая стеклышками пенсне, раскачиваясь, впервые увиденный Николаем живой поэт как-то странно, почти нараспев, читал строфы о вспененном море, самолетах над городом, о недрах земли.
Если бы Николай слушал стихи с самого начала, то, возможно, они произвели бы на него иное впечатление. Но теперь ему были непонятны ни содержание, ни форма. Какое-то нагромождение неожиданных сравнений и метафор — неясная тоска автора о чем-то.
«А нравятся ли они другим?» — подумал Николай и стал смотреть по сторонам, полагая, что все присутствующие — писатели. Две брюнетки о чем-то тихо разговаривали между собой. Группа молодых людей, что сидела ближе к президиуму, внимательно смотрела на поэта. На лице председательствующего, молодого, высокого блондина, с очень большими ушами, длинной шеей и очень веселыми глазами, время от времени появлялась улыбка. Всего присутствовало человек шестьдесят. Николай и не подозревал, что большинство из них еще более случайные люди, чем он сам.
Сосед Николая справа, низкорослый, широкоплечий юноша с густой шевелюрой, смотрел на чтеца, как показалось Ястребову, подозрительно, мужчина с каштановой бородкой — с любопытством.
«Тут ясно, — решил Николай, — соседу моему стихи не нравятся, а тому, с бородкой, — нравятся».
Когда началось обсуждение, Николай удивился: кудрявый сосед хвалил стихи, говорил о высоком мастерстве поэта.
— Смотрите, — говорил он, — какие метафоры и сравнения, сколько в них свежести! Это, несомненно, шаг вперед в поэзии.
Мужчина с каштановой бородкой, наоборот, говорил, что в стихах нет живого содержания:
— Я согласен с выступавшим: здесь действительно есть свежие краски. Но куда девались люди, простые, наши советские люди, рабочий класс? Разве мы пишем ради сравнений и метафор? Я считаю, что эта поэзия для поэзии — пустая забава.
Об отрыве автора от современности сказал и председатель собрания, довольно известный писатель Александр Булыгин. Что-то непонятное Николаю говорил он о мастерстве, о форме, об искусстве.
Когда Николай попал на собрание РАППа в третий раз, то решил прочитать два своих стихотворения, которые он считал лучшими.
Стихи разругали.
Выступавший в заключение Булыгин сказал:
— Стихи написаны с чувством. Есть отдельные неплохие строки. Автор нигде не сбивается с ритма. Видимо, он в дальнейшем сможет писать. Но то, что он прочитал нам сегодня, — не литература, а удобрение, навоз для будущих хороших стихов. Автору нужно много учиться.
Николай поспешил уйти с собрания, чтобы ни с кем больше не говорить о своих стихах. Успокаивал он себя только одной мыслью, что об этом его позоре не слышал никто из близких знакомых, а с этими людьми он, вероятно, больше никогда не встретится. Но к его ужасу, на другой день в газете «Советский юг» была напечатана корреспонденция «Новые силы в РАППе». В ней называлось и его имя. В корреспонденции были и обидные слова, которые вчера так расстроили его: «удобрение», «навоз».
— Это о тебе пишут? — спрашивали Николая знакомые студенты, указывая на статью.
— Нет, что вы! — отвечал он.
— А тоже Ястребов и студент.
— Однофамилец. Случайное совпадение, — уверял Николай.
«Дожил, — думал он, — отрекаться приходится от собственного имени».
Недели две спустя в тихий вечерний час Николай шел по улице Энгельса мимо городского сада и вдруг встретился с Булыгиным. Голубые глаза Булыгина весело смотрели на толпы праздничных людей, на легковых лихачей, бесшумно движущихся по асфальтированной дороге. Николай, потупив голову, отводя в сторону взор, старался пройти мимо Булыгина незамеченным. Он боялся, что тот узнает его и скажет что-нибудь унизительное. И вдруг Булыгин остановил его веселым окриком:
— Ястребов?
Николай оглянулся. Булыгин взял его под руку:
— Почему к нам в РАПП перестал ходить?
— А зачем? — спросил Николай. — Удобрения вам доставлять? Навоз?
Булыгин поднял брови:
— Почему навоз? — И вдруг весело рассмеялся: — Выходит, вы обиделись? Напрасно. Очень даже напрасно. — Булыгин дружески подмигнул и уже серьезно спросил: — Стихи-то продолжаете писать?
Николай, вздохнув, сознался:
— Пишу.
— Ну, если пишете, то придете, — сказал Булыгин и заговорил о том, какое сложное и трудное дело литература Они прошли в аллею городского сада. При свете электричества деревья казались искусственными. Площадка, где цвели розы и струились два фонтана, была очень многолюдной. Булыгин остановился с Николаем возле этой площадки и, глядя на фонтаны и людей, говорил и говорил о труде и назначении писателя.
— Но я писателем не собираюсь быть, — взмолился Николай.
— А почему же пишете стихи?
— Да так, как-то само собой… Писатель пишет каждый день, сочиняет, а у меня это между прочим. Вот выйдешь в степь, особенно под вечер, все затихает, а мне чудится, что где-то стучат копыта, где-то стонет человек. В нашей местности отец сына убил: старик был в белых, а сын красноармейцем вернулся домой, и отец не узнал его: ночью было дело. Сами слагаются стихи. Вот убитого, неузнанного в темноте сына отец хочет сбросить с каюка, с лодки, — тут же поправляется Николай.
Николай увлекся:
— А тут и обстановка:
Вот и мучаюсь. Получается совсем не так, как хочется написать. А поэту все легко дается, он пишет каждый день.
Конечно, Николай немножно лукавил: в последнее время он все чаще и чаще думал о том, что станет поэтом, но Булыгину в этом не признался.
— А писать-то тянет? — допытывался Булыгин, внимательно слушавший парня.
— Тянет, — застенчиво, признался Николай.
— Ты вот что, товарищ Ястребов, — Булыгин перешел на «ты», — загляни ко мне завтра в редакцию «Советского юга», я там работаю и живу в том же доме. Найдешь меня в партотделе. Тащи все свои творения. Принесешь?
Николай оторопел, он явно колебался.
— Хорошо, — хрипло сказал он наконец.
На другой день он отыскал Булыгина в редакции газеты.
— Ага, пришел. Садись, — обрадовался Булыгин и с усмешкой взглянул на папку Николая. — О, да ты написал не так уж мало!
Читая вслух стихи Николая, Булыгин попутно говорил, чем плохи те или иные строки. Николай внимательно слушал, внутренне невольно соглашался с критикой и удивлялся, как же это до сих пор он не понимал, что пишет плохие стихи.
— Все дело прежде всего в том,— говорил Булыгин, стараясь попроще объяснить главное, — что ты не показываешь, а рассказываешь. А надо показывать. Стих должен быть пластичным.— И он тут же принялся читать отдельные строфы из стихов Пушкина, Лермонтова и лучших современных поэтов.— Вот смотри, как пишутся настоящие стихи…
На прощанье Булыгин дал Николаю несколько книг, в том числе две свои повести. Парню просто не верилось: вот живой человек разговаривает с ним — и он же автор книг, которые Николай держит в руках.
— Почитай, как писатели показывают жизнь, — говорил между тем Булыгин.— Ко мне заходи в любое время, сюда или на квартиру. А на собраниях РАППа ты должен бывать…
После этого Николай несколько раз бывал у Булыгина. Здесь он познакомился с его другом, писателем Кубриковым.
Однажды в присутствии Николая Кубриков прочитал Булыгину отрывок из повести. Речь шла о гражданской войне. Николаю запомнилось поле, покрытое трупами. Среди трупов идет бронемашина, и ей некуда податься. Николаю эта картина показалась очень впечатляющей. А Булыгин сказал, что она плоха и ее следует выбросить из повести.
— Не надо пугать читателя, — говорил он. — В мировой литературе создано много батальных сцен, и ужасов более чем достаточно. Чтобы не повторяться, бой надо показывать через восприятие людей. Тут всегда можно найти что-то новое, потому что каждый человек воспринимает жизнь по-своему.
Со дня близкого знакомства с Булыгиным прошло около месяца. Николай с особым интересом чртал рекомендованные ему книги, перечитывал классиков. И писать он стал по-иному. Правда, перед тем как напечатать его первое стихотворение, в редакции газеты с ним долго беседовал заведующий отделом.
— Ты на строительстве шоссейной дороги работал? — спросил он Николая.
— Работал.
— Землекопом был?
— Был. А зачем это?
— На всякий случай.
Вот почему под стихами Ястребова было поставлено «Землекоп». Возможно, без такой пометки стихотворение Николая совсем не увидало бы света. Этим словом редакция в значительной мере снимала с себя ответственность за художественные качества стихов. Слово «землекоп» было вроде брони, защищающей стихи от суровой и, может быть, справедливой критики. Прежде чем сказать о них резкое слово, каждому подумалось бы: а следует ли придираться к рабочему парню, может быть, впервые взявшемуся за перо? Редакцией, видимо, руководило и еще одно соображение. Ростовская ассоциация пролетарских писателей создалась только года за два до приезда Николая. Мало у нее было силенок, а врагов очень много. И потому показать широкой общественности имя нового молодого поэта, да к тому же рабочего паренька, для рапповцев было небезынтересно. Вот почему Николая сделали «землекопом»…
В просторной комнате светло и чисто.
За окном не шелохнется белая макушка безлистой акации. Колеблясь в воздухе, кружась и разлетаясь в стороны, роятся и падают снежинки. Их освещает свет двух фонарей, которые, казалось Николаю, плывут куда-то вместе с заснеженным перекрестком.
Николай сидит у окна в плетеной качалке. Он впервые в жизни видит качалку.
Хозяин комнаты Аркадий Симонян, черноглазый армянин, юноша с высоким лбом и крупными выразительными чертами лица, стоит около рояля. Его правая нога мерно и тихо отбивает такт, большие глаза устремлены на раскрытые страницы с нотами; гибкая рука уверенно водит смычком по скрипке; смуглая кисть руки хорошо оттеняет белый рукав пикейной рубашки. Густые, кудрявые волосы зачесаны назад.
По правую сторону от Аркадия — блондин, полысевший в двадцать три года. Он сидит у рояля. Николаю видны его широкая жирная грудь и большое одутловатое лицо. Он высоко поднимает руки и как-то особенно нежно опускает их на клавиши.
Исполняют бетховенскую сонату.
В комнате на стульях и креслах сидят молодые люди. Их человек десять. Эти люди с первого взгляда показались Николаю не простыми, да и костюмы у них лучше, чем у него, настоящие городские.
Музыка почему-то вызывала у Николая воспоминания. Вот он идет с Анютой… Сегодня он по-особенному видит ее большие красивые черные глаза. Она говорит. Но не слова передают ее мысли и чувства, а выражение глаз, улыбка, голос. И звуки скрипки словно сливаются с ее голосом. Вот что-то в музыке напомнило ему курлыканье журавлей. И он представил себе осеннюю степь, желтеющее жнивье и черную пашню. Над степью, под низко опустившимися серыми облаками, летит журавлиная стайка. Он прислушивается к их курлыканью, и кажется ему, что в этом курлыканье и радость, и горе, и что-то напоминающее ласковый голос матери… Николай тут же представил себе лицо матери, а потом Алексея и Степы. Вспомнились слова младшего брата: «А три кисточки купишь?» И ответ: «И три куплю». «На виноград-то я ему денег послал», — подумал Николай и снова стал вслушиваться в мелодию музыки.
У Аркадия Симоняна Николай оказался не случайно.
Однажды они вместе возвращались с собрания РАППа.
— Я решил, — говорил Аркадий, — объединить в небольшой кружок молодые дарования Ростова. К нам войдут художники, композиторы, артисты и писатели. Мы вам предлагаем войти в нашу группу.
— А это официальная организация?
— Нет, ничего официального, никаких платформ! — Черные глаза Аркадия выразительно округлились. — Все очень просто. Раз в неделю мы будем собираться в моей квартире. Каждый поделится тем, что он сделал.
И Аркадий стал подробно объяснять свою идею, которую, видимо, долго вынашивал. Сам он человек способный, увлекающийся, молодой, всего на один год старше Николая. Он окончил музыкальный техникум, уже в течение двух лет был режиссером в городском драматическом театре имени Луначарского, где с успехом поставил пьесы «На дне», «Мещане», инсценировки романов «Анна Каренина» и «Братья Карамазовы». Теперь Аркадий написал сюиту в стихах и начал работать над романом из жизни армянского народа. Задумал создать ряд пьес. Он увлекался философией и литературой, музыкой и театром, высказывал не зрелые, но горячие, искренние суждения. Его разносторонняя подготовка и простота удивили Николая. Было интересно и то, что Аркадия называли дальним родственником Айвазовского.
В большой многокомнатной квартире Симоняна Николай видел среди других картин и несколько репродукций с лучших работ Айвазовского. Казалось, эти копии принесли сюда живое, настоящее море. Зеленоватые, очень прозрачные волны кое-где просвечивались солнцем и будто хлестали с полотен. Николай вспомнил мелкие, в сравнении с морскими, чешуйчатые волны Дона, которые также просвечивались солнцем, арбузные корки у моста, дни безработицы.
Ни от Аркадия, ни от кого-либо из членов его семьи Николай никогда не слышал ничего подчеркивающего их родственную связь с знаменитым художником. Правда, в большом альбоме репродукций значительное место занимал Айвазовский, Было видно, что в этой квартире Айвазовского очень любят, ценят его творчество, может быть, гордятся родством с ним, но это не выпячивают.
Скрипка и рояль умолкли. Раздались аплодисменты.
Пианист поправил пенсне и посмотрел на аплодирующих. Казалось, вне рояля для него ничего не существует.
— Сейчас Алеша, — Аркадий кивнул на пианиста, — исполнит этюд из своего сочинения «Левый марш».
— Просим!
И опять аплодисменты.
«Напрасно они в ладоши бьют, — подумал Николай. — Если так будет, не жди здесь настоящей творческой критики. Ничего не выйдет из затеи Аркадия, а жаль».
С каждой минутой ему все больше и больше нравилось здесь. Только за себя боялся: не примется он на этой почве.
«А пожалуй, выйдет,— волновался Николай, — и я окажусь на месте».
Сейчас он был похож на ребенка, которого ввели в магазин игрушек: все нравится, но многое непонятно. И Николай постепенно разбирался.
Если в начале вечера лицо у него было строгое, замкнутое, то теперь оно расплывалось в улыбке, глаза сияли.
Самое большое впечатление произвели на Николая работы художника Ведерникова.
Ведерников, пока ему Аркадий не предоставил слова,сидел рядом с Николаем и все время молчал. Когда играли или что-нибудь рассказывали, он, прищурив глаза, как-то странно выпячивал верхнюю толстую губу. В такие моменты он был очень некрасив, к тому же лицо у него было бледное, кожа дряблая.
Когда Аркадий назвал его имя, он встал с кресла. Был он небольшого ровта, коротконогий, правое плечо выше левого, казался кособоким. Что-то бормоча о многолетней работе, Ведерников взял в руки прислоненные к креслу две картины и, неловко шагая, цепляясь за мебель, подошел к роялю. Установив на нем картины, Ведерников снял с них чехлы и, ни на кого не глядя, вернулся на свое место.
На одной из картин — огромный зал. На хорах — музыканты духового оркестра, внизу — мужчины в штатском, офицеры и дамы. Все эти люди взволнованы. Женщины жмутся к мужчинам, мужчины прячутся друг за друга. Их взоры с ужасом обращены в левый угол картины. А там добрую треть полотна заняли живописные фигуры матросов и красногвардейцев. В их руках винтовки, над головой матроса высоко поднятая граната.
На вторую картину Николай сначала не обратил внимания. Она была значительно меньше по размеру. На первый взгляд, в ней не было ничего особенного. На переднем плане сидел буденновец и играл на гармонике. Рядом с ним — красивая девушка. Она задумчиво слушала игру. Тут же — еще несколько парней и девушек. А за теплушками, далеко-далеко — степь с курганами, такая же, как вокруг родного хутора. На самом горизонте — нежная синева. И вдруг Николая что-то взволновало в этой далекой зовущей черте горизонта, как будто с нею были связаны мечты о неведомых краях. И вспомнились ему знакомые красноармейцы, и начали вставать перед ним картины отошедшей гражданской войны.
Николай с удивлением посмотрел на Ведерникова. Начали высказываться. Николай слушал и не мог понять, хвалят или ругают. Ему становилось неприятно от витиеватых пространных рассуждений. С досадой он прервал одного из говоривших:
— Все это не то… Я никогда не видел картин больших художников, а теперь я вижу их и вижу впервые живого художника… Опять не то. Я хочу сказать — хорошие картины. В них я узнал знакомых людей…
Кое-кто улыбнулся.
Николай высказал свое мнение не потому, что нужно было что-нибудь сказать — он мог и промолчать, но картины произвели на него большое впечатление, а радоваться, ни с кем не делясь, он не мог.
Ведерников понял Николая. Он был рад, что картины произвели на этого парня хорошее впечатление. Ведь только минуту назад, глядя на них, художник с ужасом думал: «Да ведь это же малярная работа!» И он ругал Аркадия за то, что тот уговорил его показать картины. Но едва Николай высказал свое мнение, лицо Ведерникова покрылось румянцем.
Домой Николай возвращался с Ведерниковым. Снег уже не падал. Из-за облака, похожего на льдину, показался полный месяц. И сразу на улице, до этого слабо освещенной фонарями, стало видно как днем. Вокруг не было ни души. Морозный воздух приятно обжигал лицо.
Николай все еще находился во власти настроения, вызванного картинами, музыкой и чтением. Глядя на Ведерникова, он думал о том, как обманчива бывает внешность. «Маленький, смешной и губа толстая, а сколько силы! Вот уж никогда не подумал бы по наружности, что это художник! Да и хороший».
Николай стал спрашивать художника о людях, что были на вечере, но Ведерников на все вопросы отвечал односложно.
— Вы что-то говорили сегодня о многолетней работе? — спросил Николай. — Я вас не понял.
— Вот над этими вещами,— Ведерников шевельнул картинами, — я проработал больше четырех лет.
— Больше четырех лет! — удивился Николай. — Что же вы все это время делали?
Ведерников усмехнулся:
— Раз десять замазывал, потом возвращался к старым вариантам. Бывали дни, переворачивал все вверх дном, чтобы отыскать старый эскиз картины. Бывало и так: один квадратный вершок не удовлетворяет, начнешь писать, смотришь, и вся картина пошла по-другому. А то станешь изучать технологию красок, фактуры… Вам это скучно слушать?
— Ну что вы!
— Изучаешь, — горячо продолжал Ведерников, — композицию, колорит, перспективу. Сидишь над классиками, смотришь, как они делали, читаешь монографии. А то бросишь все и пойдешь бродить по рынкам, вокзалам, судам, проберешься в порт. И все записываешь в блокнот, стараешься запомнить интересный поворот головы, характерное выражение лица. Всего не расскажешь. А сколько сомнений! То кажется написал слишком общо, то обвиняешь себя в натурализме — все до мельчайшей бородавки на лице передано.
Николай слушал и удивлялся — и тому, о чем говорит Ведерников, и тому, что он вдруг так разговорился.
— Четыре с лишним года! И каждый день рисовали?
— Каждый день писал. У художника не должно быть ни одного дня без линии. Я знаю, что сомнения решаются кистью. Вы читали Дарвина?
— Н-нет, — смутился Николай.
— Он говорит, что у домашней утки кости крыльев весят меньше по отношению к весу тела, чем у дикой, и это он приписывает тому обстоятельству, что домашняя утка меньше летает, а больше ходит.
Ведерников с увлечением заговорил о Дарвине.
«Вот это здорово! — думал Николай, — он и Дарвина читал, а целый вечер сидел таким тихоней. Угадай после этого человека!»
Ведерников говорил негромко, жесты и мимика его оказались до такой степени выразительными, что Николай подумал: его понял бы человек, даже не знающий русского языка. Ведерников свободно говорил все, что думал, чувствуя, что Николаю эти слова не покажутся смешными.
— А нельзя ли мне посмотреть вашу мастерскую? — спросил Николай.
— Почему же нельзя, пожалуйста. Приходите завтра вечером.
Они остановились. Поставив на снег картины, Ведерников подал Николаю руку. Тот порывисто и горячо схватил ее и пожал так, что художник невольно поморщился и подул на пальцы, склеившиеся от пожатия. Губа его при этом смешно выпятилась.
«Замечательно! — думал Николай, прислушиваясь к шагам удаляющегося художника. — Четыре с лишним года!» Он представил его коротконогую фигурку шныряющей на вокзале, в порту, на рынке. «Настоящий художник!» Николай вспомнил картину, изображенного на ней буденновца, красивую девушку, сидящую рядом с ним: «Как живые! Несомненно, он где-то видел это. И такой простой человек».
В общежитии спали.
«А что же я не спросил у него адрес? Придется завтра узнать у Аркадия. Четыре с лишним года!»
У Ведерникова небольшая квартира из одной комнаты и террасы. Он холостяк. Это видно по обстановке. На кушетке, на стульях и столе — всюду наброски, зарисовки, незаконченные этюды, на стенке — репродукции с картин великих художников. В большом шкафу — книги в дорогих переплетах. Некоторые на иностранных языках.
Ведерников, особенно не следя за модой, все же старался не отстать от товарищей. В черной бархатной куртке, с длинными, беспорядочно лежащими волосами, был в приподнятом, оживленном настроении. Сегодня он выглядит больше художником, чем вчера в комнате Аркадия. Как только Николай снял свою перелицованную шинель и повесил ее рядом с пальто Ведерникова, художник, тряхнув волосами, кивнул на дверь и сказал:
— Пойдемте в мастерскую.
Николай вошел вслед за Ведерниковым в темное прохладное помещение. Щелкнул выключатель, и перед глазами Николая оказалась большая терраса со множеством полотен на стенах, с мольбертом посредине. Тут и пейзажи, написанные акварелью, и портреты, и что-то начатое углем, и целые полотна, замазанные и снова загрунтованные. Николай улыбнулся и кивнул, словно близким друзьям, двум вчерашним картинам.
Ведерников, как богач, радующийся своему богатству, тоже смотрел вместе с Николаем картины, стремясь узнать по лицу гостя, что ему нравится, что нет, и мысленно становясь на точку зрения Николая. Здесь, в этой мастерской, были все его интересы, привычки, без которых он не мыслил своего существования, тут он не казался смешным, ноги не цеплялись за вещи, движения были уверенны. Нет, дома он решительно иной человек!
Художника заинтересовало лицо Николая с широкими скулами. Хотелось тут же сделать с него набросок, и Ведерникову приходилось бороться со своим желанием.
«Ничего, — думал он, — уйдет — запишу».
Немного смущенным голосом Николай говорил:
— Может, так не принято. Я ж из станицы. Ничего подобного раньше не видал. Да и картины ваши понравились. Вот и напросился к вам в гости.
— Пожалуйста, не стесняйтесь.
— Степь. Хорошо! — проговорил Николай, останавливаясь возле одной из картин.
Ведерников удовлетворенно улыбнулся.
— Это я писал во время каникул в Богаевской станице. Я ведь в художественном техникуме преподаю. И помучился же я тогда!
С каждой картиной у него было связано много воспоминаний.
Николаю нравились больше пейзажи и простенькие рисунки, где отражался знакомый быт казаков. О картинах иного содержания он думал: «Кто его знает, может быть, они хорошие, но я их не понимаю».
От Ведерникова не ускользали даже эти не произносимые вслух оценки.
После осмотра картин они вышли из мастерской в комнату.
«А холодно там. Как он работает в таком холоде?»
Ведерников убрал с кушетки несколько рисунков и пригласил:
— Садитесь. Давайте отдохнем, а то я вас совсем замучил. — И сразу же заговорил о своих планах на будущее, о работе. Николай часто перебивал его вопросами, и Ведерников с удовольствием отвечал. Они оба увлеклись, не мешали высказывать все, что было у каждого из чих на душе.
Только в первом часу ночи вспомнили, что уже поздно. Николай собрался домой. Ведерников пошел его провожать.
— Хоть пройдусь с вами, подышу свежим воздухом, — сказал он.
«Бедняга, потому-то он так и бледен, что мало пользуется свежим воздухом», — подумал Николай.
…И вот теперь в фельетоне все эти знакомства Николая были названы подозрительными! Тучи над его головой сгущались.
Николай ушел из города за Дон, в низину, что широко распахнулась от речушки-ерика, покрытой литым панцирем льда, до самого Батайска, синеющего на горизонте. Низину огибала полудугой высокая железнодорожная насыпь. То в сторону Батайска, то в город шли поезда. Но здесь, километрах в двух от насыпи, не слышен был их грохот, и Николаю ничто не мешало наедине обдумать свое положение, чтобы на предстоящем комсомольском собрании быть подготовленным, не наделать сгоряча ошибок. Николай чувствовал: у его есть враги, которые только и ждут, чтобы, он ошибся. Но почему враги? В своей комсомольской среде — и вдруг враги? Как могло случиться, что он уже успел нажить врагов среди товарищей?
Все это надо обдумать, решить. Если виноват, то честно признаться, а если не виноват, держаться, и пусть будет, что будет.
Николай перебирал в памяти дни своей жизни в городе, перешел к более далекому прошлому. Одна за другой проходили картины детства, комсомольской юности.
«Нет, кажется, ни в чем я не виноват, — заключил свои воспоминания Николай. — Жизнь у меня правильная. Вот только с профессором получилось что-то не так… Но Лермонтов! Голова кругом идет».
В город Николай возвращался успокоенный, уверенный в своей правоте.
О том, что на закрытом комсомольском собрании должно решиться его персональное дело, Николай узнал за неделю. Жил он эту неделю как во сне. Всегда был хорошим комсомольцем, и вдруг создана комиссия, столько разговоров!
«Но разве я не был прав, — думал Николай, — разве Валентин Евгеньевич не переменился с тех пор? Ведь не рассказывает же он теперь безобразные анекдоты. Почему же меня должны наказывать? Неужели не поймут?» Он был убежден, что виной всему фельетон. А написал его, по мнению Николая, Добровольский. «Этот человек ненавидит меня. Ни с кем другим в университете я не ссорился. А Добровольского я узнаю во всем: и стиль его злобный, вычурный, как и сам он».
После попытки Редько примирить Николая с Добровольским у них сложились довольно своеобразные отношения. Они встречались в аудиториях, в читальне, иногда на улице. При встречах здоровались. Первым всегда спешил поздороваться Добровольский. Николаю казалось, что тот боится: а вдруг Ястребов пройдет мимо, сделав вид, что не заметил его? Каково перенести это при дьявольском самолюбии! Иногда Добровольский что-нибудь говорил Николаю или о чем-либо спрашивал его. Ястребов отвечал учтиво, но скупо:
— Это верно.
Или:
— Я так не думаю.
— А как вы думаете? — любезно спрашивал Добровольский, желая вызвать Ястребова на более длительный разговор.
— Здесь не место и не время говорить по этому вопросу, — отвечал Николай. — Извините, я спешу.
И все.
Редько, которому случалось быть свидетелем подобных разговоров, спрашивал:
— Дружить с ним все-таки не хочешь? А ведь он человек знающий, много от него почерпнуть можно.
— Не хочу.
— Напрасно. Он же приглашает тебя в гости. Сходи хоть для любопытства.
— Больше моей ноги там не будет. Я, дедушка, мысленно тебя всякий раз ругаю, как только встречаюсь с ним.
— Хорошо, что хоть мысленно, — смеясь, говорил Афанасий. — А за что же такая немилость ко мне?
— За то, что ты меня заставляешь лицемерить: разговаривать с ним, здороваться. Ведь он так же ненавидит меня, как и я его.
— Нельзя же не здороваться! — возражал Редько. — Долг вежливости.
— Вот этот долг для меня нож острый.
И Николай здоровался и ненавидел. Он был убежден, что автором фельетона является Добровольский. И вдруг Углов сказал ему однажды:
— Степанюк написал.
— Степанюк! — вскричал Николай. — Быть этого не может! Все-таки живем в одной комнате, вроде как свои ребята.
— Я точно знаю, — уверил его Углов. Помолчав, добавил: — Теперь для меня ясно, что это клевета. В университете организовался блок негодяев, по недоразумению имеющих партийные и комсомольские билеты. И удары наносят не только по тебе… Ты, так сказать, пешка, целятся в партийное и комсомольское руководство.
Решительный день наступил.
С утра на город выпал обильный снег. Тротуары и крыши — все блестело ослепительной белизной. Воздух на улице стал чище. И оттого было очень томительно в переполненном актовом зале. Люди сидели на стульях, за столами, на столах, стояли в проходах. Николай разговаривал у широкого окна с Угловым, Редько и Сергеем Савиным, которого специально пригласили на комсомольское собрание. Говорили о каких-то пустяках. В одной из групп тихо запели.
Пели в три голоса. Хорошо брал низкие ноты баритон. Какую-то особенную задушевность придавал песне тенор — мягкий, ласковый. Мотив простой, в словах тоже вроде ничего особенного, а песня брала за сердце.
Потом, когда песня уже смолкла и кругом заговорили, Николай мысленно все еще повторял:
На долгие годы запомнилась ему эта песня, и белый-белый город, и голубое ростовское небо, глядевшее в широкие окна актового зала, и это множество людей, одни из которых были его друзьями, другие — врагами.
Углов изложил выводы комиссии. Из его доклада вытекало, что Ястребов ни в чем не повинен и напрасно затеяли всю эту историю.
Председательствовал Редько. Лицо Афанасия было бледно, и оттого особенно ярко проступали на нем веснушки и родинка. «Из-за меня волнуется дедушка, — подумал Николай. — А люди будто неплохо настроены?» Его удивило, что в такой час в голову приходят самые обыкновенные мысли.
Начались прения.
Слово попросил Павленко.
— Товарищи! — горячо сказал он. — Конечно, все мы не красные девицы и в институте благородных девиц не воспитывались. С нашим братом может быть иногда и неприятность… Я лично против Ястребова ничего не имею, но бюро комсомольской ячейки и Углов, как секретарь, ведут неправильную линию. Вместо того, чтобы одернуть парня, вовремя его наказать, они выступают здесь, стараясь замазать бесспорные факты…
Николай не удивлялся тому, что говорил Павленко. Он слышал от старшекурсников, что в прошлом году Углов и Павленко дружили. Тогда секретарем был Павленко. Но на отчетно-выборном собрании Углов выступил с резкой критикой работы бюро. И надо же было так случиться: секретарем избрали Углова! С этого времени Павленко, где только можно было, выступал против Саши. Редкое собрание проходило без его критического выступления.
Потом на трибуну поднялся Степанюк.
— Прежде чем говорить, — сказал он мягко, — разрешите мне задать несколько вопросов Николаю Ястребову.— Степанюк повернул лицо к президиуму собрания.
— Задавай, — кивнул Редько.
— Как ты, товарищ Ястребов, смотришь на рабочий класс?
— Так же, как смотрим все мы, комсомольцы. Рабочий класс — могильщик капитализма. Но к чему ты задаешь мне такой вопрос? — с изумлением спросил Николай, встречая взгляд голубых глаз Степанюка.
Не ответив Николаю, Степанюк задал ему следующий вопрос.
— А на интеллигенцию?
— Обыкновенно, как все мы.
— А поточнее?
— Зачем ты меня экзаменуешь? — возмутился Ястребов.
— А не говорил ли ты, что интеллигенция — наш враг? — продолжал спрашивать Степанюк.
Николай пожал плечами.
— Никогда я такой глупости не говорил и говорить не мог.
— А вспомни разговор в комнате, после ссоры с Добровольским. Что ты тогда Углову говорил? Углов, надеюсь, отрицать не будет, да и ты скажешь правду.
Николай побледнел.
— Постой, постой… Ну да, я выразился тогда не совсем правильно. Я сгоряча сказал, что старая интеллигенция ненавидит нас. Но Саша… товарищ Углов, — быстро поправился он, — напомнил мне о Моисейченко, и я тут же согласился, что ошибся.
— Ошибся? Хорошо, — проговорил Степанюк. — Но ведь твоя ссора с Добровольским была до столкновения с профессором?
— До столкновения.
— А в день столкновения с профессором ты спорил с товарищем Редько по вопросу о старой интеллигенции?
— Да, мы что-то говорили насчет старых профессоров опять из-за Добровольского. Речь у нас зашла о нем. Но я ничего плохого не хотел сказать о старой интеллигенции.
— Опять Добровольский виноват? — Степанюк засмеялся. — Как что — сейчас же на сцену Добровольский. Столкновение с профессором — я думаю, товарищи, это для всех ясно — вызвано совсем не благородным негодованием, а неправильным, не ленинским отношением Ястребова к старой интеллигенции, в частности к старой профессуре. А если прибавить к этому моральное разложение Ястребова, какую-то грязную любовную историю, о которой здесь ни слова не сказали ни Углов, ни другие члены комиссии, его связи с богемствующими кругами каких-то там художников, писателей, музыкантов, о которых он частенько рассказывает, захлебываясь от восторга — я живу с ним в одной комнате, — то станет ясно, что человек этот загнил, разложился. Ему не место в наших рядах. Я предлагаю исключить его из комсомола! — горячо сказал Степанюк.— И указать бюро ячейки, что оно ведет неправильную линию воспитания комсомольцев.
«Исключить!» Николай представлял себя вне вуза, но вне комсомола не мог представить. «Я шесть лет в организации!— мысленно кричал он на весь зал. — С пятнадцатилетнего возраста защищал Советскую власть с оружием в руках. Нет, из комсомола я не уйду».
— Отдельно предлагаю рассмотреть вопрос об Углове,— продолжал Степанюк. — В угоду товарищеским отношениям Углов не сказал всей правды о Ястребове.
«Прав Саша, — думал Николай, слушая заключительные слова Степанюка, — дело тут не во мне».
Сразу же после Степанюка выступили Карабачинский, Пашин и Гринберг. Они тоже требовали исключения Ястребова из комсомола и громили Углова.
Николай готов был резко оборвать каждого из них и, чтобы сдержаться, плотней прижимался к спинке стула. Взволнованным взглядом он посмотрел на окружающих. Лица почти у всех были возбуждены. Редько сидел бледный, у Саши Углова дергался под левым глазом живчик, рябой Самойлов, еще больше ссутулившись, буравил глазами лица выступающих.
Слово попросил Редько.
— Ястребова я знаю на протяжении нескольких месяцев. Это человек растущий, настойчивый и целеустремленный. Правда, в работе он иногда несколько разбрасывается. Видимо, сказывается недостаток культуры. Но с годами это должно измениться. С выводами комиссии я совершенно согласен. Что касается выпивки, то случай этот для него не характерен…
Николай ожидал, что Редько начнет рассказывать подробно. «Неужели и Анюту втянет?» — с неприятным чувством подумал он.
— Вызван этот поступок, — продолжал Редько, — целым рядом причин личного порядка, о которых, по-моему, нет смысла распространяться, и напрасно Степанюк заговорил о них. Но я утверждаю со всей откровенностью, что ничего грязного, недостойного, позорящего комсомольца тут нет. Доводы Степанюка, Гринберга и ряда выступающих товарищей об отношениях Ястребова к старой интеллигенции неосновательны. Я с ним спорил, я много раз с ним говорил, следовательно, мне лучше известно, в чем Ястребов допускал неточности. Но антиленинского отношения к старой профессуре у него нет. Есть у Ястребова недостаточное знание этой очень пестрой в социальном отношении среды. За что следовало бы ругать его сегодня здесь? За то, что ему не хватает выдержки. Нет у него должной собранности. А комсомолец всегда обязан быть собранным, дисциплинированным. Понял? — сказал он, обращаясь к виновнику собрания.
— Понял! — громко ответил Николай.
В зале засмеялись, и этот смех несколько разрядил напряжение.
— Слово предоставляется комсомольцу Сергею Савину, рабочему государственного кожевенного завода.
К трибуне медленным шагом подошел Сергей. Он откинул рукой назад волосы и заговорил спокойно:
— Меня удивляет вся эта мура. Чего некоторые тут надрываются? Чего печенку себе портят? Парень наш, мировой парень. Комсомолец — гвоздь! Видал его в бою. Не трус… Надежный товарищ. Таким я знаю его с детства. Не забулдыга, не хулиган. Если его исключать из комсомола и гнать из вашего университета, тогда кого же держать в ячейке? Кого учить? Чужаков?!
Говорил Савин убежденно, держался просто. Эта простота и спокойствие больше всего подействовали на комсомольцев.
После выступили Самойлов, Таня Моисейченко и еще человек пять. Записавшихся было не меньше двадцати, но с мест уже кричали:
— Хватит!
— Кончай прения!
Голосовали два предложения: первое — исключить Ястребова из членов комсомола, второе — указать ему на недостойные комсомольца поступки. Когда началось голосование, Николай опустил глаза. И все-таки он видел, что за второе предложение голосовало подавляющее большинство присутствующих.
Вскоре после собрания Николай почувствовал: Степанюк продолжает травить его и в университете, и в общежитии. Для этого он умело использует других, в частности Анатолия Балахонова, о котором сам же говорил на комсомольском собрании, как о разложившемся.
Как-то Николай сидел за столом, обложившись учебниками по электротехнике. Этого предмета он боялся. На вступительных экзаменах засыпался по физике, не лучше могло получиться теперь и с электротехникой. Все-таки знал он ее не так уж хорошо.
Анатолий, насвистывая фокстрот, готовил прибор для бритья, остальные ребята тоже занимались всяк своим делом.
— Толик, — нерешительно сказал Николай.
— Что?
— Проверь меня по электротехнике.
— А ты все знаешь?
— Как будто все.
Анатолий с глубокомысленным видом подошел и сел напротив Николая.
— А закон Менделя Маранца знаешь?
— Нет.
— Не знаешь этого закона! — изумился Анатолий.
— Нет, — тише проговорил Николай, мысленно листая книги по электротехнике.
— А как же ты, сеньор, готовился к сдаче зачета?
— В учебниках нет этого закона.
— В учебниках! — Анатолий презрительно фыркнул. — Это тебе, дорогой Николаша, не средняя школа — по учебникам. Студентом стал. Профессора требуют широкой пода готовки по изучаемым вопросам, профессора — не учителя. А Богословский, знаешь, какой — зарежет! — внушительно говорил Анатолий, свирепо водя темными зрачками.
— Надо будет почитать и закон Менделя Маранца, — согласился Николай.
— Да у меня где-то есть эта брошюра. — Анатолий начал копаться в своих книгах. — Ты, наверно, на мельнице мешками плечи натирал, когда Богословский читал об этом очень важном и интересном, недавно открытом законе.
— Возможно и так, — согласился Николай.
На лекциях он бывал не всегда, дня на три в месяц отрывался для работы в студенческой артели грузчиков. Ему известно было, что некоторые студенты к Богословскому ходят сдавать экзамен раза по четыре. Лингвистов, далеких от электротехники, профессор особенно не любит, считая занятия с ними пустой тратой времени и ругая Наркомпрос за введение в их программу электротехники, технологии металлов и машиноведения.
— Какие к черту литераторы! — говорил он коллегам.— Греческой литературы нет в программе, а технологию металлов ввели. Ну где тут логика?..
И профессор любил «засыпать» лингвистов, срывал на них зло.
…Анатолий поднял голову над тумбочкой с книгами, с самым серьезным видом подержал палец у виска, силясь что-то вспомнить, потом, тряхнув кудрями, сказал:
— Оказывается, я эту брошюру на днях сдал в библиотеку. Ну что же, придется записывать с моих слов. — И он начал диктовать: — Пустота, погруженная в пустоту, теряет в своем весе ровно столько, сколько весит вытесненная пустота, плюс-минус объем пространства, занятого пустотой…
Формулировка и в самом деле была похожа на обычные казуистические определения, нередко встречающиеся в трудах ученых. Анатолий диктовал медленно, ровно, без тени иронии.
Николай с ожесточением бросил на стол тетрадь и отошел к своей кровати. Шутливую формулировку он принял за насмешку.
Углов посмотрел на лицо Николая и, тоже волнуясь, заходил по комнате.
— Толик! — громко сказал он. — Стыдно! Стыдно, товарищи! — он до хруста сжал пальцы. Задергался живчик под его левым глазом.
Анатолий с комической серьезностью начал оправдываться:
— Я же не виноват, что он попал впросак, в этом пусть винит своих родителей. — И как ни в чем не бывало, снова начал готовить прибор для бритья.
— Толик, ведь Ястребов обратился к тебе, как к старшему товарищу. Ты же второкурсник, учишься на физико-техническом, к кому же еще в нашей комнате обращаться по этим вопросам?
— Подумаешь, интересно мне возиться с ним.
— Но с тобой же возятся. Как же ты будешь учительствовать. Ведь ты будешь учительствовать, а у тебя такие взгляды, — продолжал Углов.
— Не знаю, как я буду учительствовать, наверное, хорошо. Я живу легко и умею жить просто, не задумываясь. Тяжело это — задумываться… Ближнему другу — а мои ближайшие друзья, кто пьет со мной и ходит к бабам, — или человеку, которому я хочу насолить, я посылаю доплатное письмо и в этом письме выругаю его за то, что он за последние гроши выкупил эту бумажку. О, я знаю, много тогда выльется искренних и сильных слов, еще недостаточно использованных литературой.
Николай понимал, что Балахонов говорил серьезно.
— Я люблю женщин не иначе, как только женщин, и они безумствуют из-за меня. Ты меня презираешь, — сказал он Углову, — но где плоды твоей работы? Ты посмотри на Степанюка. Цицерон на словах, он подобрался к портфелю крайбюро пролетстуда, пожимает руку работникам крайкома партии и крайкома комсомола, получает краевую стипендию и в двадцать два года уже растит себе брюшко. Он умеет вовремя смолчать, вовремя сказать удачное слово. Переделал ты его? Нет, ты его обозлил. Николай, посмотри, сидит, зубрит. И это называется — хороший студент. Так это же патефонная пластинка! На нее что угодно накрути, она потом раскрутится…
Николай знал, что это сравнение во время спора однажды приводил Степанюк.
— Гожусь ли я в учителя? — продолжал Балаханов. — Да, гожусь. Я все могу сделать, потому что все делаю шутя, потому что всегда сумею найти тропу к человеку. Выпили вместе — друзьями стали, сходили на пару к бабам — еще большие друзья. А ты что? Ты-то годишься в учителя? Борешься за партийную этику, а сам жену с ребенком бросил. Борешься за правду, а сам карьеру себе пробиваешь…
Опять знакомые Николаю доводы: он их слышал от Степанюка, Павленко и целой группы комсомольцев своего факультета. Да и слова те же. Углов действительно развелся с женой. Но на это, вероятно, были основательные причины. А в университете Сашу трудно в чем-либо упрекнуть, к девушкам он относится по-комсомольски, и карьеризма у него Николай не замечал.
«Вот она, патефонная пластинка-то, — зло подумал Николай. — Анатолию накрутил Степанюк, а он теперь и раскручивает. Знакомые песни, знаем, в каком магазине продаются».
Николай перевел взгляд на Степанюка. Тот угрюмо смотрел на Балахонова, ему, наверно, не понравилось, что Анатолий попутно задел и крайбюро пролетстуда… А у Саши под глазом чаще задергался живчик, дрогнул голос:
— Толик, где ты взял всю эту гадость? Или, может быть, ты шутишь?
Анатолий глубоко вздохнул:
— Я сын мелкого чиновника, а мелкие чиновники всегда были шутники. Они любили пошутить: шутка в их положении многое скрашивала. Брали взятку — шутили, их третировали — они отделывались этакой шуточкой и принимали издевательства за проявление дружбы. Можно ли было прожить без шуток в той подлой, идиотской жизни? — Анатолий повысил голос. — В гражданскую войну ушел из нашей семьи отец. Мать стирала белье богатых, а я жил на улице, ел на улице и шутил. В школе мне легко давалась математика. На экзаменах я писал обычно шпаргалки и делал доброе дело шутя, потому что всегда любил шутку. Сердобольный и не очень умный учитель математики пророчил мне великое будущее. И вот оно: мои доходы не удовлетворяют моих потребностей. Люди в тысячу раз бездарней и глупей меня живут в десять раз лучше. Я перестал уважать всех так называемых великих людей. Что же мне осталось делать? Надо шутить. А чего ты добиваешься? — На этот раз Анатолий говорил серьезно.
Николай подбежал к нему, схватил его за косоворотку и начал трясти:
— Замолчи, иначе я вырву твой поганый язык! — и выбежал, упрекая себя за невыдержанность.
Через два дня после «веселого» разговора Николай пришел к выводу: из этой комнаты ему нужно уйти. Он спросил Углова:
— Ты, Саша, не будешь на меня обижаться?
— За что?
— Я хочу уйти от вас к дедушке.
— Редько перетягивает?
— Да нет, тут другое. — Николай посмотрел на дверь комнаты и, понизив голос, проговорил: — После всего, что произошло на собрании, я не могу равнодушно видеть Степанюка. А он, сам знаешь, может подвести.
— Это верно.
— Я при таких обстоятельствах могу и сорваться. Ты извини, Саша, но мне кажется, что у нас в комнате потому и разговоров серьезных не бывает — ни о политике, ни об искусстве, что Степанюк давит всех. В лучшем случае, услышишь что-нибудь о Мери Пикфорд, Дугласе Фербенксе. По-моему, он разлагающе действует и на Толика. Надо его перевоспитывать.
— Балахонова? — с сомнением спросил Углов.
— Да, его, — убежденно проговорил Николай. — К вам на мое место перейдет Борис Чугунов, он все равно с вашего отделения и курса, ему вместе с вами удобней готовить зачеты, а я пойду к дедушке… Там и еще одно место освободилось — Кузьменко ушел на частную квартиру. Так вот мы с дедушкой решили забрать Толика к себе в комнату.
Анатолий хотел уйти из этой комнаты, чтобы не быть под постоянным контролем Углова, секретаря ячейки.
— Но это же разложившийся тип!
— Ну знаешь, Саша, рано еще хоронить его. Будем за него драться.
— Деритесь.
Наступила пауза.
— Ну что ж, — Углов помедлил. — Идите с Толиком… Но ко мне заходите.
— Буду заходить! — горячо сказал Николай, беря Сашу за руку.
Какую-то особенную легкость почувствовал Николай на новом месте. Редько был рад переселению Николая: друзья не могли наговориться. Здесь, в двадцать второй комнате, Анатолий вел себя сдержанней, он часто уходил к своим товарищам.
У Николая, как и прежде, не хватало времени. До двух часов — на лекциях, с двух до четырех — в студенческой столовой, с четырех до семи — в читальне, а с семи начинается особый распорядок: по понедельникам — вечера у Аркадия, по средам — занятия университетского литературного кружка, по субботам — очередные собрания в РАППе. А еще и почитать хочется, и написать, и в кино сходить — везде поспеть хотелось.
В общежитие он приходил поздно, радостный и взволнованный. Редько в это время обычно сидел за столом. Если Анатолия не было в комнате. Николай подсаживался к Афанасию и начинал рассказывать, где был.
— А хорошо, дедушка! Честное слово, хорошо. Ведь я о такой жизни мечтал, когда жил на хуторе.
Редько соглашался:
— Правильно, действуй.
— А я тебя, дедушка, что-то нигде не вижу: ни в кино, ни в театре.
— У меня для этого не остается времени — то заседания, то собрания. Студпрофкомом нелегко руководить. Особенно потому, что в краевом бюро пролетстуда работает Степанюк.
Читал Николай много: и то, что непосредственно относилось к программе, и художественные произведения, и философскую литературу. Он давно уже одолел «Анти-Дюринга», с месяц трудился над «Материализмом и эмпириокритицизмом», часто заглядывал в словари и кое-что понял из этой книги. А на днях он сказал Редько:
— Знаешь, дедушка, о махизме очень много любопытного говорится в «Мартине Идене».
— В «Мартине Идене»? Нужно почитать.
— Мартин Иден резко критикует Метерлинка, — перескакивая на другое, проговорил Николай. — Но мне у Метерлинка многое нравится. Глубоко, тонко, необычно…
— А почему это ты вдруг заинтересовался Метерлинком?
— Видишь ли, дедушка, когда я читал «Мартина Идена», то встретился с именами Метерлинка, Спенсера, Ницше. Я о них до этого, пожалуй, и не слышал. Да, не слышал… Вот я и прочитал несколько пьес Метерлинка, а со вчерашнего дня решил по часу-два в день уделять Спенсеру и Ницше. Надо же знать, о чем в книгах идет речь, мы — студенты.
— Не очень-то увлекайся буржуазными философами. Они могут привести тебя к ошибочным выводам. Ты еще молодой парень, жизнь знаешь плохо, ум у тебя зыбкий. Понял?
Что он молодой, с этим нельзя не согласиться, но Редько не прав, считая, что Николай не знает жизни: вон какие университеты прошел до университета!.. Ястребову казалось: жизнь он знает отлично.
Но, знакомясь с материалистами и буржуазными философами, он многое воспринимал поверхностно. Еще рано было ему браться за такие книги, но это Николай понял только много позже.
Как-то в комнату, постучавшись, вошел Степанюк. Кивнув Редько, он сухо обратился к Николаю:
— Я к вам по делу. Вот занес вызов в правление университета. — В голосе Степанюка ирония. — Там Углова не будет, и Савина туда не пригласят. — И вышел.
С горьким чувством Николай бродил по комнате. Вызов в правление университета для него был неожиданным. Значит, «дело» еще не кончено, Хорошо еще, что идти придется к Иннокентию Тимофеевичу, это единственное утешение.
Разговоры о Филиппове ходили среди студентов самые удивительные. Вроде бы с чудинкой человек. Не профессорскую квартиру занимал Иннокентий Тимофеевич, а одну небольшую комнатку. Не имея семьи, усыновил двух беспризорных мальчишек. Расходуя не так уж много на себя и своих питомцев, остальные деньги он сдавал в кассы МОПРа и обществ «Друг детей» и «Долой неграмотность:». Но за эту чудинку и за весь его путь от политкаторжанина до профессора обществоведения уважали и любили Иннокентия Тимофеевича пролетарские студенты — все эти бывшие рабочие, крестьяне и красноармейцы, живущие впроголодь в плохо отапливаемых общежитиях, зачастую не снимающие верхней одежды в аудиториях.
Иннокентий Тимофеевич, сгорбившись, сидел в кресле, обитом кожей. Николай удивился бы, если бы ему сказали, что профессору только тридцать семь, — он выглядел больным стариком. Предстоящее объяснение не сулило ничего хорошего, но на Филиппова Николай все же надеялся.
— Как же нам быть с вами? — спросил Иннокентий Тимофеевич после того, как Николай, волнуясь, рассказал ему о своем столкновении с Валентином Евгеньевичем и о комсомольском собрании.
— Не знаю, Иннокентий Тимофеевич, — откровенно сказал Николай. Помолчав, он неуверенно добавил: — Дайте мне возможность перевестись в другой город. «Зачем это! Бросить Ростов, товарищей!» — подумал он, тут же раскаиваясь в своих словах.
— Это не то, — сказал Иннокентий Тимофеевич.
— Тогда не знаю.
— Вам придется извиниться перед Валентином Евгеньевичем.
Кровь бросилась в лицо Николаю. Несмотря на чувство глубочайшего уважения к Иннокентию Тимофеевичу, он сразу потерял самообладание.
— Извиниться? — спросил он, вставая.
— Да. Сядьте.
Николай сел. Хмуро смотрел он на запотевшее окно, за которым, как дым из трубы, курился и курчавился снежок.
— Я понимаю вас, — не повышая голоса, продолжал Иннокентий Тимофеевич, — и верю вам. Знаю, что вы поступили так из честных побуждений.
Николай глядел на простенький серый костюм Иннокентия Тимофеевича, на его худые, тонкие, чуть вздрагивающие пальцы, которые из-за худобы казались очень длинными.
— Я извиняться не буду, — решительно сказал Ястребов.
На бледных щеках Иннокентия Тимофеевича показался жидкий, болезненный румянец, в глазах сверкнуло что-то, стальное.
— Нет, извинишься, — сурово произнес Иннокентий Тимофеевич.— Ты человек наш и обязан понять. Разве ты не знаешь особенностей нашего университета? И на кафедрах, и на студенческих скамьях люди-то самые разные.
Николаю неудобно стало, что он заставил волноваться уважаемого и очень больного человека.
— Ты был прав по существу, — подчеркнул Иннокентий Тимофеевич, — но ты в тысячу раз был бы более прав, если бы сказал профессору то же самое в иной форме.
Николай слушал Филиппова, говорившего теперь мягким, задушевным голосом, и ему все стало представляться в ином свете: и столкновения с Валентином Евгеньевичем и Добровольским, и разговоры у Аркадия и Ведерникова, и борьба в комсомольской ячейке, и многое другое. Слова Иннокентия Тимофеевича были убедительными именно потому, что их говорил совершенно безупречный человек. Стало стыдно за свое кичливое заявление.
— Простите, Иннокентий Тимофеевич, — произнес Николай с чувством раскаяния.
— Ну вот и хорошо, вот и прекрасно. — Лицо Иннокентия Тимофеевича посветлело, часть морщин будто разгладилась.— Вы сейчас пойдете в университет и извинитесь.
Валентин Евгеньевич с утра сидел в своем кабинете за столом, заваленным бумагами. Он просматривал новые наркомпросовские циркуляры, плохо отпечатанные на стеклографе.
Сквозь запотевшее окно дневной свет пробивался тускло, и бумаги освещала настольная лампа.
Подышав на стекла темно-синих очков, профессор взял в руки циркуляр и стал читать. Почти всегда это занятие выводило его из себя. Валентин Евгеньевич вскочил:
— О, пустомели, что делают, а?! — И снова сел. Чтение продолжалось до тех пор, пока какой-нибудь пункт циркуляра снова не выводил его из себя.
В высшей школе был период «искания новых форм». Пересматривались программы. Работники Наркомпроса часто сами путались в противоречивых указаниях. Особенно отрицательно это сказывалось на изучении литературы. Учебников издавалось мало, заниматься приходилось по конспектам. Хотя многие старые учебники были изъяты, студентов на ряде кафедр продолжали учить по-старому, потому что авторы учебников и их последователи считали свою точку зрения правильной и в глубине души не соглашались, что она уже не отвечает требованиям времени.
Некоторые профессора не хотели переучиваться, не готовились к лекциям и, только поднявшись на кафедру, вспоминали, о чем они читали в последний раз. В циркулярах говорилось, что грамматика должна не учить орфографии и пунктуации, а расширять мировоззрение учащихся, стать частью психологии. О логике не было и речи. На уроках методики русского языка будущим учителям-словесникам говорили, что ученические письменные работы надо проверять так, чтобы ученики не догадывались об этой проверке. В доказательство приводились мнения всевозможных педагогов Запада.
Зачастую два преподавателя на один и тот же вопрос требовали прямо противоположных ответов только потому, что один был сторонником «формальной» грамматики, а другой «логической». С университетской кафедры говорилось, что слово «читал» — имя прилагательное, а не глагол, а «двадцать» — существительное, а не числительное. И студенту, который утверждал, что «читал» все-таки глагол, а «двадцать» — числительное, ставился «неуд».
Вполне понятно, что у слушателей получалась невообразимая путаница в голове.
Валентин Евгеньевич был заведующим отделением, он видел все это лучше других. Старый профессор боялся ответственности, да и совесть у него была неспокойна. Он не знал, как выйти из создавшегося положения, а новые указания и циркуляры еще больше запутывали дело. Все это его возмущало.
…Стряхнув с кепки снег, Николай вошел в вестибюль главного здания университета, стараясь представить себе, как встретит его Валентин Евгеньевич.
На доске для писем Николай увидел адрес, написанный знакомым почерком. «От Алеши! Прочитаю, как только освобожусь. А сейчас, пока запал не пропал, надо к Валентину Евгеньевичу».
Он остановился перед кабинетом, постоял несколько мгновений, посмотрел по сторонам. «Как будто никто не видит. Да что я, боюсь, что ли, кого?» Он выпрямился и решительно постучал в дверь.
— Войдите.
Слегка нахмурившись, Николай вошел в кабинет.
Валентин Евгеньевич с изумлением и растерянностью посмотрел на Ястребова.
Николай, несмотря на свое возбужденное состояние, все, же обратил внимание на портреты Пушкина, Лермонтова и Толстого.
«У Валентина Евгеньевича в кабинете портрет Лермонтова… Не ожидал». Николай переступил с ноги на ногу, потом, глядя на свои сапоги, глухо сказал:
— Здравствуйте, Валентин Евгеньевич…
— Здравствуйте, молодой человек, — ответил профессор.
— Валентин Евгеньевич, простите меня за ту грубость,— проговорил Николай, подымая глаза и встречая внимательный взгляд профессора. Лицо Николая залил густой румянец, но глаза смело смотрели на Валентина Евгеньевича.
Профессор облегченно вздохнул.
— Хорошо, — сказал он, — прощаю. Я сам немного виноват. Вы не знаете, кто поднял этот вопрос? — Валентин Евгеньевич был недоволен тем, что «начальство» узнало об этом.
— А разве не вы?.. — Николай запнулся. У него чуть не сорвалось с языка: «ходили жаловаться», но он вовремя спохватился.
— Что вы, что вы! — поспешно сказал Валентин Евгеньевич, и лицо у него сделалось испуганным, он, протестуя, замахал руками. — Да разве я способен?!
Николай пожал плечами:
— Не знаю.
Наступило молчание.
«Теперь можно уходить», — подумал Николай и снова переступил с ноги на ногу.
— Я пойду, вы уж извините, пожалуйста…
— Ничего, голубчик, ничего.
Николай был возле двери, когда в кабинет без стука вошел профессор Благосклонов. Николай попятился, чтобы дать ему дорогу. Вошедший был разгорячен ходьбой. Его здоровое лицо полыхало румянцем. Благосклонов хотел что-то сказать, но, увидав студента, замялся.
Пропустив профессора, Ястребов вышел.
По смущенному виду Валентина Евгеньевича и Николая Благосклонов понял, в чем дело.
— Ну что? — спросил он.
Валентин Евгеньевич догадался, о чем спрашивает его Благосклонов, и махнул рукой.
— Прощенья просил… Нехорошо все это вышло!
Благосклонов сел рядом.
— А скажите, Валентин Евгеньевич, вы верите в искренность его извинения?
Старик смутился. Он только что сам думал об этом.
— Да, пожалуй, — протянул он, вспоминая выражение лица Николая и особенно его глаза.
— А если бы его не заставили, он извинился бы перед вами?
— Не знаю.
— Мне думается, нет.
— А его заставили? — испуганно спросил Валентин Евгеньевич.
— Иначе зачем бы его вызывали в правление университета к профессору Филиппову.
— Верно… Как же быть? — растерянно спросил Валентин Евгеньевич.
— Я считаю, что извиниться он должен был в присутствии тех студентов, при которых оскорбил вас. Но это ваше личное дело, я не вмешиваюсь.— Он помолчал.— Поверьте, я не могу быть равнодушен к тому, что старейшего и почтеннейшего профессора вызывают на профсоюзное собрание факультета. Мне говорили, что на собрании от правления университета будет профессор Филиппов.
— Да, все это неприятно, — тихо сказал Валентин Евгеньевич.
— И вы ограничиваетесь извинением? — вдруг горячо спросил Благосклонов.
Валентин Евгеньевич не знал, что именно Благосклонов и Виктор Осипович Осинский добиваются, чтобы это профсоюзное собрание состоялось. Примирение Валентина Евгеньевича с Ястребовым совсем не входило в их планы.
Валентин Евгеньевич смотрел на Благосклонова, слушал его, перебирал в памяти короткий разговор с Ястребовым, и теперь ему начинало казаться, что действительно извинение было неискренним, а сам он при этом вел себя глупо, даже разоткровенничался с человеком, который доставил ему столько неприятностей. А впереди еще профсоюзное собрание, на котором, несомненно, речь пойдет о том же, и в этом все-таки тоже виноват Ястребов…
«Всегда преподаватели и учащиеся враждуют»,— подумал он, пытаясь уйти от окончательного вывода.
Чтобы решить вопрос наедине и не показать своего огорчения Благосклонову, Валентин Евгеньевич перевел разговор на другое. Он пожаловался:
— Вот прислали новый учебный план, весь из старых лоскутков. До конца года еще изменят раза два. А фразы, батенька мой, фразы!
Благосклонов посмотрел на беспорядочно разбросанные на столе бумаги:
— И это вас тоже трогает?
Валентин Евгеньевич встал и сердито заходил по узкому кабинету.
— А как же? — он значительно крякнул. — Я же заведующий отделением, я за все отвечаю!
Старик при всяком удобном случае любил подчеркнуть, что он заведующий, и был не прочь потребовать от подчиненных подобающего высокому чину уважения.
Преподаватели отделения знали эту его слабость, Благосклонов благодушно улыбнулся.
— Стоит ли возмущаться? — сказал он примирительно.— Студенты такой народ, заставь их турецкий сдавать, они за пять суток вызубрят, сдадут и через неделю забудут.
— Да, но мне отвечать за их знания! — сказал Валентин Евгеньевич.
— Неужели вы всерьез думаете, что вам придется отвечать?
— Я прежде всего отвечаю перед своей совестью,— сказал Валентин Евгеньевич.
Однако дело с Ястребовым, которое Валентин Евгеньевич считал уже оконченным, Благосклонов повернул по-своему.
Николай понял, что Валентин Евгеньевич сам испытывал раскаяние и что объяснение было для профессора не менее тягостным, чем для него.
«Ладно, — думал Николай, — я ожидал худшего. Как бы то ни было, теперь уже прошло».
Он прошел в конец коридора, остановился у окна и бережно распечатал конверт. Алексей писал:
«Здравствуй, дорогой брательник Миколай Петрович!
Я пока нахожусь на старом месте, живой и здоровый, чего и тебе желаю от всего чистого сердца. Время у нас, в пограничных войсках, проходит очень интересно. В пять часов утра — подъем, физическая зарядка. Я начинаю хорошо проделывать фигуры на турнике. После завтрака изучаем винтовку, пулемет и другое оружие. Частенько приходится бывать на операциях. Ловим контрабандистов. Народ они трусливый, но проходимцы ловкие. Когда отслужу, расскажу тебе про некоторые их проделки. Пограничников они боятся. Товарищи мои — смелые люди. Особенно мой дружок Павел Алексеев. Бывали случаи — мы вдвоем на пятерых бросались.
Сейчас было политзанятие. Политрук роты у нас душа-человек. Часто беседуем с ним о политике, о домашних и семейных делах.
Ну, будь здоров. Почаще пиши мне да пришли свою фотографию. Я по тебе дюже скучаю. Из дома пишут редко.
С красноармейским приветом пограничник Алексей Ястребов».
«Значит, он службой доволен. Прошлый раз писал об этом и сейчас тоже. А письма из дому редко получает, — подумал Николай. — И о Паране не обмолвился ни словом. Почему же он молчит о ней? Ведь у них такая любовь! Неужели и она как Анюта?»
Вспомнилось лицо Алексея, его голос, добрые глаза, товарищество, которое так скрашивало их жизнь. «Но что же у него с Параней?»— терялся он в догадках.
Николай не знал, что Дмитрий Бородин распространил по хутору слух, будто Параня выходит за него замуж. Эту новость Марья Ивановна поспешила сообщить Алексею, и тот решил порвать с Параней. Старший сын не сомневался, что мать пишет правду, — об этих слухах ему писали и друзья-комсомольцы.
Письмо от матери Николай получил несколько дней спустя. Как изумился он, увидав незнакомый почерк и поняв, что мать пишет сама! То было самое первое ее письмо.
— Вот это здорово! Нет, это просто замечательно! — вслух повторял Николай, изумленный и обрадованный письмом.— Нет, ты послушай, дедушка,— дергал он Редько и перечитывал ему письмо снова и снова. — Грушки, хутор Грушки. Ну что такое Грушки? Ни на одной географической карте их не найдешь. А какие там дела делаются, а? В тот же день Николай прочитал письмо Ведерникову, через два дня — Сергею и всей его семье, потом кое-кому из рапповцев. И все, кто слушал письмо и восторженные рассказы Николая о матери, соглашались, что действительно это «замечательно» и «здорово».
Николай написал стихи о первом письме матери.
— Вот здесь ты уже заговорил о новой деревне, — сказал ему Углов. — И это очень важно. Поедешь на каникулы, привози оттуда новые стихи с новым содержанием.
— Хорошо, хорошо! — отвечал Николай, радостно улыбаясь. Он был доволен тем, что стихотворение его имело успех.
К профсоюзному собранию преподавателей педагогического факультета готовились и Благосклонов с Виктором Осиповичем и Филиппов.
Еще за несколько дней до собрания Благосклонов начал высказывать то тому, то другому профессору свое отношение к поступку студента Ястребова. Он старался заручиться поддержкой, найти сторонников, чтобы довести, как он говорил, «дело Ястребова» до конца.
— Оскорбить такого человека, — гневно восклицал Благосклонов, — разве это не возмутительно!
— Да, случай возмутительный, — соглашались с ним профессора: одни потому, что были на стороне Валентина Евгеньевича, другие — чтобы поддержать коллегу.
— Если мы не скажем своего мнения, то черт знает до чего может дойти, — грозил Благосклонов. — Хотя Ястребов и извинился перед Валентином Евгеньевичем, но студенту это извинение ничего не стоит. Надо добиться его исключения из университета…
Благосклонов настойчиво твердил это и самому Валентину Евгеньевичу:
— Не миритесь, ни в коем случае не миритесь! Мы, коллеги, поддержим вас. По наглости эта история совершенно беспримерна.
— Да, это так, — соглашался Валентин Евгеньевич, снова и снова воспроизводя в памяти и свой недавний разговор со студентом Ястребовым, и столкновение с ним на лекции. Но когда он задумывался над тем, что заставило студента так резко высказаться, то мысленно становился на его точку зрения, и ему делалось стыдно за свой поступок. «И зачем я рассказывал эти анекдоты о Лермонтове?»
На лекциях Валентин Евгеньевич с того злополучного дня уже не рассказывал анекдотов. И дело было не только в том, что Калганов боялся осложнений, — его мучила совесть.
Виктор Осипович за день до профсоюзного собрания около двух часов беседовал со Степанюком. Студент рассказал о комсомольском собрании, на котором обсуждалось поведение Ястребова, о том, что большинство не поддержало их группу.
— Если нам удастся исключить его из университета, — сказал Виктор Осипович, — то из этого можно будет сделать далеко идущие выводы. Я рассчитываю на успех. Я беседовал кое с кем из профессоров. Все возмущены наглостью этого студента.
— Случай возмутительный, — подтвердил Степанюк.
Лицемеря, они в глазах друг друга старались оправдать свой сговор тем, что оба глубоко убеждены в виновности Ястребова, хотя прекрасно понимали: дело здесь совсем не в поступке Николая, а просто в том, что им нужно как-то дискредитировать комсомольское руководство педфака, поставить во главе ячейки своего человека. Этого они добивались не первый день. Каждый промах секретаря ячейки Углова, каждое его упущение они и прежде умело использовали. А случай с Ястребовым теперь можно было повернуть так, что и сам Углов окажется виноват в недооценке советской интеллигенции, а тогда будет легче сломать ему шею. Немалую роль во всей этой истории играл и Валков, которого надо было спасать. Но Виктор Осипович и Степанюк прямо обо всем этом не говорили.
Много сплетен доходило и до правления университета. Иннокентий Тимофеевич отлично понимал, что дело тут не столько в поступке Ястребова, сколько в том, что некоторым профессорам чуждо пролетарское студенчество, чуждо и своими взглядами, и внешним обликом — угловатостью и резкостью манер, непритязательностью костюмов. Потому-то им и хочется разделаться с одним из таких студентов. Еще недавно на медицинском факультете профессор-физиолог презрительно отозвался о пролетарских студентах как о невоспитанных неучах.
С собрания Валентин Евгеньевич возвращался вместе с Благосклоновым. Они тихо разговаривали, все время оглядываясь, боясь, что кто-нибудь их подслушает. Благосклонов был недоволен и раздражен результатом собрания и поведением Валентина Евгеньевича. Мысленно он упрекал и себя за то, что выступил первым, не дождавшись поддержки от профессоров. Он боялся, что вместе с Виктором Осиповичем Осинским из-за Ястребова мог попасть под подозрение.
— Вы, Виталий Владимирович, — вполголоса говорил старик-профессор, медленно и тяжело ступая по гладкому асфальту. — не возмущайтесь. Вы видите, как они подготовились? Что же мне из университета, что ли, прикажете уходить из-за этого студента? Больно много чести… А вы слышали, к чему свел свою речь ректор? К тому, что мы виноваты кругом, что мы боимся критики… Фактически он стал на защиту Ястребова. А профессор Филиппов обвинил нас с вами в плохой работе. А я вам должен сказать, батенька мой, Иннокентия Тимофеевича я уважаю. Единственное, что мне не нравится в нем,— коммунист он. Но политкаторжанин в прошлом, человек твердых убеждений, в честности ему не откажешь. И он выступил в защиту Ястребова, да и сам-то я не очень уверен, что правда на моей стороне.
— Этот студент — комсомолец, — Благосклонов оглянулся и закончил шепотом: — Он им свой человек, а мы чужие. Мы для них ничто, они хотят воспользоваться только нашими знаниями. — Благосклонов вновь не оставлял старика в покое.
— Ну, мы им не батраки! — возмущенно произнес Валентин Евгеньевич.
Тут их догнал Моисейченко.
— А горячее было собрание, — сказал он,— сколько выступлений!
— Да, некоторым было горячо, — с неудовольствием проговорил Валентин Евгеньевич.
— Вы, коллега, сегодня выступали весьма неудачно! — зло заметил Михаилу Васильевичу Благосклонов.
— А что вы привязались к Ястребову? — сердито ответил ему Моисейченко. — Я еще могу оправдать настроение Валентина Евгеньевича, а вам что? У вас он не учится, вам не приходится с ним встречаться.
Благосклонов ничего не ответил и сразу перевел разговор на новые учебные планы, полученные из Наркомпроса, а потом поторопился распрощаться.
Михаил Васильевич Моисейченко занимал с Таней и домашней работницей, тетей Лушей, жившей с ними уже около двадцати лет, большую квартиру в четыре комнаты.
Жена Михаила Васильевича умерла давно, во второй раз он не женился из-за Тани.
Работал Михаил Васильевич чаще всего в кабинете. Таня занималась в своей комнате, тетя Луша возилась по хозяйству в кухне. Днем они мало встречались. Но за вечерним чаем или ужином все собирались в столовой. Здесь с давних пор хозяйничала Таня. Она разливала чай, подавала к столу. Тетя Луша отдыхала, рассказывала городские сплетни. Их можно было слушать, а можно и пропускать мимо ушей. Так чаще всего оно и было: ее почти не слушали. После чая задерживались надолго. О чем только тут не переговорили за многие годы Михаил Васильевич с дочкой в присутствии тети Луши! Михаил Васильевич любил в эти часы высказывать свои самые сокровенные мысли. И Таня не имела ни от отца, ни от тети Луши никаких секретов.
И в тот вечер после профсоюзного собрания Михаил Васильевич рассказал, что было на нем, как выступал он сам, какова была заключительная речь ректора.
— А знаешь, папа,— сказала Таня,— я ж была в комиссии. Ничего особенного не случилось. Письмо получили из комитета комсомола, с его родины. Но у нас умеют из мухи слона сделать. А мне Ястребов нравится. Хороший комсомолец и товарищ отличный,— она улыбнулась, вспомнив характеристику, какую давал своему другу Сергей Савин.
— Понравился, говоришь? — спросил Михаил Васильевич, взглянув на дочь смеющимися глазами. Затем перевел взгляд на тетю Лушу и подмигнул ей. Морщинки на лице шестидесятилетней тети Луши вдруг разом все засветились, а Таня покраснела.
— Зачем ты, папа?
— Ну уж и пошутить нельзя! Какая ты у нас строгая! — Михаил Васильевич улыбнулся своей беглой насмешливой улыбкой. Тетя Луша громко и откровенно засмеялась.
— Впрочем, пока загадывать нечего,— шутливо сказал Михаил Васильевич, — сейчас вы разъедетесь на каникулы. Но смотри, чтобы Ястребов не заинтересовал тебя еще больше. Ведь он и стихи пишет.
Желанное двадцатое декабря — первые каникулы. На дворе мороз. На вокзале шумные студенческие очереди. В руках литера на бесплатный проезд, корзины, чемоданы. Спешка. Суетня. Крики. Смех.
— Прощай, Ростов!..
Когда едешь в далекий путь, то первое время равнодушно смотришь на дорожную сутолоку, на быстро меняющиеся картины. Но вот ты недалеко от нужной станции, ты чаще бросаешь взгляд на корзину или чемоданы и начинаешь как будто беспричинно вставать, выглядывать в окна. Последний перегон. Ты жадно вглядываешься в каждый предмет, а если ночью — то в неосвещенную степь. Черт возьми, да скоро ли конец дороге!
Свисток. Мелькнули последние стрелки, залязгали буфера, заглушая перестук колес.
Николай вышел из вагона с корзиной в руке. Где-то здесь, в нахлынувшей толпе встречающих и провожающих, должна быть и мать. Письмо, наверное, получила. Да вон она пробежала мимо, не узнавая.
— Мама!— крикнул Николай.
— Сынок!— Марья Ивановна подбежала к нему и принялась целовать. С ее ресниц ему на щеки падали слезы.
— Какой ты стал!— только и смогла выговорить в момент встречи.
Она хотела взять корзину Николая, но он с улыбкой легонько отстранил, ее:
— Сам донесу.
Марья Ивановна отметила в его улыбке новое, незнакомое ей выражение.
Поезд медленно двинулся и, набирая скорость, исчез в темноте. На станции стало тише. Она вдруг показалась Николаю маленькой и глухой. Николай поставил на плечо корзину и пошел рядом с матерью, расспрашивая о том, что произошло за время его отсутствия.
Утром Марья Ивановна проснулась первой. В комнате было еще темно. В одном окне загорелось пламя холодной утренней зари, в другом на посветлевшем небе блестела, как изумруд, звезда. Ее лучи преломлялись в морозном узоре окна. Прислушалась — сыны спят. Где-то на улице слышится разговор. На дороге под окном скрип саней.
«Надо вставать. Нынче у нас гость», — и Марья Ивановна радостно улыбнулась. Около печурки, все еще с улыбкой, нащупала теплые чулки и старые подшитые валенки, обулась, надела платье. Мимо белеющей кровати, где спали Николай и Степа, прошла особенно тихо. Над челом русской печи рука ее по привычке нашарила на кирпичном выступе коробку со спичками.
При свете пятилинейной настольной лампы окна поголубели.
Марья Ивановна подняла крышку с кастрюльки. От теста пахнуло кислым.
— О-о, подошло, можно затоплять печь.
Сухие дрова и кизяки, с вечера положенные в печь, скоро разгорелись. Лицу стало жарко от пламени. Марья Ивановна начала готовить пирожки с картошкой и пампушки «рванушки». Взглянула на кровать. Степа поднялся из локти и смотрел на спящего брата. Увидав мать, хотел было выразить удивление, но она погрозила пальцем и шепотом позвала к себе. Он быстро выскользнул из-под одеяла, босиком подбежал. Все так же шепотом Марья Ивановна сказала:
— Ты проспал, а тут Коля приехал… Ну одевайся, да смотри не разбуди,— указала она на Николая.
Но, несмотря на все предосторожности, Николай скоро проснулся.
— Выспался? — ласково спросила Марья Ивановна.
Глядя на рослую, мужественную фигуру сына, она подумала, что и Алексей такой же бравый казак, даже еще поплечистей. Она стояла с ухватом в руке, и жарко горящий огонь освещал ее довольное, раскрасневшееся лицо.
Хотелось ей говорить о чем-то большом — столько времени не видались,— но о чем — не знала.
— Отоспался? — снова спросила она.
— Да, отоспался.
— В дороге-то не пришлось?
— Какой сон в дороге? Сидя вздремнул немного и только.
К Николаю несмело подошел Степа. Он смотрел на старшего брата отчужденным, выжидающим взглядом. А уж как собирался встречать братушку! Несколько дней у него только и разговору было, что о Николае, а сейчас застеснялся.
И Алексей и Николай любили его, жалели, что он рос без отца, всегда старались младшего братишку чем-нибудь порадовать.
— Ну, здравствуй, Степа! — Николай привлек его к себе, погладил голову, потом слегка отстранил и оглядел: — Смотри, как вытянулся! Молодец, Степа! Физкультурой, наверно, занимаешься?
— Того и гляди с бруса сорвется, — подхватила мать. — Так и крутится, так и крутится. Непоседливый растет, — сказала она, снимая со сковороды вспухнувшие пирожки. Они дымились и вкусно пахли.
— А ты что же молчишь? — спросил Николай Степу.
— Отвык от тебя,— ответила за мальчика Марья Ивановна.— Подожди, он еще тебе расскажет… Дядя твой, Иван Тимофеевич, был у нас недавно, так он проболтался, что я в школу хожу.
Степа сделал вид, что не слышит. Его небольшое личико было откровенно хитрым.
— А что я тебе привез! — врастяжку проговорил Николай.
— Винограду? — живо спросил Степа.
— Какой же теперь виноград? — сказала Марья Ивановна,— Время зимнее. Глупый ты еще. Это он твою посылку помнит. Мы ведь тогда купили ему винограду.
— Книжек? — спросил Степа, с любопытством глядя на Николая.
— Книжек, — сказал Николай, доставая подарок.
Степа стал радостно перелистывать книжку, а Николай, облокотясь на стол, глядел на убогую обстановку хаты, на хорошо знакомый пейзаж, будто врезанный в рамку окна, наблюдал за матерью и Степой. Вот эта маленькая женщина, большеголовый с непокорными волосами малец да Алексей не раз снились ему в Ростове. И во сне, и на яву он видел эту комнату с большой русской печью, с книжной полкой, с брусом под потолком. На этом брусе Степа, наверное, лет с пяти начал крутиться — сельская физкультура, Но, рисуя мысленно эту хорошо знакомую картину, Николай не мог представить, как они живут без него и Алексея. Вчера Марья Ивановна сказала, что на хуторе организуется колхоз. И она не знает, вступать ей или не вступать.
— Лошадку последнюю боюсь потерять. Ведь вспомни, как мы ее старались уберечь? Ты и Алеша у чужих людей себе хребты ломали, надрывали молодые силы на чужой работе. Каждую копейку в дом тащили. Все хотелось лошаденку, хоть паршивенькую, но свою иметь. Помнишь?
— Помню, — ответил Николай. — Но ведь мы же не продавать собираемся, а в колхоз вступать.
— В колхоз… Я вот теперь как лягу в постель, так и сна не найду. И в артель-то мне вся статья идти, и с лошадью жаль расставаться. А ну случись что, куда мы безлошадные? Вернется Алексей… Сказать-то он мне ничего не скажет, а вдруг опять придется ему идти в работники?
— Ну, это ты, мать, хватила через край. — Николай встал. — Этого не будет. Василий Маркович за дело взялся.
— От Алеши позавчера письмо получила. Он тоже советует вступать.
— Что же ты мне вчера не сказала? Дай, я почитаю!
— Там он о каком-то случае рассказывает, я не поняла, почитай вслух. Я ведь грамотейка-то плохая, еще не все как следует разбираю.
Случай, о котором писал Алексей, произошел так.
Политзанятия проводились по обыкновению в казарме. Политрук роты, Стародубцев, молодой, почти одних лет с Алексеем, медленно ходил взад и вперед. Он только что объяснил новый материал и теперь собирался опросить слушателей, как вдруг красноармеец Богатырев — один из товарищей Алексея — попросил слова.
— Давай, — кивнул ему Стародубцев.
— Товарищ политрук, а могут силой загнать в колхоз али нет?
Стародубцев внимательно посмотрел на него и в свою очередь спросил:
— Где это силой загоняют?
— У нас, — снова вставая, уверенно ответил Богатырев.
— Где это у вас?
— В Саратовской губернии, в селе Романовке.
— Откуда ты узнал, что у вас силой загоняют в колхоз? — спросил Стародубцев.
— Да вот, — Богатырев ткнул рукой в карман гимнастерки, — мне письмо прислали.
— Ну-ка, давай почитаем его вместе, может, лучше разберемся?
— Давайте,— согласился Богатырев.
Стародубцев взял из его рук письмо, развернул и начал читать про себя. На первой странице, как догадывался Алексей, шли, наверно, многочисленные поклоны от семьи и родственников. Крестьянские письма похожи одно на другое, в чем Алексей уже убедился. Затем Стародубцев стал читать вслух. В голосе его почувствовалось сдержанное волнение.
«И вот, сынок, мы тебе сообщаем неприятную новость. Приехал наш Иван из Аркадака и говорит, что там загоняют насильно в колхоз. Все отбирают у людей, а жить будут все вместе, спать вповалку. Вот мы с мамашей твоей посоветовались и надумали коровенку, овечек и свинью зарезать, а мясо продать. Вот и хотели мы с тобой посоветоваться. Опиши нам срочно: может, там у вас есть где устроиться на работу? Мы не хотим входить в этот колхоз. Об этом тебя так же просят твои дяди, тети и все родственники».
Красноармейцы молча смотрели на Стародубцева и Богатырева. Богатырев сидел, потупив гладко остриженную голову, Алексей видел только часть могучей загорелой шеи.
«Не может быть, чтобы насильно загоняли в колхоз, — подумал Алексей. — Тут что-нибудь не так».
Стародубцев, окинув глазами роту, тихо, но вместе с тем внятно произнося каждую фразу, сказал Богатыреву:
— А теперь, может, ты пояснишь, кто такой ваш Иван? Где он был? Чем занимается?
Богатырев встал, выпрямился, привычным жестом правой руки одернул гимнастерку и ответил:
— Иван и его отец такие же, как и мы, крестьяне.
В его голосе Алексей уловил что-то похожее на вызов. Это крайне удивило Алексея. Он с большим уважением относился к своему политруку, знал, что и другие красноармейцы уважают Стародубцева.
Уловил, видимо, настроение Богатырева и Стародубцев. Он посмотрел на внимательно слушающих красноармейцев и сказал:
— Разные бывают крестьяне. — Затем добавил: — Сколько у твоего отца земли?
— Пять десятин.
— А лошадей сколько?
— У нас нет ни одной лошади, — уныло проговорил Богатырев.
— А как же вы землю обрабатываете?
— Да нам лошадей дает отец этого самого Ивана.
— Как же это он вам помогает, по-родственному, что ли? — На лице Стародубцева появилась усмешка.
— Да нет, мы не родственники, мы соседи. Тятька с мамкой ходят к ним за это косить, вязать и молотить, а я в ночное ездил с их лошадями.
— Та-а-к. Выходит, крестьянин-то он не такой, как ты? — Стародубцев вдруг поднял умные с усмешкой глаза на Богатырева. — И батраков, поди, имеет? — добавил он уже другим тоном.
Богатырев потерял уверенность, но все же ответил неопределенно:
— Да двое живут.
— А Иван-то что делает? Зачем это он ездит в другую волость?
— Да он лошадьми торгует. Скот покупает, режет на мясо и продает. У него жилка торговая есть, он не любит крестьянством заниматься.
— Ага, значит, у него торговая жилка? — переспросил Стародубцев.
— Вот именно, жилка.
Многие красноармейцы засмеялись. В их смехе чувствовалось какое-то облегчение, словно они боялись до этого, а не произошло ли в самом деле что-нибудь нехорошее в Романовке. И теперь убедились, что все в порядке, и потому засмеялись дружно, весело.
— Вот и ясно стало, что такого Ивана в колхоз не примут, он — кулак. Он агитирует против колхоза и отца твоего сбивает с правильного пути. Верно я говорю, товарищи?
— Верно, товарищ политрук!
— Правильно размотали их Ивана!..
— А тебе, Богатырев, ясно?
— Теперь и мне ясно, товарищ политрук, — проговорил Богатырев.
Как позже выяснилось, и письмо, оказывается, писал тот самый Иван с торговой жилкой.
— Да-а,— протянул Николай, прочитав Алексеево письмо.— Вот видишь, мать, кому нужно, чтобы мы в колхоз не вступали!
Николай обрядился в старый зипун, подпоясался кушаком.
— Ну, я пошел скотину убирать.
— Тебя и люди-то не узнают,— сказала Марья Ивановна.
— Ничего, корова с лошадью угадают.
Около двух часов пробыл он во дворе, очистил хлевы от навоза, напоил в Безымянке корову и лошадь, принес корму с гумна.
Над садами и куренями, как дымок, мелкий снег. Домой Николай пришел раскрасневшимся, довольным, с инеем в волосах.
— Ну, я простился с лошадью, — сказал он матери шутя.— Теперь можешь отдавать в колхоз.
— Смеешься, а как бы плакать не пришлось, — серьезно сказала Марья Ивановна.
На полке с книгами и ниже на стене лежали солнечные блики. Стекла окон мороз разрисовал красивыми узорами, похожими на пальмы, лианы и тростники. Будто здесь, на маленьком звенышке окна, разросся огромный тропический лес, на листве которого теперь искрились холодные красные лучи солнца.
Эти узоры вызвали в памяти Николая картины далекого детства. Тогда на такие причудливые рисунки Николай смотрел изумленными глазами. Думалось, например, что тропическим растениям хотелось бы жить и здесь, но не хватает тепла, так вот они взяли, как по волшебству, уменьшились да и перебрались на стекло.
С тех пор как он вот так размышлял, прошло много времени, многое изменилось, и сам он переменился.
В комнате вдруг запахло яблоками точно так, как в яблоневом саду пахнет в августе по вечерам. Николай не знал, откуда взялся этот запах. Но аромат взволновал его, разбудил воспоминания о летних вечерах, об Анюте. Сели завтракать.
— Вот ты, мать, боишься уходить от единоличной жизни,— сказал Николай.— А смотри, как мы живем! Работали и ты, и Алексей, и я, и Степа помогал, а что заработали? Уезжал учиться — самовар продали, и до сих пор другой купить не на что. Подойдет весна, колеса на телеге надо менять, сбруя на честном слове держится, инвентаря нет. Спасибо, Самсон Кириллович помогал, а теперь, я слышал, и он в артель вступает. Куда мы одни-то годны?
— Хватит об этом, — сказала Марья Ивановна. — Давай лучше о другом поговорим. Твой дядя, Иван Тимофеевич, приезжал, просил, чтобы ты хоть один денек у него погостил. Пойдешь?
— Схожу.
Марья Ивановна понизила голос:
— У них там на хуторе новость: Анюта замуж вышла. Не слыхал об этом? — Марья Ивановна проникновенно посмотрела на Николая.
— Слышал, — небрежным тоном ответил Николай. — Мне Иван Тимофеевич писал. Оказывается, все девчата из нашего техникума за один год замуж повыходили.
— Беда с детьми,— вздохнула Марья Ивановна.— И этот растет,— она посмотрела на Степу,— того и гляди сорвется откуда-нибудь, руку-ногу сломает или без головы останется. Взял себе новую моду — драться. Вы с Алешей спокойными росли, а этот с малых лет мучитель. Ему еще и шести не было, помню, хватились как-то, а он на дерево залез и оттуда: «Ку-ку! Ку-ку!» Я гляжу, так и обмерло во мне все. «Степа, — говорю, — милый, слазь». А он на самой веточке держится. «Ну, — думаю, — подожди, слезешь, и задам же я тебе порку». А слез — где уж тут порка, рада до смерти, что цел остался. И теперь редкий день пройдет, чтобы он с кем-нибудь не подрался. Вы с Алешей учились, никогда меня учительша не вызывала, а через этого… — Марья Ивановна махнула рукой.— Ведь вот поглядеть — худенький, скудненький, в чем только душа держится, а на любого лезет. Не одолеет кулаками — за кирпич или за палку хватается…
Степа независимо улыбался, как будто речь шла не о нем.
— Ты что смеешься? — строго спросила Марья Ивановна.
— Ну а что же мне, плакать? — спросил Степа. — Жалуешься.
— Вот и жалуюсь. Заслужил. И ты тоже, — обратилась она к Николаю.
— А я что?
— То… Вот не знаю, что у тебя на уме. Не успела спросить, знаешь ли про Анюту, а тебе, оказывается, уже сообщили. И не пойму я, как тебе это…
Николай засмеялся:
— А никак!
— Мне, что же, и узнать нельзя?
— Чем это у нас так хорошо пахнет в комнате? Яблоками, что ли? — спросил Николай вместо ответа.
— Взвар в горнушке томится, — проворчала Марья Ивановна. Она была недовольна, что разговор не получился.
После обеда к Ястребовым пришел Самсон Кириллович.
— Живой, здоровый? — обратился он к Николаю, садясь с ним рядом. Он радостными глазами смотрел на парня, обнажая в улыбке ровные, белые зубы.
— Эк тебя мороз-то! — воскликнул Николай после короткой паузы.— Волосы от инея седые.
— Да тут, парень, ничего удивительного, поседеешь,— серьезно проговорил Самсон Кириллович.— Задумал жениться — ноченька не спится! Мать тебе небось говорила? — понизив голос, спросил он.— Артель организуется.— В его голосе и словах Николай уловил ту же тревогу, что и в словах матери: кто, дескать, знает, что получится.
Николай стал уверять, что бояться нечего, дорога верная. Самсон Кириллович покряхтел, покашлял:
— Известно, ты комсомолец, других речей от тебя не дождешься…
К Ястребовым пришли давнишние друзья Николая: Тихон Кукушкин и Андрей Дронов. Он встал им навстречу, радостно пожал руки.
— Ты тут отсиживаешься, — строго сказал Кукушкин, — а молодежь тебя ждет.— На нем все тот же старенький полушубок, в котором Николай видел его и в прошлом году, и лет пять назад. На худощавом скуластом лице прошлогодние веснушки.
— Собираться? — спросил Николай.
— Собираться, и притом живо! Ребята же пришли. На дороге остановились. Они стесняются. Думают, ты будешь как Савуня Хватыш.
— А как Савуня?
— Да говорят, когда из Сибири вернулся, где в тюрьме сидел за украденные гужи, —- так задавался, так задавался, что и на козе к нему не подъедешь. Народу интересно поговорить с ним, а он нос задирает и в упор никого не вредит.
Николай захлопнул книгу. Вышли во двор.
— В избу-читальню, что ли? — спросил Николай.
— Да нет, на улицу. В читальне, брат, хоть волков морозь. Там топят, когда только шефы приезжают. Вот и колготимся у амбаров, как сто лет назад. Тары-бары, растабары — и все. Никакого тебе просвета.
У ворот, за покосившимся плетнем, на голубой гладко накатанной дороге их поджидала группа молодых казаков.
Николай здоровался со всеми за руку, а Кукушкин между тем объяснял:
— Насильно вытащил его. Как студентом стал — и нос кверху.
Николай подал руку и Дмитрию Бородину. Глаза их встретились. Дмитрий улыбнулся с видом превосходства. Но Николай видел, что тот в глубине души завидует ему. Бородин — в черном романовском тулупе, в валеных сапогах с калошами, в новой папахе сизо-дымчатого цвета с красным верхом. Одеждой, особенно этой папахой, он выделялся среди всех.
Шутя и пересмеиваясь, вышли на пустошь к трем амбарам.
Тут уже было много парней, девушек, жалмерок. Были и пожилые казаки. Николая все рассматривали с любопытством. Иные стремились поговорить с ним: из университета человек, небось знает кое-что про артели.
Первым заговорил Хватышов.
— Вот, Миколай Петрович, скажите, имеют они право так делать или нет?
— Как?
— Не слыхали, у нас тут артель организуют?
— Слышал.
— А меня не хотят принять. Выходит, я им не нравлюсь, не угодил чем-то.— Он понизил голос: — Вы знаете, тут ведь сроду мне жизни не было, и до революции и после. Народ у нас темный, отсталый, революционеров не ценит. Тут все белым духом дышат. А я и до революции открыто говорил: «Бога нет, царя не надо». Правильно? Ну, вот за это меня всю жизнь и ненавидят. И в Сибирь ссылали, и тут жизни нету. А теперь в артель не хотят принимать.— И вдруг, понизив голос, заключил: — Не смею вас задерживать, Миколай Петрович.
— Вы меня не задерживаете.
— Знаю, знаю, сам был молодым, — острым взглядом он будто насквозь прожег Николая.— Вам нужно теперь прогуляться, с хорошенькой жалмерочкой поговорить. Премного доволен беседой с вами. Разрешите навестить вас в вашем курене? — и опустил глаза.
— Заходите.
— Ну, пожелаю вам отдохнуть и с новыми силами взяться за большие науки.
— Спасибо на добром слове.
Савелий Андреевич с чувством пожал Николаю руку, вскинул голову и отошел. Тут же одному из казаков, своему сверстнику, стал рассказывать о разговоре со студентом.
— Вот что значит наука, — кивнув в сторону Николая, говорил он захлебывающимся голосом.— Про артель все как надо мне объяснил: «Это, слышь, они по своей темноте не хотят тебя в артель принимать». Сразу видно ученого. А ведь не из каких-нибудь купцов или помещиков, а из нашего брата. Его отец еще темнее нас был.
Женщины и девушки, став полукругом, запели песню. Молодые казаки, покуривая, смеялись над Тихоном Кукушкиным, который передавал в лицах «беседу» Николая с Хватышовым. Он умело копировал и того и другого, искусно менял голос.
Подростки и малыши, среди которых был и Степа, возились, бегая друг за другом, «жали масло», валились на снег, образуя «малу кучу». Солнце заходило. На снегу лежали лиловые и багровые блики, от сугробов падали голубые холодные тени. На деревьях — иней.
— Это он, Савуня-то, — уже серьезно говорил Кукушкин,— целится к нам в артель, чтобы еще и тут на чужбинку пожить. Хитрый, но народ тоже не дурак.— Потом уже в присутствии женщин и девушек Тихон очень похоже представил местного попа и всем знакомую жалмерку на исповеди.
— «Раба божья Агафья, чужое помыслила?» — «Грешна, батюшка, помыслила».— «Языком блудила?» — «Грешна, батюшка. Грешна».— «С чужим казаком спала?» — «Что ты, батюшка, бог с тобой, да разве чужой казак даст заснуть?!»
Казаки захохотали так, что их, наверное, за версту было слышно, а бабы и девушки, прыская в рукав и отмахиваясь от Кукушкина, вытирали слезы со смеющихся глаз, убегали, а в стороне снова становились отдельным кругом, будто собирались водить хоровод.
— А что, братцы, не удариться ли нам по старинке, конец на конец? Любопытно посмотреть, чья возьмет, — сказал один из казаков, любитель кулачек.
— Да, я вам тут вдарюсь, — проговорил только что подошедший Михаил Андреянович.
— Так уж и погреться нельзя?
— Не разрешаю. Хочешь греться, вон иди к девкам да к бабам, толкни их, они живо тебе нагреют по загривку.
— Любя стукнуться, милое дело.
— Нет, кулачек я не допущу, — серьезно сказал Михаил Андреянович.— Хочется вам подраться, разойдитесь подальше, а потом с разбежки лоб об лоб стукнитесь, чтобы из глаз искры посыпались, вот и хватит.
— Так это же ты нас стравливаешь, как баранов.
— А оно и кулачки тоже вроде бараньей забавы. Ведь правду я говорю, Миколай Петрович? — спросил он Николая, подавая ему руку.
— Конечно, кулачки — лишнее дело, — сказал Николай.
Он с удивлением заметил, что Михаил Андреянович посвежел и словно помолодел лет на пять. Казалось, председатель хуторского Совета даже сутулиться перестал и оттого выглядел более высоким.
«Скажи пожалуйста, — думал Николай, — как жизнь может изменить человека. Голос и тот теперь уже не такой глухой».
— Приходи завтра к нам в канцелярию, — пригласил Михаил Андреянович.— Да по старой памяти и в халупу мою заглядывай. Ежели нужда будет постричься, не стесняйся.
Николай пообещал зайти и в канцелярию и в халупу.
Уже стемнело. Над крайними дворами взошел месяц. Николая отозвала в сторону Параня. Лицо ее было строгое.
— Вам Алексей Петрович пишет что-нибудь? — спросила она. Ее тонкие черные брови сошлись в одну изломанную линию.
— Пишет.
— И домой пишет?
— Позавчера прислал.
— А мне ничего…
— Я напишу ему.
— Не надо. Не очень-то я и нуждаюсь! — решительно сказала Параня и, поправив быстрым движением руки платок, отолита от Николая с гордом, независимым видом.
Спустя минуты две-три она уже хохотала и что-то говорила смеющимся подругам.
А было ей вовсе невесело. Уже второй месяц в семье Донсковых шла война. Отец и мать, старшие сестра и брат уговаривали Параню идти за Дмитрия.
— Ну что ты нашла в Ястребове?! — говорил ей старший брат.— Делиться будут, на троих — одна лошаденка, одна коровенка. Двоим по хвосту, а третьему нога на холодец.
— С милым и в шалаше проживешь душа в душу, — отвечала Параня.
— Милый! — кипятился отец.— Мало я тебя бил за него. Не думаете о жизни. А если будешь голодная сидеть? Детей народишь — в работники пойдут. Вон погляди, жена Михаила Андреяновича живет с милым. Сколько она нужды хлебнула! Раньше времени состарилась. А тут ты сама хозяйка. Митрий — один у отца-матери, все ваше будет.
— По бабам да по девкам ходит, — выставляла свои доводы Параня.
— Вольничает, пока не женился. Как женится, другим человеком станет.
— Ой, как вы мне надоели со своими разговорами — сердилась Параня и уходила из горницы.
По ночам она плохо спала, плакала в подушку.
«И Алексей не пишет. Может, он там с другой спутался? Нашел себе какую-нибудь мамзель, а я тут сохни, отбивайся…»
Разговор с Николаем подтолкнул ее к неожиданному решению. Всем пишет Алексей, только ей не пишет. Значит, не нуждается. «Назло ему выйду замуж за Митюню»,— думала она. И в то же время не верила, что так сделает.
На кривой хуторской улице по-над садами и палисадниками — узкая, похожая на траншею тропинка. Снегу в этом году выпало много. Сугробы поднялись почти вровень с крышами хлевов. День теплый, снег обмяк и при свете солнца казался белее, чем в обычные дни; а дома и голые редкие деревья как будто почернели.
Николай шел и улыбался своим мыслям. Вчера в избе-читальне поставили сцену из «Бориса Годунова» — «Корчма на литовской границе». Зинаида Степановна, приятельница Николая по педагогическому техникуму, исполняла роль хозяйки корчмы. Очень живо выступил в роли Варлаама Кукушкин. На сцене он держался так же свободно, как и на улице. Правда, он плохо слушал суфлера, перевирал слова, добавлял свои. Но зрители этого не замечали, и Варлаам вызвал всеобщее одобрение. Это была первая пьеса, поставленная на хуторе. Новшество заинтересовало всех. Был доволен и Василий Маркович. Все шло очень хорошо. Николай подумал, что Кукушкин мог бы стать отличным актером, если его подучить.
Недалеко от дома Бородиных Николай встретил Семена Сазоновича, направлявшегося в свой курень. Чтобы уступить дорогу старшему по возрасту, как это принято на хуторе, Николай посторонился. Бородин, подойдя ближе, остановился.
Был он одет в теплый романовский полушубок, на валенках новые галоши. На свежем полном лице, которое со стороны всегда казалось улыбающимся, добрым, было выражение сытого довольства.
— Доброго здоровьица, Миколай Петрович! — как всегда, ласково приветствовал он Ястребова, слегка откидывая по привычке голову.
— Здравствуйте.
— Что же вы к нам не зайдете? Или, думаете, угостить у нас нечем?
— А зачем? — с недоумением спросил Николай.
— Да ведь это как сказать? Люди мы не совсем чужие. На одном хуторе живем, было время и помощь вам оказывали. Может, теперь все это забыто и не нужно стало?
— Это какую же помощь? — удивился Николай.
— А просо в голодный год… Забыли? Я от смерти вас отвел тогда.
«Неужто он в самом деле благодарности ждет? — подумал Николай. А вслух сказал:
— Это вы — про шелуху проса? Так мы потом за нее сколько-работали!
— Так я и знал, — со вздохом, но все еще с улыбочкой проговорил Бородин. — Эх, Миколай Петрович, Миколай Петрович, дорогой мой! Вижу я, люди вас смущают наговорами: «Кулак, дескать, Бородин, жулик, спекулянт». Но никто не знает моей души. А я ведь человек до конца простой.
— Нет, — тихо возразил Николай, — вы не простой. Я вас хорошо знаю. Я помню, как жил у вас в работниках. И лицо ваше, Семен Сазонович, часто вспоминаю. Вы ведь почти не изменились. Как были лисой, так и остались. И голос у вас такой же степенный. Вы на меня никогда не кричали… За это вам большое спасибо, Семен Сазонович,— Николай пристально посмотрел на Бородина.
Взгляд старика по-прежнему был ласков, только к этой ласковости теперь примешивались тревога и недоумение.
— Но своего вы всегда добивались, — продолжал Николай. — Только что, бывало, сядем обедать на меже где-нибудь, как вы сейчас же: «Коля, бежи, сынок, быков подверни». Так и не дадите как следует поесть. То за тем, то за другим гоняете. И все с лаской. За всю эту прежнюю ласку еще раз большое вам спасибо, Семен Сазонович!— Николай низко поклонился Бородину.
— Вот как вы стали рассуждать? — с горькой обидой в голосе сказал Бородин.
— Да, так я стал рассуждать, — ответил Николай. — Или, бывало, скажете: «Ты уж, Коля, так и быть, до зорьки быков у Сороковых покарауль. Не наедятся за ночь, завтра на них не вспашешь. Да смотри не усни там, в хлеба их не упусти». А утром все таким же ласковым голосом скажете: «Вставай, Коля, потом, сынок, позорюешь… В воскресенье отдохнешь». Но и в воскресенье вы находили мне дела. Хозяйство, мол, большое. «Надо вертеть это колесо». Только отдыхать мне возле вашего колеса не приходилось.
— Здорово вы все это представили, — с усмешкой проговорил Семен Сазонович. Лицо его казалось спокойным, только кустистые брови слегка нахмурились.
Николай тяжело вздохнул и с грубостью добавил:
— А возьму какую-нибудь книгу, как вы смотрели на меня! Тут уж непременно что-нибудь придумаете, только бы от книги оторвать. Большое вам спасибо за науку, Семен Сазонович, никогда не забуду ее.
Лицо Семена Сазоновича покраснело.
— Да, — сказал он, — выучились… Оно, правда, что же тут удивительного? Вся семейка у вас такая. Сам стал студентом, мать в гимназистки записалась, с книжками ходит на старости лет. Мальчишка, от горшка два вершка, французские да германские языки изучает. Куда нам, темным людям, до вас! В шинелишках мы, конечно, перелицованных не ходим, чай с вареньем пьем из своего самовара, и в колбаске, и в белых булочках, и в крендельках себе не отказываем, как другие прочие, но где уж нам с вами тягаться!
Теперь, когда Бородин уже не улыбался, улыбаться стал Николай.
— И не тягайтесь, — посоветовал он. — В батраки теперь к вам не пойдем. И никто не пойдет.
— Умные речи приятно слушать.
— Приятно или неприятно, а вот приходится. Народ в колхоз идет, а ваша песенка спета, Семен Сазонович, юли не юли.
Семен Сазонович резко повернулся и, не разбирая дороги, быстро пошел к своему дому.
Войдя в горницу, он зло взглянул на бледное лицо сына, крепко перепившего вчера вечером.
— Сидишь, сукии сын! Позоришь отца!
— Что такое? — изумился Дмитрий, вставая. Трясущимися руками Семен Сазонович свернул цигарку, закурил и, немного успокоившись, сказал:
— Не оправдал ты моих надежд. Я думал, ты в люди выйдешь. По колена в землю врылся бы, лишь бы ты стал человеком. А у тебя другие думки. Ничем тебя не переломишь: ни лаской, ни плетью. Видишь, какая она, жизнь-то? Встретился сейчас со мной студент этот…
— Ястребов?
— Он. Срамил, как хотел. У них, у сукиных сынов, вся власть в руках. А может, и еще хуже будет…
Дмитрий, опустив чубатую, тяжелую с перепоя голову, слушал. Он знал, что возражать отцу нельзя. Вспылит, ругаться начнет, не даст денег. А деньги нужны. На праздник собирается большая компания. Он думает пригласить и Параню. «Не стоит скандалить с отцом,— думает Дмитрий, выслушивая нравоучения старика.— Поздно его переучивать».
Вечером к Бородину, по обыкновению, пришел Хватышов. Но Семен Сазонович сидел скучный, съежившийся. Он не стал разыгрывать комедии с гостем.
— Тоже задумал в колхоз идти? — спросил он Хватышова.
Хватышов угодливо осклабился.
— На кой он мне?.. И никакого колхоза не было бы, если бы не Василий Маркович. Крутит он им всем мозги, подбивает.
— Знаю, — буркнул Бородин.
Хватышов будто ожег его взглядом, потом сказал:
— Шлепнуть было бы его в войну — и дело с концом. Бородин вздрогнул, взглянул на Хватышова и сейчас же отвел глаза в сторону. Вроде бы и не слышал этого шепота. Встал, пошел в малую горницу и оттуда вместо рюмки принес два граненых стакана и графин водки, настоянной на лимонных корках.
— Давай выпьем с тобой, Савелиbr /й Андреевич, — предложил он гостю охрипшим вдруг голосом. — А уж коли пить, так по-казачьи — не рюмками, а стаканами.
— Выпьем, Семен Сазонович, — ответил Хватышов, но к выпивке отнесся без особого интереса — о чем-то напряженно думал.
Пили много и не пьянели. Без аппетита закусывал Хватышов солеными арбузами и помидорами. Гость и хозяин старались не глядеть друг на друга. Разговор не клеился. О главном, о чем думал и тот и другой, говорить было страшно. В горнице только и слышно было:
— Выпьем!
— Выпьем!
— За ваше здоровье!
— Дай бог не последнюю!
В эту ночь так они и не сказали ничего друг другу. Но знали, что думали одно и то же. И это, неназванное, сближало их.
На хуторе связь Бородина с Хватышовым не особенно бросалась в глаза. Обычно хвастливый Савелий Андреевич ни слова не говорил о своей дружбе с Семеном Сазоновичем. Потап, работник Бородиных, никогда не видел Хватышова, потому что Семен Сазонович отпускал его на воскресные дни, а Хватышов приходил к Бородиным только по воскресеньям. Если кому из соседей и случалось видеть Хватышова, выходящим от Бородиных, то это никого не удивляло. На хуторе каждый хорошо знал его бесцеремонность. Хватышов постоянно к кому-нибудь заходил, со всеми старался вступать в разговор. Ни одна выпивка без него не обходилась. Рады или не рады такому гостю, но он придет. Не выгонять же из дому! В гостеприимстве и непрошеному гостю здесь не принято отказывать. Хватышов пользовался этим. А теперь он стал встречаться с Бородиным реже. При встрече больше уже не ломали комедии, не старались друг друга превзойти в вежливости, как это было в первое время.
Хотелось Николаю, очень хотелось сходить в Роднички. «Хорошо бы повидать родню»,— думал он.
«А заодно и Анюту», — говорил ему внутренний насмешливый голос.
«Ну, это необязательно».
«Врешь, это самое главное».
«Я ее навсегда выбросил из головы».
«Неужели?»
Однажды утром он собрался. Шел Николай на хутор Роднички и мечтал о встрече с Анютой. Телеграфные столбы то шли с ним рядом по шляху, то уходили в сторону, то опять возвращались. Холодное солнце только что встало. Подмораживало.
На полпути Николая догнала подвода. Чтобы дать дорогу, он отошел в сторону. Сидевший в санях крупный старик в дубленом тулупе вдруг остановил разгоряченную лошадь.
— Тпру, стой… Ведь это никак сынок Петра Тимофеевича — Миколай Петрович? — сказал он, глядя на Николая веселыми голубыми глазами.
— Он самый, Константин Васильевич, — с готовностью ответил Николай.
Он хорошо знал старика, его семью и хозяйство. Жил Константин Васильевич крепко, ни в чем особенно не нуждался, любил поговорить о серьезных вещах. На хуторе Роднички многие казаки в шутку называли его политиком. Он и в прошлом году встречался с Николаем и вот так же делал изумленное лицо, будто с трудом узнает парня. Николай знал, что старик обязательно заведет разговор о жизни, о политике, начнет высказывать свои обиды. Сплетен от него не услышишь. Николай был доволен, что попался такой попутчик.
— Милай мой, какой казак-то вырос! — изумился старик. — Куда путь-то держишь?
— Да на ваш хутор.
— Вот спасибо, что не забываешь родни. Садись — подвезу.
Николай сел рядом с тяжелым, плотным стариком.
— Надолго?
— Не знаю. На денек-два. А может, и больше пробуду. Дядя Иван Тимофеевич просил погостить.
— Спасибочко еще раз, что не забываешь наших мест.— Константин Васильевич вздохнул. — Теперь бы отец твой хочь одним глазком поглядел на тебя. Весь в него, вылитай.
— Как живете, Константин Васильевич?
— Живем ничего, помаленьку.
— Как сыны?
— Сыны, что им? Сыты, обуты, одеты, за чужой спиной. Тут одно беда: налоги замучили. И за хлеб налог, и за сено налог, и за корову налог, и за быков налог. Замучили, сукины сыны, налогами. Ты не партейный? — сказал он, снизив голос.
— Комсомолец.
— Может, я чего лишнего сказал? Укрой бог! Не знаешь, до каких пор это будет?
— Что?
— До каких пор налог будет? Все не нам, а с нас, с нас и с нас.
— Налог один, сельскохозяйственный.
— А облигации, а штраховка?
— Облигации — добровольное дело. А страхование по вас же и расходится. Помните, дядя Костя, бывало, кто погорит, вешай сумку и побирайся. А теперь погоришь — государство деньгами поможет. А ведь сами знаете, вор ворует — хоть стены оставляет, а пожар все подчистую уносит. То же и со скотом.
— Тогда погоришь — вешай сумку, а теперь — вешай две. Тогда сосед, кум, сват, все понемногу помогут, а теперь им самим жизни нет. Ты вот приедешь, спроси у своего дяди; приходит комиссия к Анфисе Абрамичевой — хорошо ее знаешь. «Здравствуй»,— говорят. Она — ни тпру, ни ну. «Облигации будешь брать?» — «Нет». — «Нет? Хорошо». Выходят во двор — собака отвязана. «Десять рублей штрах!» Так и ахнула. Туда-сюда, пришлось облигации брать.
— Кто же этим занимается? — спросил Николай.
— Кто? Известно, свои же.
— А власть чего смотрит?
— Что власть? Свои: Степан Егорович — малограмотный человек и выпивает много, а чужие — приехали, пожили и опять уехали. Мне вот с твоим дядей, Иваном Тимофеевичем, эти места всего на свете дороже, а чужим тут скучно.
— А вот у нас на хуторе этого нет, — сказал Николай.— Народ так не жалуется.
— У вас другое дело, вы ближе к станице. Там все на глазах у районной власти, а мы в глуши…
Долго ехали молча, каждый думал свое. Константин Васильевич опустил голову.
«Черт возьми! — возмущался Николай. — Ну что у меня общего с Константином Васильевичем? Жил он всегда крепко, никогда особенно не нуждался; а вот теперь он чем-то недоволен, и это меня огорчает. Значит, во мне еще мужик сидит — прав Редько». Николай с раздражением посмотрел на Константина Васильевича и сказал, плохо скрывая злость:
— Сами во всем виноваты.
— Это в чем же ты нас виноватишь? — с обидой и изумлением спросил Константин Васильевич.
— А хотя бы в том, что людей ценить не умеете, помогать государству не хотите. Вам лишь бы самим жить, лишь бы у вас были хорошие быки да на масленицу — блины со сметаной. До государства вам дела нет. А во время революции мало было разрушений? Помните, Архип железный мост взорвал? Сколько надо было государству денег потратить, чтобы восстановить?
Константин Васильевич слушал, кивал головой, борода его при этом смешно шевелилась, потом заговорил в прежнем тоне.
— Вижу, все вы в одну дуду играете, все на крестьянской шее. Вам, ученым, конечно, добро, а мы весь век свой хрип гнем. Собрались два дурака и работаем — бык на казака, а казак на быка. А кто-то приходит, такие вот, как ты, и говорит: «Несознательный вы элемент, государству не помогаете». Не согласен я. Раз мы работаем, богатеем, и государству от этого польза. Так я понимаю, — с достоинством и не без гордости заключил Константин Васильевич.
— Надо, дядя Костя, отвыкать от старинки.
— Э-э, нам, видно, помирать, с чем зародились. Вот нас не будет, тогда уж новые порядки устраивайте!
— А раньше лучше жилось? — спросил Николай.
— Для кого как! Вот мне, к примеру, только бы поменьше налогу, а так… Мы понимаем, что к чему идет. Вот из нашего брата учиться стали. Все, глядишь, будут жизнь по-другому поворачивать. Но жалко все-таки налог-то платить.
— А у нас на хуторе и старики и молодые к новой жизни потянулись. — И Николай рассказал о начавшейся организации артели.
Константин Васильевич слушал внимательно.
— А с сумками не пойдут? — осторожно спросил он.
— Не пойдут, — заверил Николай.
— А у нас пока про это ничего не слыхать.
Вот и Роднички показались. У Николая сильнее забилось сердце. Вот синеющая церковь, за ней, как неподвижное облако, белеет гора. «Роднички, — думает Николай, — тут она живет, тут это случилось».
Чел ближе подъезжали к хутору, тем больше волновался Николай. Он все старался представить встречу с Анютой и ее мужем. Это так занимало его, что он не сразу понял смысл слов Константина Васильевича:
— Смотри, Миколай, это мы по-свойски говорили, как сроду соседи с твоим дядей Иваном Тимофеевичем, и отца твоего еще вон каким помню, — он показал рукой чуть повыше саней. — Я чужому никогда не сказал бы того, что тебе.
В представлении некоторых хуторян студенты были самые развитые, самые умные и самые ученые люди в государстве, как профессора в глазах учащихся средней школы. До революции на хуторах о студенчестве было много легенд, выходило даже, что события девятьсот пятого года — студенческий бунт, а бунтовали студенты потому, что ученым людям не хватало должностей.
К двадцать шестому году взгляд на студентов изменился. Теперь не одна чубатая голова мечтала выучить сына или дочку на инженера, агронома или доктора. Но на восемь хуторов, раскинувшихся над рекой Безымянкой, было только два студента, и потому на Николая смотрели как на смелого разведчика в совершенно незнакомом лагере, куда непременно нужно проникнуть. А тут еще другое обстоятельство. Николай — с хутора Грушки. В Грушках что-то надумали: не то колхоз, не то коммуну. Парень должен все толково рассказать. Вот почему к Ивану Тимофеевичу, едва у него объявился Николай, валом повалили казаки. Да и самому Николаю пришлось ходить по всем родственникам, а на хуторе дядей, теток, дедов, бабок, сестер и братьев — двоюродных, троюродных и прочих, вплоть до шестого колена, было немалой. И самому ему было интересно посмотреть, как живут люди, кто богатеет, кто беднеет, кто тянется к новой жизни. И к тому же, попробуй он не навестить кого-либо из родичей, не отведать хлеба-соли — навек обида!
В зимнее время семья Ивана Тимофеевича жила в одной хате. Горницей пользовались мало. Топили там плохо. Но теперь, ради дорогого гостя, и в горнице стало тепло. У Николая, как говорил Иван Тимофеевич, в этой горнице образовалась чистая канцелярия. Здесь он читал и писал, сюда приходили знакомые казаки. Их по вечерам набивалось столько, что скамья, сундук и табуретки — вся мебель — были заняты. Ивану Тимофеевичу, как хозяину, приходилось садиться на кровать. Он, покуривая, с интересом слушал беседу казаков с племянником, а сам больше молчал и улыбался, покручивая белесый, молодцеватый ус.
— Ну, расскажи, что у вас там на хуторе надумали? — с любопытством спрашивали Николая.
Он рассказывал.
— Ну что же, пусть организуют, а мы поглядим, как они будут хозяйствовать, — вставлял Константин Васильевич. У Ивана Тимофеевича он теперь бывал каждый вечер.
— Да ведь, Константин Васильевич, податься вам больше некуда. Вот в Грушках приобретут трактор, он и будет себе пахать, а моему дяде и вам придется по-прежнему на бычишках биться. Не угонитесь!
— Нет, парень, — не сдавался Константин Васильевич. — Быки — не шутейное дело. И себе, и детям нашим, и внукам — пропитанье. А сунься наш брат купить трактор… Он и пойдет, как в коммуне на Круглом пруду. Тракторист остановил машину, отошел от нее, а кто-то из ребят — народ-то прокудной — крутанул что-то, она и пошла. Бросились за ней догонять. Да разве остановишь? Так и загнали трактор в пруд.
— Так вы поэтому боитесь в колхоз вступать? — спросил Николай.
— Да нет, это я к примеру, а бояться… Кто у вас записался?
— Да многие, — Николай перечислял имена хуторян.
— Самсон Кириллович — хозяин, хлебороб настоящий.
— А твоей матери терять нечего.
— Как это терять нечего? — спрашивал Николай.
— А так, ваше дело другое. Выучишься — быков, коров всегда можете купить. Вам не страшно попытать счастья. А тут в этом вся нажития. Лишись — и сумку вешай через плечо.
— Вот ты за Советскую власть горой, — сказал Николаю Константин Васильевич, — а есть у нас Никита Вилков, тоже студент, от него, парень, мне Советскую власть приходится защищать. Богачи его родители, вот он и смотрит по-другому.
— Может, Валков? — спросил Николай.
— Нет, Вилков.
— Не знаю такого. У нас в университете учится?
— Да, говорят, вроде бы так. А может, в другом каком.
— Интересно!
— С тем много не разговоришься, — подтвердили казаки.— Он больше дружит с Гусевым да с Москалевым, такими же сынками богачей.
— Надо будет сходить к нему познакомиться, — подумал вслух Николай.
— Сходи, сходи, — посоветовали казаки.
В горнице накуривали так, что не было видно ни портретов, ни икон, ни зеркала.
Когда казаки уходили, Николай проветривал горницу, потом садился за стол и начинал работать. Часто в такие минуты к нему заходил Иван Тимофеевич. Он садился на сундук возле племянника и глядел на него с благоговением, стараясь даже не кашлянуть. От этого взгляда Николаю становилось неловко. В душе он невольно подсмеивался над дядей, но приходилось откладывать в сторону книгу или перо, и дядя начинал разговор.
— Опять читаешь?
— Читаю.
— Не помешал?
— Нет, ничего.
— Много ты книг прочитал? — любопытствовал Иван Тимофеевич. — С сотню прочитал?
— Больше.
— Бо-о-же мой, какие люди-то есть на свете! — восклицал потрясенный казак.— Да где же они у тебя умещаются?
Николай смеялся, а Иван Тимофеевич спрашивал:
— О чем же тут написано? — дядя кивал на раскрытую книгу.
Николай начинал рассказывать. Иван Тимофеевич внимательно слушал, потом спрашивал:
— Сколько же годов тебе еше учиться?
— Осталось три с половиной года.
— Три с половиной! — удивлялся он. — А на кого ж ты доучишься?
— Буду учителем во второй ступени или в техникуме.
— Как Владимир Федорович?
— Вот-вот.
Иван Тимофеевич выпускал колечки дыма и смотрел на Николая светлыми восторженными глазами.
— Ну, а скажи, Миколай Петрович, — племянника он называл не иначе, как по имени-отчеству, — есть ли, к примеру, бог или нету? У нас как соберутся казаки в карты играть или так в кумпании время разделить, непременно об этом гутарят.
— Нету.
— Нету? — изумлялся Иван Тимофеевич. — Ну, а кто же, к примеру, небо сотворил? Солнышко?
Николай объяснял.
Трудно малограмотному казаку представить себе вселенную, не имеющую ни конца, ни края, существующую бесконечно долго, но Иван Тимофеевич и не нуждается в этом. Ему просто хочется послушать своего «ученого» племянника.
Иван Тимофеевич — человек простой. Начнут ему рассказывать о житии святых, о страшном суде, он слушает-слушает, потом вздохнет и скажет:
— Бо-о-же мой, боже мой, какая страсть-то, а тут, к примеру, живешь… И-их! — И закурит.
Начнет другой доказывать: нет бога. Он послушает, потом тоже вздохнет и скажет:
— Все ученые люди говорят так. Мой племяша, Миколай Петрович, больших наук человек, студент, тоже говорит — бога нет. Значит, правда, его нету! — И закурит.
Иногда он не решается прервать занятия племянника: подойдет, поглядит и уйдет в хату.
Своими разговорами о боге, о науке Иван Тимофеевич невольно вызывает у племянника улыбку, но в домашних делах и во дворе это образцовый хозяин. Здесь Николай удивляется его цепкости и умению. Пойдет с ним племянник убирать скотину и видит, что все хлевы хорошо укрыты соломой, плетни обмазаны глиной. Внутри хлевов — чистота, подстилка для скотины меняется вовремя, навоз вычищен. Пойдет на гумно — сено получше, непочатый прикладок оставлено к весне: в пахоту надо быков и лошадь поддержать. Прикладок, из которого берут корм, содержится в порядке. Снег старательно очищен. Иван Тимофеевич никогда не допустит скотину на гумно к вольному корму. И кормить знает как: даст соломки, затем какого-нибудь месива, а на закуску сенца подбросит: «Пусть скотина, к примеру, зубы прочистит».
Вилы, грабли, лопаты — все у него на своем месте. К Безымянке ведет крутой спуск. Чтобы скотина не сломала, упаси бог, ноги, в спуске прорублены ступеньки. Жене строго-настрого запрещено ходить по этим ступенькам за водой.
С большим удовольствием шел Николай с Иваном Тимофеевичем убирать скотину. Нравится ему запах навоза и теплый дух коровьего база. И сена из прикладка надергает железным крючком, и прорубь прочистит лопатой, продолбит ее пешней, если она замерзла, и на салазках корму привезет с гумна.
Ему нравится, как под пешней глухо звенит лед, и зык отдается по всей реке, как шуршат на лопате пересыпающиеся льдинки, как от удара пешни на льду вспыхивают радуги, а освобожденная вода, холодная и светлая, зыбится. Он знает, что за ночь мороз снова вставит стекла в эти проруби, а завтра им опять весело звенеть и дробиться под пешней.
Иногда в проруби блеснет рыбка.
Иван Тимофеевич подтрунивает над племянником:
— Ой, Миколай Петрович, уж не бросить ли тебе учиться? Охотка шибнула за крестьянство наше взяться?
— Да, пожалуй.
— Видно, пойдешь в зятья, пока не забыл, как вилы держать.
— Подыскивай невесту.
— В один момент будет.
Иван Тимофеевич любил поговорить. А вот когда заходила речь о колхозе, он больше отмалчивался, хотя племянник приводил очень веские доводы и молчать, казалось, было невозможно.
— Вот, — говорил он, — не для себя вы живете, а для скотины.
— Это как же? — спрашивал дядя.
— А так. Скоту к Безымянке прорубили ступеньки, а Марфа Ивановна должна с полными ведрами где-то сбоку лезть, надрываться, и вас это не касается.
— Нашел о чем говорить, — дядя поморщился. — Что я один, что ли, такой? Погляди, на хуторе все так живут и жили всегда так.
— Вот это и плохо, что весь хутор так живет, — сказал Николай.— Никто не заботится о людях, а надо человеку хорошую жизнь устраивать. А вот в колхозе все будет иначе. Может, возле каждого двора колонки поставят. Для того и колхоз собирают, чтобы людям жилось лучше.
На это Иван Тимофеевич воздерживался что-либо отвечать, но по взгляду было видно — не верит.
Николай сходил к Вилковым.
Студента он дома не застал. Старик, лет шестидесяти пяти, с неприветливым лицом, сказал, что внук уехал на станцию.
— А где он учится?
— Не знаю. В городе, кажись, в Новочеркасске… Николай постоял у порога, глядя на многочисленные темные лики икон,— ему даже не предложили сесть — и сказал:
— Ну что ж, извините.
Старик ничего не ответил. Николай ушел.
«Вот как оно складывается,— думал он.— А если это на самом деле Валков?.. Но почему никто не знает точно, где он учится? Зачем это понадобилось скрывать?»
Почти до рассвета Николай писал. Ему хотелось рассказать о впечатлениях и думах, властно захвативших его теперь. Сравнивая быт горожан с картинами хуторной действительности, Николай приходил к выводу, что ровной шляховой дорогой жизнь представляется только посторонним людям. А на самом деле без кочек, видимо, ее не бывает. Вот соседям кажется: в доме Бородина все хорошо, а Николай был у него в работниках и другое наблюдал — там сплошные ухабы! За дни каникул он походил по знакомым и многочисленным родичам, в спорах задевал казаков за живое и заставлял высказываться о сокровенном. И высказывались:
— Знал бы ты, Миколай Петрович, что мы переносим! Навали столько на быков — не выдержат, а нам приходится выдерживать: живым в могилу не ляжешь…
И он знал — за этими словами стоит суровая правда. Оглядываясь на свое прошлое, Николай был убежден, что он тоже прошел трудный путь. И если будущее порой представляется гладким, это иллюзия.
«Что это я расфилософствовался! Кончать пора». Но он не мог оторваться от работы. Широкий поток жизни зримо проходил перед его мысленным взором, властно держал у стола.
В окна, закрытые ставнями, сквозь щели пробивался свет месяца. Керосин в лампе выгорел до капли. Николай потушил свет. Нагоревший фитиль зачадил. Парень лег на кровать. Во всем теле чувствовалась усталость… Разбудил его хорошо знакомый голос.
— Дома он?
— Дома, — ответил Иван Тимофеевич. — Всю ночь писал.
«Обо мне»,— подумал Николай.
— Кто там? Заходите!— крикнул он, до самого горла закрываясь овчинным тулупом.
Вошел Кондрат Сухоруков, муж Анюты.
— Ты что лежишь? — сказал он улыбаясь.
— Сейчас встану.
— Приехал на хутор, а к нам и глаз не кажешь? Не по-товарищески, не по-товарищески. Ну, собирайся.
— Думал прийти, да все некогда.
— Ну, теперь я без тебя отсюда не уйду, — сказал Сухоруков, присаживаясь на сундук. Видя, что Николай стесняется одеваться при нем, Кондрат отвернулся к окну и стал глядеть во двор.
Николай видел перед собой тонкую фигуру Сухорукова, мелко вьющиеся над шеей темные, коротко подстриженные волосы, желтую новую кожанку, синие полугалифе и модные сапожки.
— Поскорей! — торопил Сухоруков, не поворачивая головы.
— Кой черт, — принужденно смеясь, ответил Николай,— ты так заторопил меня, что я рубашку наизнанку надел, по народным приметам — быть битому.
— Следовало бы, — согласился Сухоруков.
— За что?
— Приехал и задаешься. Аня говорит: будто мы и не играли вместе и не учились…
«Аня?.. Это он Анюту так…» Николай густо покраснел. То, во что не хотелось верить, чего он все-таки не мог представить, сейчас становилось очевидным.
Николай оделся.
Сухоруков достал из кармана кожанки пачку папирос:
— Курить можно?
— Пожалуйста.
— Закуривай, — предложил он Николаю и посмотрел на него синими плутоватыми глазами. Темная бровь над правым глазом была, видимо, еще в детстве рассечена. Улыбаясь, спросил Николая: — Ну, как учеба?
Николай растерянно взял папироску, изломал две спички, прежде чем закурил. От папиросного дыма натощак во рту остался неприятный привкус.
«Он, шельма, все понимает»,— думал Николай, не глядя на Кондрата.
— Учеба идет неплохо.— Собрав со стола написанные ночью листы и сунув их в одну из книг, добавил: — Ты тут почитай что-нибудь, а я пойду умоюсь. Кстати, ты не знаешь, что собой представляет Вилков?
— Да ничего особенного. Студент, учится, кажется, в Новочеркасске.
— А фамилия Вилков, это точно? Может быть, Валков?
— Нет, нет, Вилков.
Чтобы показать полнейшее безразличие к Анюте, Николай шагал по улице с самым независимым видом. Он расспрашивал Кондрата, кто из бывших соучеников где работает, каковы его успехи на педагогическом поприще. О ней и не заикнулся.
Николай и Сухоруков в педтехникуме никогда не были друзьями — слишком они разные люди. Сухоруков любил танцевальные вечера, ухаживал за барышнями, хорошо одевался. У него был свой круг товарищей, живущих теми же интересами. Николай дружил с другой группой ребят. Это были мечтатели, увлекающиеся больше всего книгами. Одеваться прилично он не мог, танцевать не умел. Да и никто из его товарищей не танцевал.
Однако Сухоруков делал вид, что он искренне обрадован приездом Николая в Роднички.
— Тебе выпало счастье, — говорил он, — сколько наших ребят вернулось ни с чем, а ты поступил в университет.
«А разве ты не счастливей меня? — думал Николай.— Я мечтал о ней, а ты женился».
Возле дома Анюты, на пересечении двух дорог, им повстречалась тоненькая, стройная девушка лет шестнадцати. Она шла легко, неся на коромысле пустые ведра. Опустив взор и краснея, девушка поздоровалась и остановилась, чтобы уступить дорогу. На хуторе еще жила примета: с пустыми ведрами нельзя пересекать дорогу.
Кондрат скосил на нее прищуренные глаза и, когда прошли мимо, подмигнув, проговорил:
— Хороша, а?
Николаю было странно: ведь девушка могла слышать его слова. А как они были сказаны! Кондрат, вздохнув, не без сожаления добавил:
— Ягодка!
«Он не изменился», — подумал Николай.
Стараясь не выдать своих чувств, он, потупив голову, вошел в темный коридор и здесь намеренно долго обметал с сапог снег.
Кондрат пропустил его в маленькую боковую комнатку, вслед за ним зашел и сам.
Николай мельком взглянул на обстановку комнаты и слегка улыбнулся, вспомнив разговор казаков об отце Анюты и их характеристику: «Фершал, в интеллегузию вдарился». В комнате икон и портретов нет. На чисто выбеленных мелом с синькой стенах только две репродукции с картин: «Девятый вал» Айвазовского и «Над вечным покоем» Левитана. «Девятый вал» напомнил Николаю об Аркадии Симоняне. Но волновавшие его мысли тут же вытеснили это воспоминание.
Николай, не ожидая приглашения, сел, Сухоруков тоже. Продолжался начатый дорогой разговор о «Дальтон-плане», переименованном студентами в «Далдон-план», Николай отвечал на вопросы Кондрата и все невольно прислушивался к голосам в соседней комнате, к тому, что там делается. Наконец послышались знакомые шаги.
«Надо взять себя в руки. Еще черт знает что подумает, после смеяться будут», — внушал себе Николай.
Вошла Анюта. Ее движения были плавны, лицо приветливо. Казалось, замужество не отразилось на ней.
— Здравствуй, здравствуй, — сказала Анюта, энергично встряхнув его руку и, видя его замешательство, обратилась к мужу:
— А правда, Николай возмужал? Солидным стал!
— Конечно, совсем другой человек!
Она еще что-то сказала мужу и улыбнулась, затем села напротив Кондрата.
Николаю стало грустно.
Вошел отец Анюты, с такими же черными, большими, красивыми глазами, смуглощекий мужчина, плотный, в поношенном, но опрятном шерстяном пиджаке, при галстуке.
— Мое почтение студенту! — громко сказал он и с видимым удовольствием подал Николаю красную, обветренную руку.
Николай сейчас же заговорил с ним:
— Как у вас жизнь на хуторе? Мне дорогой один старик рассказывал, что хуторской Совет насильно распространяет заем. — И Николай кратко изложил жалобы Константина Васильевича, не называя его имени. — Верно это? — А про себя думал: «Кажется, я веду себя правильно. Но больше я к ним не приду». Он только сейчас заметил, что Анюта в черном шерстяном платье и что голова ее не покрыта.
— А ты что, Николай Петрович, нашего народа не знаешь? — говорил между тем отец Анюты. — Сроду доволен не будет. Особенно старики. Им бы все самоуправничать да водочку на чужбинку попивать. Да ну их, об этом и говорить тошно. Разве наших людей ублаготворишь? — Он помолчал и спросил: — Проведать нас приехали?
— Да, проведать.
— Здесь у нас можно отдохнуть и прогуляться. Воздух великолепный.
— Хороший воздух, — уныло согласился Николай.
— Природа, понимаете, самое лоно природы.
— Да, — промолвил Николай. Он скосил глаза на Кондрата, тот иронически улыбался. Взглянул на Анюту — на лбу у нее набежали морщинки. Николай знал это ее выражение и чувствовал, что ей не нравятся разглагольствования отца.
— Как живет рабочий класс? — спрашивал старый коновал, и было видно, что рабочий класс, в сущности, его мало интересует. — Ходите и в театры и в кино? — Хотя ни то, ни другое ветеринарного фельдшера почти не интересовало, он спрашивал все это из учтивости. — Завидую я на городскую жизнь. Не то, что у нас. На хуторе первый богач, извините за выражение, вместе со свиньями кушает, а там не то! Вот я о себе, к примеру. На германской войне научился ветеринарии…
— Папа, — прервала его Анюта, — ты об этом после расскажешь. Дай нам расспросить Николая, как он там живет.
Никогда она не казалась Николаю такой красивой, как в эту минуту, и никогда он не испытывал такой боли при виде ее красоты, как сейчас. Казалось, он дышать перестал.
— Привык в Ростове? — обратилась она к Николаю.
— Да, стал привыкать. В городе много сейчас деревенского люда.
Разговорились.
Анюта слушала Николая и невольно сравнивала его с мужем.
Николай был крупней и мужественней Кондрата. Взгляд у него открытый. Кондрат рядом с Николаем казался еще меньше ростом, уже в плечах и худощавее, чем был на самом деле. Что-то в его фигуре и лице напоминало хищную степную птицу. Возможно, та настороженность и особенная зоркость, что таилась в его глазах, кажущихся очень спокойными. Может быть, это впечатление дополнялось выражением его тонких, презрительно поджатых губ.
«О чем он думает? — задала себе вопрос Анюта. — Ревнует?»
В первые дни замужества Анюте казалось, что Кондрат очень влюблен в нее. Он вдохновенно говорил:
— Я без тебя жить не могу! Ты мое солнце, свет, воздух!
Она и не подозревала, что это он цитирует слова из бульварного романа. Однажды, перелистывая книги Кондрата, она напала на источник его любовного вдохновения. А спустя немного узнала от подруг, что он теми же словами клялся в любви многим девушкам и даже замужним женщинам. Когда она потребовала от него объяснений, Кондрат сначала попробовал запираться, а потом расхвастался своим умением ухаживать. Вот тогда-то Анюта впервые и подумала, что совершила непоправимую ошибку. Ей стало жалко себя, вспомнила Николая.
«Что я наделала? — подумала она тогда. — Разойтись? А что скажут отец и мать, ученики и их родители, подруги?
Анюта замкнулась, ушла в себя. Это не на шутку встревожило мать. Старый коновал успокаивал жену:
— Внучонка жди, видишь, как переменилась!
Зять ему очень нравился: ходит с галстуком, хлеб себе зарабатывает не тяжелым крестьянским трудом.
— Дожил человек, доучился, — рассуждал отец, — сидит с книжечкой, занимается с ребятками. Не пыльно, а денежно. Не то что вилами ворочать или день при дне за плугом ходить. А погутарить с ним — ума наберешься. Счастье нашей Анютке — всем взял: и умом, и развязкой, и ученостью. Да и она, конечно, не лыком шита: и раскрасавица, и тоже с богатством в голове.
Мать, которая прежде советовала Анюте выходить замуж за Сухорукова и во всем соглашалась с мужем, теперь растерялась: «А не поторопились мы с дочкой? Хотелось поскорей замуж выдать, оберегали от мужчин: дескать, они теперь распутными стали. Но что-то не похоже, чтобы она довольная была». Материнское сердце не обманывало: перемена в дочке не случайно тревожила ее.
С некоторых пор Анюта стала замечать, какими масляными глазами поглядывает ее муженек на женщин, как говорит о них. Да и о чем кроме он мог говорить? Книг Кондрат почти не читал, газеты просматривал лишь изредка. Вот принес он в дом Анюты свои вещи. Что у него оказалось? Велосипед, охотничье ружье, игральные карты, бритвенный прибор и обилие галстуков и воротничков. А из книг — только те учебники, по которым он преподавал в школе, да три растрепанных, зачитанных до дыр бульварных романа. Анюта не стала их читать, ей достаточно было просмотреть с полсотни страниц той злополучной книжки, которая вдруг приоткрыла дверь во внутренний мир мужа.
Для Анюты газеты и книги были такой же необходимостью, как хлеб и вода, а Кондрат лишь изредка, да и то по ее настоянию, пробовал читать. Но если в первых десяти страницах книги ничего не было о любви, он бросал ее.
«Да как же я с ним буду жить?» — с ужасом думала Анюта.
Она ждала зимних каникул. Почему-то ей казалось, что Николай приедет в Роднички, она увидит его, и все переменится.
Услыхав о его приезде, она попросила Кондрата:
— Пригласил бы… Все-таки учились вместе…
— Если тебе любопытно, приглашу.
Она ждала их все утро, слышала, как они вошли в соседнюю комнату. Помогая матери, она от волнения пересолила борщ.
«Да что я? — спрашивала она себя.— Он же мне чужой!»
А увидав его, почувствовала себя еще более несчастной, потому что поняла: он не забыл ее. Ей хотелось как-то ободрить его, сказать что-нибудь ласковое. Но зачем?
Оказывается, она читала его стихи.
Он чувствовал на себе завистливый и в то же время заносчивый взгляд Кондрата и ласковый взор Анюты, Николай с насмешкой думал о себе, что он точно так же важно рассказывает о студенчестве, о жизни большого города, как раньше это делали другие студенты, а он ловил каждое их слово. И выходило из его рассказа, что студенческая жизнь действительно какая-то особенная: профессора, лекции, аудитории опять окутались дымкой романтики. Он с гордостью говорил, что университетское здание — самое красивое в Ростове, это была правда. Но ему было грустно смотреть на Анюту и видеть рядом с нею Кондрата. Хотелось чем-нибудь доказать, что и он, Ястребов Николай, недаром живет на белом свете, что он слушает лекции известных профессоров, дружит с писателями, композиторами и художниками.
Ни одним словом Николай не обмолвился о своей ссоре с Валентином Евгеньевичем, о неприятностях, пережитых им в дни безработицы. Все это в конце концов прошло. И следует ли кому-нибудь рассказывать, особенно Анюте, когда она вот так смотрит на него?
«Ну, что же, — думал Ястребов, — больше я с ней постараюсь никогда не встречаться!»
С того момента, как Николай вошел в дом Анюты, он все время думал, как бы поскорей уйти отсюда, чтобы не видеть их вместе, не чувствовать своего глупейшего положения. А вместе с тем он понимал, что, может быть, никогда больше не встретится с Анютой. И он сидел, как на иголках, выискивая удобный момент для ухода и борясь с желанием слушать ее, видеть ее глаза, чувствовать ее присутствие.
Самогонки на хуторе Роднички наварили много. Чуть ли не в каждом доме свой аппарат.
У Ивана Тимофеевича по случаю рождества гости. За обеденным столом — около десятка мужчин и женщин, Николай — в переднем углу. По одну сторону от него Филя, семнадцатилетний парень, саженного роста, не по летам широченный, с красивым белесым чубом; по другую — небольшой казачок, шурин Ивана Тимофеевича, лет дзадцати шести, тонконосый, веселый, первый в хуторе песенник. Его посадили рядом с Николаем, чтобы они вдвоем дружней играли песни.
Иван Тимофеевич разместил гостей, потом, молодцевато покручивая ус, ушел в горницу. Немного погодя он вышел оттуда с четвертью самогона. За столом это вызвало общее оживление. Кое-кто из казаков с нежностью смотрел на прозрачную жидкость.
— Первача принес!
Хозяин налил рюмку, посмотрел на нее сбоку, долил немного, затем поклонился окружающим, слегка откашлялся. Светлые глаза Ивана Тимофеевича искрились лаской и весельем. Он окинул сияющим взглядом присутствующих:
— Ну, будем здоровы. Дай бог не последнюю. Дай бог всем нам счастья, и тебе, дорогой племяша, Миколай Петрович, большое спасибо, что не забыл наших мест.
— Да ведь как забыть, — сказал один из казаков, — родина, она тянет, разве ее забудешь?
— Спасибо всем вообще, — Иван Тимофеевич еще раз поклонился и залпом выпил. Не закусывая, снова налил рюмку и подошел к своей жене. Она стояла около загнетки с рогачом в руках и смотрела на мужа со свойственной ей ласковостью.
— Марфуня, брось рогачи, выпей-ка.
— Пейте уж сами, — для вида отказалась польщенная вниманием жена.
— Ну, будет дурить-то, честь окажи. За племяшу, за всех нас вообще. — Он держал наполненную до краев рюмку в протянутой руке.
Белый платок с кружевами домашней вязки у Марфы Ивановны сбился назад. Вот так же он запомнился сбитым назад в тот давнишний тревожный день, когда грозно надвигались на хутор Грушки дымы пожарищ, глухо басили орудия, как река в разливе, сплошным потоком спешили беженцы. В тот день в курень Ястребовых Марфа Ивановна на какие-то полчаса принесла праздник. А потом уже с арбы махала Марье Ивановне, Алексею, Степе и ему, Николаю, этим белым с кружевами домашней вязки платком. Когда от глаз провожающих ее заслонили повозки других беженцев, в сердце будто оборвалось что-то. Боялся, а если он больше никогда не увидит этой хорошей, ласковой тети!
«Н-да!» — мысленно произнес Николай, невольно вздыхая.
Марфа Ивановна подошла к столу.
— Пристаешь? — кивнула она мужу и — уже всем: — За здоровье!
— Пейте на здоровье!
Она только притронулась губами к краю рюмки, для вида поморщилась и хотела отдать рюмку мужу. Тут гости закричали на нее:
— Пей, кума!
— Чего не пьешь?
Она выпила немного больше половины, уже без притворства поморщилась от обжигающей горечи и снова хотела отдать рюмку мужу.
— Зла не оставляй! — весело сказал муж. — Дотягивай.
Иван Тимофеевич следил, как и все, за каждым ее движением. Она допила остальное, на мгновение запрокинула голову — платок еще больше сполз, — выпрямилась, крякнула, сделала быстрое движение рукой, как бы встряхивая рюмку. На свежепобеленном мелом потолке — курень белили к рождеству — осталось два серых пятна.
Все смотрели вверх на эти пятна, а она вытерла белым с кружевами фартуком губы, взяла кусок огурца большими пальцами и с достоинством отошла к печи.
— Молодец, знает порядок, — похвалил ее один из казаков.
Хвалили ее и за то, что она не сконфузила мужа, выпила, и за то, что не дала повода толкам — сначала только притронулась. Таков обычай.
Николай видел Ивана Тимофеевича, следил за Марфой Ивановной, но мысли его теперь занимала Анюта.
«Зачем я пошел? — упрекал он себя за слабость. — Ведь я же знал, что она замужем, я же все это знал… Все кончено!» — в сотый раз говорил он себе, но оказывалось, что далеко не все еще кончено…
Пили по очереди из одной рюмки. Когда во второй раз очередь дошла до Николая, он заявил:
— Больше не буду.
— Почему?
— Отрезанный ты ломоть!
— Не пью. Одну рюмку выпил за компанию и хватит.
Со всех сторон стали упрашивать и так нудно, чго Николай, чтобы отвязаться, выпил. Потом — еще и еше. И сам он не заметил, как опьянел.
«А, черт, пропади все пропадом! Все равно я никому не нужен», — думал он.
Сосед Николая, песенник, заложив руку за правое ухо, прикрыв осторожно ушную раковину, откашлялся, прочищая горло, и запел:
Песню подхватили. Садясь сегодня за общий стол с гостями, Николай думал, что он и петь не сможет: не такое у него настроение. Но с давних лет знакомые слова и мотив, дружные голоса и чувство, с каким пели, захватили его. Он залился вверх, заглушая женские голоса и заставляя их подыматься еще выше. Они серебром пересыпались на самых высоких нотах.
А тот же запевала, тряхнув головой, подбоченившись, крепче прижимая правое ухо, запел новую песню:
Посадовник* (* парень, любивший лазить по чужим садам) Филя, блестя черными глазами, тряхнув пышным чубом, заложил два пальца в рот и глушил всех разбойным свистом. Свистел он обычно так, что его всегда, в любую темную ночь, товарищи узнавали по свисту из конца в конец хутора.
А песня гремела, слова, произносимые «вчастух», сливались:
Уже не выдержал Филя, отодвинул плечом дубовый стол — на столе звякнула тяжелая посуда,— вышел на середину хаты и пошел плясать казачка под веселый подмывающий мотив. Пьяная старуха Никитична, встав с места, била в ладоши и выкрикивала:
— Их! Их!
Иван Тимофеевич вприсядку пошел вокруг выбивающего дробь Фили. У Николая загорелись глаза, сами задвигались ноги, он тоже пошел вприсядку.
Теперь слышнее стали женские голоса. Жена Ивана Тимофеевича покраснела от натуги — так старательно она пела, сняла с головы платок и начала им размахивать. У нее на затылке, на туго скрученных волосах, праздничный колпак блестел стеклярусом. Дисканты, высокие, сильные, вибрируя по-птичьи просто, заканчивали последние слова, а запевала продолжал:
А ноги четко били, будто выговаривали:
Иван Тимофеевич, потный, красный, весь просиявший, отошел к своей табуретке, но забыл сесть: все внимание его было захвачено зрелищем, он смотрел на ноги пляшущих. Небольшой, тугой, с лицом, на котором три-четыре ямки с горошину величиной — следы оспы, — с белесыми щегольскими усами, сейчас он выглядел особенно оживленным. А казачок-запевала вел песню:
— А-а-а, — заканчивал чей-то высокий женский голос, и Николай не мог вспомнить чей.
Остановился. Лицо было потно, веки отяжелели, и он не мог поднять их. А когда поднял, в глазах все двоилось и троилось.
«Нарезался!» — с тоской подумал он. И вдруг ему сейчас же захотелось уйти с хутора. «Анюту я повидал. Теперь — домой, и надо скорей в Ростов отправляться».
Качаясь, вышел в горницу, оделся, собрал книги и тетради. Дядя спросил его:
— Ты далеко?
— Домой.
— Как это домой! Ты что, с ума сошел?
Николай недовольно махнул рукой:
— А, бросьте! — и вышел во двор.
Болела голова, тошнило. Хмель особенно разобрал во дворе. Постояв у крыльца, застегнул перелицованную шинель и, неуверенно переставляя ноги, вышел на улицу.
Было тепло, пригревало зимнее солнце. Как всегда в оттепель, деревья стояли почерневшие. Над хутором с криком носились грачи. Где-то орал петух. От домов и хат вели дорожки, сверкающие белизной. Небо чистое, безоблачное.
Неуверенно переставляя ноги, Николай вышел в степь.
«Вот и каникулы закончились, — с грустью подумал он. — Время-то как быстро летит».
Остановился, оглянулся в сторону хутора.
— Прощай, Роднички! Прощай, Анюта, не вспоминай меня злым словом! Я никогда ничего не хотел тебе плохого.
Он долго стоял и глядел на очертания знакомого до мелочей хутора, потом неверными шагами пошел по дороге в Грушки и запел, почему-то повторяя самые грустные, заключительные слова широкой, неувядающей песни:
Он шел и пел, часто оглядываясь на удаляющийся хутор.
Когда скрылись за возвышенностью последние макушки-деревьев и старая ветряная мельница, его охватило такое волнение, что он готов был заплакать, как плакал когда-то-в детстве. Но он шел и пел.
На месте хутора лежала мягкая черта горизонта. Сверкали и синели снега, играя нежными неуловимыми оттенками.
Дома Николая ждала новость:
— Параня Донскова вышла замуж за Митюню Бородина, — с радостью сообщала ему мать. — Тут такая свадьба была!
— Веселая? — спросил Николай.
— Богатая! Когда на санях от венчания приехали, столько медных и серебряных денег разбросали, конфет да орехов, страсть! Сам Семен Сазонович плясать выходил.
— Я не пойму, чему ты радуешься! — хмуро проговорил Николай.
— Да как же, ведь она Алешку иссушила. А разве она пара ему? Пропадать бы ему с ней.
«Может быть, и я виноват, что так сказал Паране о письмах Алексея? — думал Николай. — Как ему теперь сообщить? Повезло нам: Анюта вышла замуж, Параня тоже».
Когда в хуторе погасли огни, Николай долго ходил по улицам. Под его медленными, неровными шагами хрустел снег. Николай глядел на звездное небо морозной холодной ночи, на месяц, на дома и дворы, потерявшие дневное обличье, и думал: «Как это могло случиться? Вот Алексей дружил с Параней. В зимнее время он редкий вечер не бывал вместе с девушкой. А теперь что же? С глаз долой — и из сердца вон? Значит, нет никакой любви?» Николай старался понять, что могло привлечь Параню в семье Бородиных. «Богатство? Да,— думал он,— богатство. Всегда так было: у кого есть в кармане, тот и желанный муж. Теперь Параня будет хорошо одеваться, сладко пить и есть, ей будут завидовать подруги. А женщине, может быть, ничего другого и не надо…»
Он мысленно переносился в Закавказье, на границу с Ираном, где служил его брат, представляя вечные снеговые горы. Может быть, в этот час Алексей сражается с контрабандистами… Он и не подозревает, что произошло за несколько тысяч верст от него, в родных Грушках. А Грушки все так же спят под снежным покровом, как спали и в прошлом году, и в позапрошлом.
В Ростов Николай возвращался с таким же волнением, с каким ехал домой. Он с удовольствием думал о своем университете, о товарищах и общежитии. Встреча с Анютой все еще волновала его, но уже не так остро. Чем ближе поезд подходил к Ростову, тем больше собиралось в вагоне студентов. Вот они, его товарищи! Один рассказывает о шахматном турнире, другой — о китайских событиях, третий — молодой, небритый, в очках, парень с биологического отделения (Николай помнит его еще со вступительных экзаменов), с улыбающейся физиономией — поет. А этот, худенький, маленький, ходит по вагону и так замечательно копирует профессоров и преподавателей, что ребята не могут удержаться от смеха.
Запели «По Дону гуляет», и Николай присоединил свой голос к голосам товарищей. Знакомый угреватый медик со Старо-Почтовой улицы поет дико, у него нет ни голоса, ни слуха, но зато сколько усердия!
— А ты что не поешь? — спрашивает Николай одного студента.
— Надо же кому-то и слушать, — с усмешкой отвечает тот.
В Ростов приехали под вечер.
Разминая ноги после долгого сидения, Николай с тяжелой корзиной на плече вышел из вагона. На город ложился холодный закат. Январь начинал жать морозами, резко ощутимыми на утренних и вечерних зорях.
Но вот и общежитие. Николай пошел быстрее. Было приятно входить в это здание.
«Ну что же, у Анюты своя жизнь, а у меня своя. Анюта для меня больше не существует».
Во дворе встретился знакомый парень с чайником в руке. Николай почувствовал прямо-таки любовь к своей двадцать второй комнате. С радостью, будто он входит после многолетней разлуки в родной курень, Николай осторожно открыл дверь и вошел.
Редько сидел у стола, там, где Николай и ожидал увидать его. «Дедушка» поднял глаза от книги. Морщинки на его круглом добродушном лице разгладились, он улыбнулся.
— Вернулся, казаче? — спросил он.
— А где же Анатолий?
— Ушел к Борику. Они подружились не на шутку. Один без другого жить не могут. Бедовые парни!
Борис Чугунов был из числа тех немногих студентов, которых можно было еще встретить в двадцатые годы в высших учебных заведениях. Учился он неохотно, в университет ходил только тогда, когда выдавали стипендию. В месяц Борис читал одну-две книги. Но зато не бывало такой театральной постановки, которую бы он пропустил. Одевался Чугунов прилично, даже с претензией на моду. Студенты говорили, что он иногда ходит без носков, но непременно в новом галстуке. С ним-то Анатолий теперь и сошелся. Об этой дружбе и рассказывал Редько. Николай слушал знакомый басок друга, глядел на его чисто выбритое лицо, на свою комнату и радовался. Угощая Афанасия домашней снедью, Николай рассказывал о своей поездке.
— Хочешь не хочешь, дедушка, а будешь агитировать. Задают вопросы — отвечай. К местному студенту из казаков доверие большое. А жизнь идет быстро. Казачество тоже в стороне не остается.
— Значит, многим интересуются? — спросил Редько.
— Очень многим. За полгода там перемены большие.
— Любопытно.
— Еще бы. Может, конечно, и раньше там многое людей интересовало, но на меня смотрели, как на желторотого. А теперь и я сам изменился, и отношение ко мне стало иное. Да нет, дело все-таки не только в этом. Когда я уезжал, о коммуне немногие говорили, а сейчас у нас колхоз организуется. — Николай вспомнил Константина Васильевича. «Замечательный старик!» Потом, понизив голос и метнув взгляд на дверь, проговорил другим тоном: — Похоже, я напал на след Валкова. Живет на хуторе Роднички очень зажиточный казак Вилков, и сын у него студент. По всем приметам, это и есть Никита. Я ходил к Вилкову, хотел встретиться, но неудачно. Дома его не застал. Дед его сказал, что внук учится в Новочеркасске, только, похоже, врет. Теперь я начинаю догадываться: Никиту я видел, когда дрались с бандитами. Наверно, в плену у нас был. Но это еще надо проверить.
Редько слушал внимательно.
— Спрошу у Саши Углова, где родился Валков, познакомлюсь с его автобиографией. Я же говорил, что где-то встречал Никиту. Так оно и выходит.
— Ах, черт! — воскликнул Редько.— Но может быть, это ошибка?
— Не думаю.
— Да, предупреждаю, — что-то вспомнив, сказал Редько. — Тебе нужно крепко подковаться.
— Это в каком же смысле? — удивился Николай, соображая, какая может быть связь между их разговором о Валкове и словами Редько.
— Ты же писатель, молодой пролетарский поэт! — улыбнулся Афанасий.
— Ты, дедушка, без анекдотов. Какой я писатель? Вот на каникулах написал несколько стихотворений. Ерунда все это, навоз.
— А ты знаешь, Моисейченко очень недоволен, что ты стихами увлекся. Он намылит тебе голову за это! Как-то на днях я разговаривал с ним. Он так и сказал: «Боюсь, — говорит, — за двумя зайцами погонится, ни одного не поймает». Может, и впрямь лучше бросить? Помнишь, ты вначале отставал, многого не понимал на лекциях. Но вот освоился с лексикой, с научной терминологией, стал разбираться в том, что нам читают. И все это за короткий срок. Значит, ты действительно способный человек. А сейчас наступает время твердо решать вопрос: куда дальше идти? Может быть, Моисейченко прав? Возможно, тебе не стоит терять время на собрания в РАППе, в литературном кружке, на вечерах у Аркадия? Может быть, все силы надо отдать учебе?
Николай понимал, что Редько завел этот разговор неспроста.
— Вопрос с хитринкой, — сказал Николай. — Тут надо подумать. А почему у вас с Михаилом Васильевичем вдруг зашла речь обо мне?
— Ты же знаешь, что со второго полугодия я начинаю работать под его руководством. Так вот, был я у него на днях, разговорились о студентах нашего курса. Михаил Васильевич и высказал мысль, что из нынешнего состава курса для научной работы по всем данным больше всего подходят три человека: ты, Добровольский и я. Ну вот, я определился, Добровольский, видимо, будет готовиться по кафедре Благосклонова, а ты — ни туда, ни сюда.
— Значит, Добровольский у Благосклонова? — вырвалось у Николая. — Рыбак рыбака видит издалека.
— Ясное дело… Так решился?
— Ну, я так быстро решить не могу. Я же тебе сказал: дай подумать.
— Что ж, думай,— согласился Редько. И вдруг, меняя тон, спросил: — А ее-то видел?
Николай понял, что Афанасий спрашивает об Анюте.
— Видел.
— Как и писали, замужем?
— Замужем. И знаешь, дедушка, тебе придется прослушать цикл стихов о любви. В них я все рассказал.
— Счастливая!
— Кто? — спросил Николай.
— Твоя возлюбленная.
— Почему ты так думаешь? — опешил поэт.
— Да потому, что целый цикл стихов ей посвящен. И она эти стихи может не слушать. Это, имей в виду, редкое счастье.
Николай невольно улыбнулся.

Студенты возвращались из Ленинграда. Они заняли отдельный вагон в конце почтового поезда. Вагон был четвертого класса, вторые и третьи полки в нем сплошные, вроде полатей, так что можно свободно лежать втроем.
Николай вместе с двумя студентами занял вторую полку. Справа от него было место Кати Кузнецовой, его однокурсницы. Катя читала тоненькую книжечку в жиденьком переплете и время от времени чему-то смеялась. Слева от Николая устроилась Таня Моисейченко.
С Кузнецовой Николай был в товарищеских отношениях, с Моисейченко разговаривал редко.
Таня Моисейченко, как и всегда, выглядела очень нарядно в своем черном шерстяном платье с расшитым зеленым шелком воротником и рукавами. Устроилась она совсем по-домашнему: под головой резиновая подушка в парусиновой наволочке, в ногах — чемодан. Теплое ватное пальто аккуратно свернуто шелковой подкладкой наружу, черный каракулевый воротник бережно отстегнут, чтобы не мялся.
За окном, словно пригнувшись, бегут деревья, мелькают деревушки с избушками, похожими на рыжих наседок, голубые, заснеженные овраги. Тени от снегозадержательных щитов мельтешат в глазах.
«Приеду в общежитие, — думает Николай, — «дедушка» спросит: понравилась экскурсия? А много ли осталось в памяти? Сознательно ли я подходил к тому, что видел? Нет. Смотрел, что показывали, слушал, что говорили. Точь-в точь, как мы учимся в университете: программа большая, спешим».
В памяти встает Нева с огромными мостами, широкие прямые улицы, многочисленные памятники на площадях, в садах и скверах, залы Эрмитажа, «Демон» в оперном театре, его голубоватое, дьявольское, светящееся в полутьме лицо, отъезд из Ленинграда, медленно уплывающий назад вокзал, дома, а потом все быстрее и быстрее убегающие корпуса заводов.
«Нет, что я, все-таки замечательная экскурсия! — думает Николай. — За все двадцать три года моей жизни я не видел столько, сколько повидал за эти две недели».
Не все было понятно. Странное впечатление, например, произвели на него французские импрессионисты. Что-то и очень нравилось, казалось свежим, необычным, ярким, а вместе с тем не вязалось с реальной, действительной жизнью. Такое впечатление создалось у него в Эрмитаже, такое же и в Москве в Музее изящных искусств. И непонятными казались эти картины, и что-то в них было хорошее. Что? Он не мог ответить на этот вопрос. Вдруг подумалось: вот так в детстве необычным выглядело окружающее, когда смотрел на него сквозь разноцветные стеклышки. Тогда это очень увлекало, как чудо какое. И импрессионисты видят мир тоже необычным, вроде бы через цветные стекла.
«Интересно. В этом что-то есть!» — решил Николай, будто волне, отдаваясь своим новым мыслям. Он не слышал, как внизу неуверенно запели песню, не заметил, как подошел Анатолий Балахонов.
— Ястребов, вставай петь, — сказал он, взглянув на Моисейченко.
Почти машинально Николай спрыгнул вниз. С трудом пробираясь сквозь толпу, они прошли в конец вагона, и голоса их присоединились к хору.
С детства Николай любил петь народные песни. Когда он теперь запел: «Пролегала она, путь-дороженька», многие подхватили, и казалось, не будет конца песням. Как сквозь туман, Николай видел поющих студентов, дирижирующего Анатолия, бледное, изнеженное лицо молча слушающего Добровольского. Где-то в глубине все еще жила мысль о французских импрессионистах. Потом вдруг вспомнилась Анюта, которая так любила песню «Пролегала она, путь-дороженька»…
Давно не видал ее Николай, с того самого раза, как еще на первом курсе побывал на хуторе Роднички. И все-таки он часто представлял новую встречу. То он думал: вот окончит университет, приедет на хутор Роднички, увидит Анюту и Кондрата.
То представлялось ему, что она не уживется с Кондратом. Кондрат не понимает, как нужно дорожить любовью. Он похож на Анатолия Балахонова, а такие люди думают только о минутном удовольствии. Но и, представляя все неприятности, которые доставит развод Анюте, Николай все же мысленно радовался тому, что Анюта действительно может разойтись с Кондратом.
Любовь к ней мешала Николаю полюбить другую девушку, хотя ему очень хотелось и любить и быть любимым. За эти годы он знакомился со многими студентками, с некоторыми дружил. Разговаривая, иногда ловил себя на мысли: «А ведь умная, хорошая девушка!» Но вспоминалась Анюта, и новое впечатление тускнело.
— Ты какой-то блаженный, — говорил ему Анатолий.— Видный, здоровый парень, а ведешь себя как монах.
— Это тебя не касается, — отрезал Николай.
— Думаешь, девушки уважают таких? Ничего подобного! Они просто считают тебя вислоухим.
— Ну и пусть! — с дрожью в голосе говорил Николай.— Нельзя жить так, как ты живешь. Я не понимаю, как это можно сказать «люблю» нелюбимому человеку! Это просто подло!
— Какая мещанская мораль! — удивлялся Анатолий.
— Не мещанская, а человеческая.
— Ты чудак! Потом жалеть будешь, да поздно! Молодость не воротишь.
Анатолий торжествовал бы, если бы узнал, что у Николая появлялись порою мысли-воры, которые он старался запретить себе. Но может быть, именно любовь к Анюте продолжала оберегать его от случайных связей.
Стемнело, и проводник зажег свечу в фонаре. Неровный, одинокий свет колыхнулся из стороны в сторону. Тени испуганно заметались по стенам, корзинам и лицам.
— Еще раз предупреждаю вас, граждане, петь в вагоне нельзя, — сказал проводник, задерживаясь в дверях.
— Он прав, — проговорил Анатолий очень серьезным тоном.— Но проводники тоже смертны.
Студенты пели и после ухода проводника.
Николай неохотно вернулся на свою полку, лег на пальто. Он все еще был во власти песен. Его голубые глаза блестели, на широких скулах играл румянец.
— Молодец, — похвалила Кузнецова.
— Служим народу на своих харчах,— отшутился Николай.
— Очень хорошо пели,— подтвердила и Моисейченко.
Он вдруг с воодушевлением проговорил:
— Эх, разве у нас так поют?
— А где это у вас?
— На хуторе. Я сам из Суходольского района, — пояснил Николай.
За окном лежала темная, безлунная ночь. Николай отчетливо слышал завывание ветра, врывающееся в размеренный стук колес. Пламя свечи разгорелось, стало колебаться сильней. Вспомнилось поле. В казанке на тагане варится вкусная полевая каша. Через край казанка на горящие угли брызжет пена, у костра тепло и светло. Он освещает черную телегу, мирно жующих быков. Светлая полоска добегает до загона… На минуту из темноты выступает плуг, борона, пашня. У костра девушка-кашеварка. Она наклонилась, косы упали наперед. Чтобы они не мешали ей, девушка откинула их назад, будто отгребла руками… Николаю захотелось рассказать обо всем этом.
— Да, — сказал он Моисейченко, — у нас хорошо поют. По вечерам соберется на берегу реки чуть ли не половина хутора. Летним теплым вечером голоса далеко слышны. Как запоют, забываешь о времени…
Слушая Николая, девушка тоже забыла, видно, о времени, так живо и красочно говорил он о своем хуторе, о песнях. С песен перешли на экскурсию. Николай сказал, что, в сущности, к этой поездке он готовился все университетские годы. Слушал лекции по истории искусства, немало читал, встречался с художниками и писателями и все же недоволен.
— Москвичи и ленинградцы имеют перед нами большое-преимущество, — говорил он.— Никакими репродукциями не передашь «Мадонну Литту» или «Боярыню Морозову». А Москвин в Художественном театре? Ведь он не играет, а живет на сцене. Ничего подобного мы не видим в Ростове.
Таня согласилась, но тут же добавила, что очень любит свой город и не променяла бы его ни на Москву, ни на Ленинград. Незаметно проговорили до двух часов ночи.
В вагоне уже спали. За окном все также шумел ветер. Пожелав Николаю спокойной ночи, Таня отвернулась, натянула на себя одеяло и скоро заснула.
Второй разговор с Таней возник на станции Грязи. Николай сидел у окна и смотрел на падающие снежинки. Они были так малы, что становились видны только на темном фоне спального вагона, стоявшего на соседнем пути. Подошла Таня. Николай молча отодвинулся и кивком пригласил ее сесть рядом.
— А странно у нас, русских, получается,— сказал Николай.— Самые красивые места — с такими нелепыми названиями «Грязи». А на вывеске пивной, смотришь — «Заря». Надо бы писать: «Потемки».— Ему нравилась станция Грязи. Все здесь казалось интересным, хорошим и по-хорошему смешным.
— Верно, — Таня взглянула на него и засмеялась.
Николай увидел ее зубы — плотные, белые. Лицо у девушки крупное, с правильными чертами. Белокурые волосы вьются возле маленького уха. И глаза — черные, большие, сделавшиеся вдруг строгими. Что-то в них — не только форма и цвет — напомнило глаза Анюты.
Взгляд Николая был слишком пристальным.
Таня нахмурилась и отвернулась.
Поезд тронулся.
«Вот тебе и Грязи! Надо же было мне заводить этот разговор. Капризный народ женщины». Он не смотрел на Таню, боясь встретить ее неприветливый взгляд. Поезд уже вышел в открытое поле. Николай не замечал этого. Только минут через двадцать после отъезда из Грязей он осмелился посмотреть на девушку.
К ним подошел Добровольский.
— Таня, — обратился он к Моисейченко, — давайте выйдем, скоро будет станция.
Николай нагнул голову. Он ждал ответа.
— Пойдемте, — сказал Таня.— Подождите, я сейчас оденусь.
Добровольский прошел мимо. Николай, до этого не обращавший внимания на свои матерчатые черные брюки и серую толстовку, вдруг подумал, что они безобразят его, и позавидовал тому, что Добровольский хорошо одет.
«Конечно, пенек наряди, и тот за красавца сойдет»,— горько подумал он и усмехнулся: — А кто мне эта Моисейченко? Просто случайная попутчица».
Но на следующей станции он сам вышел на перрон с Таней.
Качались белые с зеленоватым оттенком фонари, и в свете их легко, неслышно падал снег.
— Ты твердо решила остаться в Новочеркасске? — спросил Николай, носком ботинка разгребая снег.
— Да, я заеду к тете.
— А у меня там товарищ живет. Тоже собирался к нему как-нибудь поехать, да все некогда.
«Что я говорю! — думал он.— Я же никогда не собирался ехать в Новочеркасск»,
Николай покатил снежный ком, осталась глубокая борозда.
— Слушай, Таня, мы еще встретимся с тобой? — вдруг спросил Николай.
— Конечно, и не раз. В одном здании учимся, в одной комсомольской ячейке состоим.
— Нет, серьезно… Я не о такой встрече говорю.
Она ничего не ответила, и он смущенно замолчал.
В Новочеркасске Николай проводил Таню в зал первого класса, на прощанье крепко пожал ей руку и вернулся в вагон.
И вдруг этот вагон показался ему тесным и неуютным. Он увидел пыль на полках, грязь и окурки на полу.
— Что же, проводил Моисейченко? — спросила его Кузнецова, но он услышал ее вопрос будто сквозь сон.
Кузнецова опять что-то спросила, что-то сказал Анатолий — Николай ничего не слышал. Только когда они засмеялись, понял: «Надо мной смеются. Ну и черт с ними, подумаешь!»
Захотелось снова видеть Таню.
«Останусь на денек в Новочеркасске, схожу в музей. Ночевать есть где. Надо будет Попова найти». И он взял с полки свою обветшалую плетеную корзину.
— Ты куда? — спросил его Балахонов.
— К Алеше Попову. Давно приглашал.— Николай открыл дверь и на ходу проговорил Анатолию: — Дедушке привет.
Некоторое время он стоял возле низкого, длинного, как барак, приплюснутого вокзала, потом пошел к собору. Медленно поднимался на крутую гору Бирючий Кут. То и дело его обгоняли извозчики на санях, и он заглядывал в каждые сани, ожидгя увидеть Таню. Но ее не было.
Новочеркасск был похож на большую станицу. Кричали грачи, не было ни трамваев, ни автомобилей. И казалось странным, что в этом тихом городе столько вузов и так много студентов.
Подошел к памятнику Ермаку, постоял возле чугунной махины. Прошел мимо Исторического музея, посмотрел на статуи, сделанные еще в каменном веке. Ветры, дожди и солнце оставили на них неизгладимые следы.
«Ну, куда же теперь?»
Алеша Попов на все каникулярное время уехал в станицу. Кроме него, в Новочеркасске у Николая не было знакомых.
С корзиной на плече, которая становилась вся тяжелей, он долго ходил по улицам незнакомого города.
«Ну зачем я остался? — думал Николай.— Девушка поговорила со мной, а я вдруг вышел из вагона. Студенты смеялись, когда я уходил, и это действительно было смешно. Будет над чем поиздеваться теперь и Добровольскому. А может быть, он вместе с Таней будет смеяться? Могут и вместе повеселиться на мой счет. Они старые друзья. И зачем я во все это влип? Вот сделаешь иногда какую-нибудь глупость, а потом самому стыдно становится. Ну, что было? Поговорили в вагоне. Она была внимательна, а мне что-то показалось, и я наговорил всяких глупостей». Николай представил себе бледное смеющееся лицо Добровольского, его злые, холодные глаза. Смех Добровольского Николаю был хорошо знаком. Ему стало не по себе.
— Клянусь, что больше никогда не буду искать встречи с ней, — решительно сказал он. И снова вспомнил лицо Тани, ее глаза, голос. Ему было больно даже в мыслях лишить себя будущих встреч с Таней.
Проболтавшись на вокзале всю ночь, Николай утром уехал из Новочеркасска.
Добровольский рос баловнем, никогда не знал нужды, всегда был первым учеником. Он играл на рояле, неплохо рисовал, легко писал статьи и сатирические стихи, не раз бывал в Москве и Ленинграде.
Добровольский привык к тому, что его хвалят. Уже в школе второй ступени он ни с кем не дружил, потому что окружающих мальчишек и девчонок считал бездарностями и тупицами. Еще там он привык обо всем говорить со значительным видом. В кругу знакомых отца он усвоил тот легкий иронический тон и тот значительный вид, когда со стороны казалось, что все, о чем он говорил вскользь, он знал лучше и полнее, чем другие, и просто не желал распространяться.
И в университете он с насмешкой относился к большинству студентов, особенно из рабфаковцев.
Лучше всего он чувствовал себя в своей комнате. Здесь он становился самим собой, тихим человеком, любителем уюта, книг, музыки. Сюда не доходила внешняя жизнь с ее шумом, собраниями, ссорами, тут не надо было притворяться. Вот здесь, у этой глухой стены, стояла детская кроватка. Сейчас на этом месте — односпальная кровать. Вот здесь, между шкафом и этажеркой, он переживал все свои детские обиды и здесь же, став взрослым, думал о радостях будущего.
Он обвел глазами комнату. Взгляд его остановился на рояле.
Владимир подошел к нему, поднял черную лакированную крышку. Звучание струн захватило его. Он взял несколько аккордов из Грига, и ему представилось, что он сегодня будет вдвоем с Таней. Он скажет ей о своей любви. Она, может быть, потому так ведет себя с Ястребовым, что он не делает решительного шага? Это, наверное, так.
Добровольский представил улыбку Тани. Сегодня в университете она была с ним ласкова.
«Да, я должен сделать решительный шаг. Но раньше это было бы преждевременным: я не имел законченного образования. Теперь — самое время».
Владимир захлопнул крышку рояля, отодвинул стул, подошел к столу. Здесь много книг. Одну из них он развернул. Но читать ему не хотелось, и он продолжал рыться в книгах. Это занятие он любил больше всего. Книги в большинстве были старые, и относился он к ним, как к знакомым. Вот Радищев — «Путешествие из Петербурга в Москву». На книге надпись профессора Благосклонова: «Книги, как люди, их также ненавидят, преследуют и сжигают». Вот три томика Артура Шопенгауэра — «Афоризмы и максимы». Вот Фридрих Ницше — «Так говорил Заратустра». Вот Гегель, Платон…
Добровольский считает себя знатоком философии. Он подходит к шкафу, достает еще книги, стоя, начинает перелистывать, читая подчеркнутое синим карандашом.
— Фридрих Ницше,— тихо говорит он,— сказал, что надо завоевывать себе право создавать новые ценности. Да, надо завоевывать.
Он представил себя рядом с Ястребовым.
«Его будущее — учителишка станичной школы второй ступени. Тетради, тетради и тетради. А мое будущее? Через год-два, самое большее три — доцент. А потом широкая дорога к вершинам науки, к сияющим вершинам. С кем по пути Тане Моисейченко, единственной дочери преподавателя университета? Конечно, со мной. Она останется в своей среде. Я люблю ее и постараюсь создать ей приличные условия. А с ним ей будет скучно. Чем он может занять ее? О чем они разговаривали? Бьюсь об заклад, он рассказывал свою биографию».
Добровольский взглянул на часы и прошел в столовую. Домработница Лиза, женщина лет сорока пяти, принесла ему чистую салфетку. Без особого аппетита он съел полтарелки борща, попробовал котлету, выпил стакан холодного молока.
На улицу вышел с чувством радости. Солнца не видно. Снег слегка тронут синевой. Дым из заводских труб густой и такой же белый с синевой, как снег.
Владимир сначала решил зайти к профессору Благосклонову.
Еще будучи учеником второй ступени, Добровольский мечтал о славе поэта. Он долго и упорно изучал стихи Бальмонта, Гумилева, Блока, Брюсова, Мандельштама, Ахматовой, и сам ежедневно писал по стихотворению. Отпустил было себе длинные волосы.
— Лермонтов — гений,— любил повторять Добровольский.— В двадцать семь лет он оставил миру замечательные творения. А посредственности, даже и всю жизнь трудясь, проходят бесследно.— Он не добавлял, но каждому было понятно: к двадцати семи годам гений Добровольского тоже развернется.
Чужих мнений Добровольский не признавал принципиально и советов не слушал.
«Всякая посредственность будет меня учить!»— негодовал он на любое замечание.
Однако здравый смысл ему подсказывал, что стихи его — перепевы символистов и акмеистов, что нет в них живого слова. И он пришел к выводу: «Не надо заниматься этой писаниной. И без меня достаточно людей, выдающих за стихи всякую чепуху».
Он поступил в университет, твердо решив стать ученым. Мать тоже говорила, что Володя непременно будет ученым, как прежде заявляла, что он станет знаменитым поэтом. Отец, глядя на сына из-под очков усталыми ироническими глазами, воздержался от высказываний. Он хорошо помнил детство Володи, когда мать решила, что сын проявляет удивительные способности к музыке. Тогда рояль не умолкал по целым дням и вечерам, преследовал его даже во сне. И теперь, слушая голос супруги, он отмалчивался. «Ученый так ученый. Пусть будет ученым, а пока — выкладывай, отец, денежки».
В университете, еще на первом курсе, все преподаватели и профессора отделения узнали и выделили Добровольского. Этому способствовало особое положение лингвистов. Из двухсот студентов первого курса педфака большинство училось на социально-экономическом отделении. Туда пошли почти все коммунисты и комсомольцы. Из беспартийных многие подали заявления на физико-техническое отделение (некоторые надеялись отсюда попасть в индустриальные вузы, пользовавшиеся в те годы особой популярностью). Несколько меньше поступило на биолого-химическое отделение. И всего девятнадцать студентов пришло на первый курс отделения языка и литературы, да и из них далеко не все посещали лекции.
Вполне понятно, что с первых же дней профессора и преподаватели литературно-лингвистического отделения знали каждого из своих слушателей, их запросы, подготовку. Да и студенты основательно познакомились с каждым руководителем.
С Благосклоновым Добровольский был в дружеских отношениях. В этом стройном юноше профессору все было понятно, близко — от чистых ногтей до галстука, не яркого, но заметного. Профессор понимал честолюбивые стремления юноши и старательно выдвигал его.
Сейчас Владимир шел к Благосклонову, чтобы показать тезисы своего будущего выступления по реферату Редько.
Через несколько дней «дедушка» должен был читать в университете свою первую научную работу. Благосклонов на семинарском занятии не собирался выступать, но непременно хотел разгромить работу Редько. С этой целью он и подготовил Добровольского: указал слабые места реферата, помог составить план выступления, порекомендовал соответствующую литературу. Словом, сделал все необходимое, чтобы Редько был посрамлен. И вот теперь, уже вторую неделю, Добровольский готовился к этому разгрому.
Таня Моисейченко была одна. Она ждала Добровольского. После экскурсии в Ленинград он стал почему-то раздражительным, а иногда и совсем невозможным. Ей казалось, что она понимает его. Сама она боялась предстоящего серьезного разговора и чувствовала, что он вот-вот должен состояться. Она еще не решила, что ответит Добровольскому, но при каждой встрече с ним сильно волновалась.
Таня привыкла бывать с Владимиром. Он был приятней других ребят. Человек неглупый, начитанный, он выигрывал в ее глазах, особенно рядом с теми, кто вел легкомысленный образ жизни. Но было в нем и то, что пугало ее, отталкивало. Тане меньше всего нравилась роль профессорской жены, которая заботится только о том, как накормить мужа. А Добровольский, разворачивая перед Таней свои честолюбивые планы, совершенно не интересовался, что собирается делать она после окончания университета.
Почему-то Тане казалось, что главное должно произойти сегодня. Она видела, как побледнел и похудел за эти дни Добровольский, с какой нежностью он смотрит на нее. Волновало и то, что сегодня он особенно настойчиво и умоляюще говорил с ней в университете.
Таня ходила по своей просторной комнате, не находя себе места. Ее движения, обычно легкие, плавные, сегодня были беспокойными. Она то задумчиво смотрела, как плавают в аквариуме золотистые рыбки, то переводила взгляд на низенький столик с микроскопом.
«Я не выйду за него замуж»,— вдруг подумала она. Это успокоило ее. Она почувствовала облегчение и даже взялась за Брема. Но уверенности хватило ненадолго. Как только она представила лицо Добровольского, его влюбленные глаза, спокойствие покинуло ее.
Бросив книгу на диван, Таня начала переодеваться. Она открыла зеркальную дверь гардероба. В зеркале, описывая полукруг, поплыла и затем остановилась комната со всеми предметами. Таня надела коричневое шерстяное платье, слегка попудрилась, побрызгала духами носовой платок.
«Что это его нет до сих пор? — Она посмотрела на свои часики.— А почему это меня волнует? Что со мной? Глупости! Я твердо решила, что не пойду замуж. Я предложу ему дружбу. А может быть, еще ничего и не будет».
Когда раздался осторожный стук в дверь — так осторожно стучал только Добровольский, — она, смущенная, непослушными руками открыла дверь.
Электрическая лампочка тускло освещала переднюю. В левой руке у Добровольского был портфель. Это было неожиданно и как-то неприятно Тане после всех ее волнений.
Добровольский выглядел так, будто и не собирался ни о чем говорить, просто пришел по делам.
— Я не опоздал? — спросил он, внимательно взглянув ей в глаза.
— Нет, нет,— поспешно ответила она, избегая его взгляда.— Почему вы с портфелем?
— Заходил к Виталию Владимировичу. Показал ему тезисы своего выступления по реферату Редько. Я вам прежде говорил.
Он зашел мимоходом. «Вот так же мимоходом он когда-нибудь признается и в любви!» — подумала Таня и спросила:
— Ну и как?
— Кое-что надо еще почитать. Но, по мнению Благосклонова, выступление получится весьма оригинальным. А его мнением я дорожу.
Добровольский говорил развязней, чем всегда, и это тоже было Тане неприятно. Еще более неприятно было то, что он, не выслушав реферата Редько, уже готовит его разгром. Она спросила:
— И вам не жаль Редько? Вот я не могла бы так хладнокровно готовиться к такому выступлению.
— Редько заслуживает худшего! — брезгливо сказал Добровольский.
И она не посмела спорить.
— Я готова.— Таня пошла к вешалке, но Добровольский, предупредив ее, снял пальто и подал ей.
Помогая Тане одеваться, прикасаясь к ней, Добровольский испытывал волнение. Он вдруг поймал себя на том, что Таня нравится ему не только как дочь доцента, что она для него нечто большее, чем просто ступенька на пути к карьере. «Неужели полюбил? Да не может быть. Чушь какая-то».
Но и в кино он продолжал ощущать то же необычное для него волнение. Локоть о локоть с ним сидела Таня. Хотелось ближе наклониться к ней, привлечь к себе, но он знал, что Таня не позволит этого.
Он сидел беспокойно, то невольно прикасаясь к ее одежде, то отстраняясь от нее. Он боялся, что она почувствует его волнение.
На экран Добровольский почти не смотрел.
Таня сначала думала о предстоящем разговоре с Владимиром, мысленно отвечала на его слова. Но когда она увидела на экране обманутую женщину с грудным младенцем на улице большого города, ночью, под проливным дождем, когда ей стало понятно, что мать и ребенок не имеют ни крова, ни пищи, картина захватила ее. Жадно глядя на экран и смутно чувствуя беспокойство Добровольского, Таня думала: «И около меня кружатся, пока молода, красива, хорошо одеваюсь. Но заболей, очутись вот в таком же положении, что со мной будет?»
И она стала представлять себе свое будущее не веселым и радостным, каким представляла почти всегда, а тяжелым, безотрадным. Что только не пришло ей на ум! То она видела себя чахнущей, туберкулезной, то — даже подумать страшно — вспомнила, как однажды женщина попала под трамвай и ей отрезало ноги, и представила себя безногой…
Во время сеанса некоторые зрители плакали. Таня тоже была взволнована.
Из кино Добровольский пошел провожать ее. На Пушкинской улице было очень тихо. Добровольский взял Таня под руку. «До сих пор не было сказано ни слова о любви. Сегодня пора», — подумал он.
Но едва он собирался что-нибудь сказать, как чувствовал, что в горле у него пересыхает.
«Начну так: мы с вами кончаем университет, пора серьезно подумать о будущем. Вы знаете мои чувства к вам… Нет, плохое начало. Какое-то стереотипное. Надо по-другому». Таня молчала, и это обоюдное молчание становилось нестерпимым.
— Понравилась вам картина? — сказал он наконец.
— Очень.
— Мне тоже понравилась. В самом деле, мы часто встречаем картины тенденциозные…
Тане казалось, что он нарочно заговорил так, чтобы вызвать ее на спор. Она знала, что некоторые картины у нас делаются плохо, и сама порой возмущалась. Но ей было известно, что Добровольскому не нравятся почти все советские фильмы, а нравятся иностранные. Это и делало ее постоянной его противницей. И сейчас, почувствовав какую-то фальшь в голосе и в словах Добровольского, она не удержалась и вступила с ним в спор, хотя у нее было совсем не такое настроение, чтобы спорить.
— Картины все тенденциозны, — сказала Таня, — так и должно быть.
— Но вопросы, поставленные в картине, являются вечными, общечеловеческими. Любовь… Знаете, Таня, почти у всех людей главным является собственная персона, собственная семья… Вот почему такие темы, как любовь и смерть, близки решительно всем людям.
Добровольский заговорил тоном насмешки над собственными словами:
— На меня картина произвела грустное впечатление. Когда я смотрел ее, то невольно думал: так все в этом мире. Его хотят сделать лучшим из миров. Вопиющая нелепость! Об этом мире хочется сказать словами Байрона:
Добровольский читал не торопясь. Его тонкий, слабый голос был грустен, нежен и насмешлив.
— Возьмите Шекспира:
О чем говорят эти строки? — горячо, с пафосом спрашивал Добровольский, и сам же отвечал: — Они говорят о том, что мало радости на свете! Что часы и дни наслаждений можно перечесть по пальцам…
Таня шла, занятая какой-то своей думой. Добровольский скосил глаза в ее сторону и, перебивая самого себя, подумал: «А она чертовски красива! Если бы заключить союз ума и красоты… А что если ей совсем нет дела до меня, моей любви, одиночества, существования. Но должна же она, должна отличить меня от этой серой, одноликой комсомольской среды, от этих глупых Ястребовых!»
При свете электричества деревья бульвара казались нереальными, как во сне. От голых стволов и ветвей на белую дорогу падали неподвижные, четкие, голубые тени. Как звон детского колокольчика, доносился с Большой Садовой звон трамвая.
— А знаете,— Добровольский сухо улыбнулся,— нашему общему приятелю Ястребову опять не повезло.
— Что с ним случилось?
— Провалил зачет по русской литературе первой половины девятнадцатого столетия. Говорят, пришел к Валентину Евгеньевичу, и тот стал спрашивать не о ведущих писателях, звездах первой величины, а о Баратынском, Чаадаеве, Кукольнике. Ну и завалил. Да еще, говорят, спросил: «Зачетная книжка при вас?» Ястребов обрадовался, подал зачетку, а Валентин Евгеньевич говорит: «Не забудьте принести ее в следующий раз».
Теперь Таня внимательно слушала Добровольского. Зная по рассказам отца некоторые странные привычки Валентина Евгеньевича и тот факт, что Ястребов был с ним в ссоре, она не сомневалась, что все, о чем только что рассказывал Добровольский, правда. Но как он передал это, с какой злостью!
— Почему вы о Ястребове говорите с такой ненавистью? — спросила она.
— С ненавистью? Вы ошибаетесь, я просто вспомнил смешной случай.
— Человек он энергичный, неглупый, — сказала Таня.
— Да, потенциальные возможности его велики, судя по физической массе,— насмешливо сказал Добровольский. Он вспомнил, что все эти дни волновался из-за Ястребова, ревновал к нему Таню, и теперь ему захотелось унизить этого «мужика».— Но мне кажется: замыслы у него соколиные, а крылья воробьиные. Во всяком случае, фамилия к нему не подходит.
— Вы просто несправедливы к Ястребову.
— Ошибаетесь,— возразил Добровольский.— Все это меня нимало не волнует. Я готовлюсь к научной деятельности, и эти люди, их дела меня не интересуют. Я каждый день имею возможность наслаждаться самыми замечательными созданиями человеческого ума! — И он заговорил, цитируя недавно прочитанную книгу, о том, какое это великое наслаждение одному в знакомой с детства комнате читать книги любимых писателей.
Таня не знала, что сейчас он приводит для доказательства своей правоты чужие мысли, хотя, вообще-то, его страсть к цитированию была ей известна.
— Плохо вы ими наслаждаетесь,— с усмешкой сказала она.— Если бы вы поняли, чего добиваются лучшие умы человечества, то рассуждали бы совсем не так. Вы, по-моему, не понимаете их. Вы слишком черствы!
Удивленный ее необычной резкостью, Добровольский все же не удержался от продолжения спора. Они ведь почти всегда спорили, но сегодня перешли какую-то грань.
— Однако вы меня не щадите,— пришел в себя Добровольский.
— Я говорю правду. Ваша нелюбовь к людям приводит к тому, что вы готовы издеваться над Ястребовым, разгромить реферат Редько, даже не прочитав его. Что это, как не эгоизм?
— Зачем нам ссориться? — спросил Добровольский, останавливаясь.
Таня тоже остановилась и улыбнулась насмешливо:
— Знаете, лучше нам больше не встречаться… Ни к чему!
— До свидания! — сухо сказал Добровольский.
— До свидания! — ответила Таня и пошла легко, не оглядываясь, к большому, трехэтажному дому.
— Таня! — крикнул он.
Она приостановилась, но, не оглянувшись, махнула рукой и пошла быстрей.
Добровольский несколько минут простоял в тени дерева, затем зашагал в другую сторону.
«Черт возьми, так и ушла! Ну, ничего, вернется. Такие, как я, на дороге не валяются, — думал он.— Опять хочется привести цитату из какой-то книги. Это и в самом деле смешно. На каждом шагу — чужие афоризмы! А ведь она права, это ужасно глупо: влюбленный оболтус заводит дикий разговор об индивидуализме». Добровольский никогда и никому не признавался, что он в чем-нибудь не прав, если даже это сознавал. Он считал унизительным для себя признавать, что он, Владимир Добровольский, вдруг оказался не прав и что кто-то — еще чего недоставало — умней его. Но наедине с собой даже Добровольский порой не обманывал себя, признавал свои ошибки.
«Зачем я пошел с ней? — продолжал он казнить себя.— Затем, чтобы выслушать, что я дурак, ограниченный, черствый человек? И это я? Что за дичь!
А как все шло хорошо! Этот фильм… Потом вместе вышли из кино. Луна. Деревья в снегу. Я взял ее под руку. Черт возьми, а может быть, она права? Возможно, я не понимаю чего-то, какой-то очень важной стороны жизни? Но, Таня, Таня, неужели она навсегда потеряна?! Ведь были и прежде ссоры… Нет, это конец».
При мысли о разрыве с ней ему стало вдруг невыносимо грустно. Он на самом деле почувствовал одиночество и пустоту, о которых обычно говорил только потому, что так говорили «великие умы». Он глядел по-новому на белые, синие и зеленые окна домов, на бесприютные деревья, на одинокие уличные фонари. Перед мысленным взором — сегодняшняя Таня, гордая и независимая, с насмешливо поднятой черной бровью, и Таня прежняя, с любопытством, а может быть, с нежностью смотревшая на него. «Оболтус! Сам виноват. Во всем виноват сам». Он вышел в более освещенную часть города. Здесь было много народу. Мчались трамваи, автомобили и пролетки. Привычная картина немного успокаивала. Но как только он начинал обдумывать то, что произошло, тоска властно захватывала его. Хотелось вычеркнуть сегодняшний день из жизни, хотелось как бы проснуться и сказать: «Это был сон. Как я рад, что это был только сон!»
А Таня пришла в свою комнату, разделась и сейчас же легла в постель. До сих пор она все делала внешне спокойно, руки были послушны ей. Но едва голова коснулась подушки, как девушка заплакала. Она плакала, обвиняя себя в жестокости. Плакала потому, что все получилось не так, как она предполагала. Таня удивлялась: откуда у нее столько взялось злости к Добровольскому?
«У меня начинает портиться характер»,— думала она. И вместе с тем Таня сознавала, что он ей чужой человек. Совсем чужой.
«Как он холодно готовится к тому, чтобы добить безногого человека! Бедный Редько и не подозревает. А как он зол на Ястребова! Нет, я права. Но зачем так жестоко?» На другой день она получила от Добровольского краткое письмо. Исключая цитату, в нем все было нехарактерным для автора.
«Таня!
Простите меня. Я глупец, не умевший ценить свое счастье, Я совсем не хотел с Вами ссориться. Другое волновало меня. Но сказалась проклятая привычка — всегда и со всеми спорить. Я жестоко наказан. Поймите, Таня, я совсем не такой человек, каким показался Вам вчера. Но, к сожалению, это произошло. «Мысль изреченная есть ложь». Никогда это не было так верно, как вчера.
Таня, прошу Вас, забудьте о вчерашнем дне. Давайте условимся, что его не было.
18 января 1930 года. В. Добровольский».
По вечерам с восьми до десяти часов вечера Николай в своей комнате почти всегда один. Анатолия раньше двенадцати с собаками не сыщешь. Редько в университетской или в крупнейшей в городе публичной библиотеке имени Карла Маркса. Стихи и рассказы Николай пишет чаще всего в эти часы. То, о чем он задумал написать сегодня, так волнует его, что у Николая не хватает терпения ждать, когда мысли улягутся и их можно будет переносить на бумагу. Конечно, и устоявшиеся мысли, когда их станешь записывать, могут измениться, однако нельзя писать того, что еще не определилось.
Задумчиво глядя на бумагу, Николай мысленно рисует знакомого с детства дядю Ивана Тимофеевича, с предельной ясностью вспоминает день, проведенный у него минувшим летом.
Иван Тимофеевич привез воз сена. Николай пошел с ним сметывать. Арба остановилась около прикладка.
Пока Николай, ухватившись за ослабленную бичеву, взбирался на вершину воза, Иван Тимофеевич принес небольшую лесенку, прислонил ее к прикладку и полез вверх с четырехрогими вилами, блестевшими на солнце. Не успел Николай сбросить бичеву с воза, как Иван Тимофеевич был уже наверху. Покручивая левой рукой молодцеватый ус, а правой опираясь на вилы, он стоял на прикладке так же твердо, как стоял на земле, и, улыбаясь, торопил Николая:
— Поживей, племяша!
Взналыганные* (* взналыгать — связать быков одного с другим за рога) быки ходили по гумну. Николаю виден был с воза противоположный берег Безымянки, кусочек темно-зеленой воды. На том берегу — вербы. Дальше — степь. Над гумнами слышится карканье ворон, живущих в вербах.
— Подавай! — весело крикнул Иван Тимофеевич, смотря на Николая светлыми прищуренными глазами.
Николай поплевал на ладони и набрал первый навильник сена.
— Это тебе мущинская работа, чтобы не засиделся,— говорил Иван Тимофеевич, принимая навильник.
— Я и так не засижусь.
— Вливается учение-то? — спросил Иван Тимофеевич, ловко подхватывая с вил Николая охапку сена.
— Вливается понемногу.
Сено шуршит, рассыпается, покорно ложится на вилы и плывет вверх, вместе с ним по земле плывет такая же кудлатая тень от охапки и соединяется с большой тенью прикладка.
После обеда Николай и Иван Тимофеевич поехали в поле, чтобы привезти еще воз сена. Иван Тимофеевич, помахивая кнутом, погонял быков. Под боком у Николая — зипунок, Иван Тимофеевич тоже сидит на зипунке. Между дядей и племянником, на самом дне арбы, подпрыгивая на кочках, лежат запасная заноза, свернутая бичева и холстинная сумка с харчами.
— Бабичев дол? — показал Николай рукой по направлению к восходу.
— Не забыл? — с удовольствием спросил Иван Тимофеевич.
— Это всегда помнится…
— Родину забывать не надо… А там хорошо живут? — Иван Тимофеевич кивнул по направлению к станции.
Николай понял, что дядя спрашивает его об окрестностях Ростова.
— Нет. У нас — леса здесь, озера, реки и степь не такая скучная. А там летом земля трескается: нигде ни воды, ни кустика. А земля очень плодородная, чистый чернозем, но не радостная.
Говоря это, Николай вспомнил свои поездки с художником Ведерниковым в Старочеркасск, в Богаевскую.
— Низовые казаки против нас здорово живут,— сказал Иван Тимофеевич.
— Лучше,— согласился Николай.
Дорога разветвлялась.
— Цоб, держи, цоб, цоб! — закричал Иван Тимофеевич. Быки после удара кнутом пошли по дороге, на которую он их сворачивал.
— К Полынкам поедем? — спросил Николай.
— Да. Цоб!
Полынками на хуторе называли низину возле старого пруда, расположенную в соседстве с Еремичевым долом. Когда крепь была здесь, казак Ерема распахал ее. А вокруг леса стояли.
— Ну как? — спросил Николай, давая понять и самим вопросом и тоном, каким он был задан, что собирается поговорить с дядей по душам о настроении казаков, о его личном отношении ко всему новому, что в это время больше всего волновало хуторян.
— Ничего,— неопределенно ответил Иван Тимофеевич.
Племянник и дядя так хорошо знали друг друга, что достаточно было одному из них во время разговора изменить голос, как другой уже понимал, в чем дело.
— Ну, а все-таки?— допытывался Николай.
— Да вот о колхозах все гутарили,— сказал Иван Тимофеевич, пожимая плечами.
Николай посмотрел на его белую запылившуюся на спине рубашку.
— Ну и что же?
— Народ много толкует: там колхозы, там коммуны, там кредитные товарищества. И льготы государство дает, и землицу получше отводит. Вон и у вас в Грушках — двадцать один двор работает в колхозе, трактор имеют, машины.
— Теперь уж сорок семь дворов,— поправил его Николай.
— Ну вот, видишь! А ты представляешь себе, каково косой-то косить! Или — за плугом, к примеру, ходишь-ходишь, кланяешься-кланяешься, за день совсем обезножишь. То ли дело трактор! Напоил его керосинцем, обратал и катайся. А подумаешь иногда, что я тридцать пятый год ворочаю, так неужели и моему Петяше тоже целый век быкам хвосты крутить?
— Значит, ты понимаешь, что трактором лучше работать?
Иван Тимофеевич повернул к Николаю лицо.
— А это и глупому понятно.
— За чем же дело стало?
— Куда люди, туда и я! От людей мне отставать несподручно, а вперед забегать — ног жалко.
Он не сказал Николаю о своем главном опасении. Урожаи в артели могут получать хорошие, в этом Иван Тимофеевич не сомневался. Но вот, если все, что зародится на загоне, направят на элеватор, что тогда? Еще давно, когда в Суходольской начинали строительство элеватора, в Грушках семидесятилетний старик, дальний родственник Ястребовых, как ворон перед дождем, каркал:
— В эту вавилонскую башню соберут пшеничку, и будет мор и глад…
Иван Тимофеевич больше всего боялся попасть в зависимость. «Гляди потом из чужих рук… Как бы в самом деле старый ворон не оказался прав»,— с тревогой думал он, вспоминая разговоры чуть ли не двадцатилетней давности. Привыкший хозяйствовать один, он не знал, кому верить, кому не верить.
«А ежели они нашего брата собираются взналыгать, как быков?»
— Василий Маркович — старик, а в колхоз вступить не побоялся, — говорил между тем Николай.
Дядя недоверчиво усмехнулся:
— Нет, дорогой племяша, у меня пара быков да лошаденка. Все это отдай в кучу, а потом из чужих рук гляди.
Два с половиной года назад Иван Тимофеевич избегал говорить с Николаем о коллективизации. Но теперь и на хуторе Роднички этот вопрос стал главным. Как человек близкий, хорошо понимавший положение дяди, как комсомолец, Николай считал своей прямой обязанностью помочь Ивану Тимофеевичу быстрее разобраться что к чему.
Иван Тимофеевич слушал племянника внимательно, однако молчал. Когда он поворачивал лицо к Николаю, то парень видел по выражению его глаз и по блуждающей улыбке, что он пока еще твердо убежден: племянника направляют головы помозговитей, а что они о казаках думают?.. Он слушал Николая не с тем праздным любопытством, с каким обычно слушал, когда речь у них заходила о книгах и религии, о жизни города. Выражение на его загорелом лице постоянно менялось, как будто он хотел сказать Николаю: «Тебе, конечно, можно рассуждать и так и этак. Богатство у тебя в голове, ты его за плечами не носишь. А у меня все тут — в этих бычишках да лошаденке. Но я тебя слушаю. Говори, говори, может, что пригодится потом».
— Смотри, Николай Петрович, вон дудаки ходят,— перебил вдруг Иван Тимофеевич горячую речь племянника. А за этими словами стояло: «Не собьешь ты меня».
И Николай понял невысказанную мысль Ивана Тимофеевича.
— Где? — спросил он о дудаках и стал смотреть в указанном направлении.
— Да во-он, видишь!
И Николай увидел: дудаки расхаживали по коричневатой с зеленым отливом степи, всего саженях в ста от дороги.
Легко поскрипывали колеса. Глухими звуками отвечала дорога на топот быков. Вот делянка ржи, она почти готова к уборке. Рядом пшеница. Зерно еще не затвердело, не окрепло. Теперь особенно опасен жучок. Пшеница шевелила зеленой с позолотой пахучей листвой, длинными усиками. Кое-где в волнах хлеба желтый донник, голубые васильки. Николаю особенно приятен запах созревающего поля.
Подъехали к придорожному кустарнику. Через дорогу бросился выводок перепелок и перепелят. Иван Тимофеевич схватил со дна арбы занозу и что есть силы пустил по убегающей стайке. Заноза просвистела, рассекая воздух, и, зацепившись за ветви кустарника, бессильно сползла на землю.
— Напрасно распугал,— сказал Николай.
— Сам знаю, что зря распужал, да не удержался — дюже близко было. Ружье бы теперь, вот и повечеряли бы…
Через дорогу перебегали ящерицы, в стороне свистели суслики. Николай с удовольствием глядел на родные поля, курганы, балки.
— А интересно, что здесь будет лет через двадцать-тридцать? Наверное, суслика уже не увидишь, да и с жучком найдут способы бороться,— проговорил Николай.
Иван Тимофеевич охотно подтвердил:
— Найдут!
Николай с улыбкой взглянул на него.
— И в колхозах все будут.
— Посмотрим.
Николай засмеялся, потом задумался о будущем хутора и совсем не заметил, как они доехали до Евграфичева кургана.
…И вот теперь, вспоминая эту поездку с дядей, Николай думал:
«Ну, о чем тут писать? Сложили воз сена да за новым поехали… Никаких происшествий. Эх, жаль, писательского мастерства не хватает! Другой бы сейчас что-нибудь ввел сюда и начал писать сюжетноострую увлекательную вещь. А я не могу. И с поэмой «Казаки Кувшиновы» то же самое: материалу много, но не в материале счастье. Столько времени бьюсь, а не получается».
За университетские годы Николай сделал серьезные успехи в овладении знаниями: читал труды крупнейших мыслителей-философов, капитальные сочинения по естествознанию и критике литературы, произведения первоклассных художников слова. Теперь он не напоминал щенка, пробующего лаять всерьез, как это было на первом курсе. Михаил Васильевич Моисейченко не одну попытку делал привлечь его к научной работе. Да и сам Николай не раз пытался бросить свои литературные занятия. Он приходил к выводу, что произведения у него получаются самые заурядные. Их можно печатать, а можно и не печатать. Только иногда будто блеснет дарование.
«Надо кончать с этим»,— думал Николай и, сложив написанное на дно корзины, брался за учебу. Но проходило некоторое время, и у него начинало портиться настроение. Чтобы «освежиться», он на клочке бумаги пробовал что-нибудь записать. Появлялось вдруг столько мыслей, образов…
За эти годы он напечатал десятка два стихотворений и несколько рассказов, вступил в члены РАППа. В корзине и на столе у него лежали и незаконченные поэмы, и отдельные эпизоды из повестей, и записки, и дневники. Но все написанное не удовлетворяло его, и он считал свою любовь к литературным занятиям проявлением слабости.
«Ну, что же, — говорил себе Николай, стараясь как-нибудь оправдать эту «слабость», — вот окончу университет, буду где-нибудь работать, тогда попробую что-либо серьезное написать».
Со своими произведениями Николай чаще всего выступал в газете «Голос пахаря», недавно переименованной в «Колхозную правду». В стихах и прозе он призывал к борьбе с кулачеством, к коллективизации. Произведения после опубликования обычно не нравились ему, хотя до этого казались хорошими.
Когда пишет, все будто неплохо: и люди, и действия, и диалог; стихи верно передают мысли и чувства. А посмотрит, как это выглядит в газете или журнале, походит по комнате, представит себе, что хотел написать, и вдруг образы людей покажутся голыми или приобретут сходство с куклами. Для сравнения станет читать какое-нибудь классическое произведение и огорчится еще сильнее.
«Но почему же здесь все ясно? Почему не вызывает сомнений подлинность Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича? В чем дело?»
— Работайте над собой, — советуют ему в РАППе, — повышайте идейно-политический уровень, пишите о рабочем классе…
Эти советы не помогали. Люди в его произведениях спешили как можно больше сказать. Станут в позу и декламируют.
«Плохо написано, — решал он.— Нужно показывать особенность каждого человека». В жизни он видел эти особенности, а начнет писать, особенности исчезают.
«Может быть, теряюсь потому, что трудно отделить главное от второстепенного? — думал он. — А что главное и что не главное?» Николай старательно вчитывался в статьи Белинского о Пушкине, Гоголе и Лермонтове и в самые произведения великих художников слова, вдумывался в индивидуальные черты каждого классика.
«Трудно разобраться,— заключил Николай.— Одно несомненно: действительность они знали отлично».
— Представь себе, — говорил Николай художнику Ведерникову.— Гоголь однажды сказал, что он создает свои лучшие характеры не столько путем воображения, сколько путем соображения. Это очень любопытное признание.
— Признание интересное, — согласился Ведерников, — но у Гоголя и воображение сильнейшее. Он ведь ясно видел и Манилова, и Чичикова, и Собакевича.
Николай настолько сблизился с Ведерниковым, что совсем не замечал робости, с какой художник держался в присутствии малознакомых людей. И верхняя губа Ведерникова уже не казалась ему безобразно толстой и рост не казался таким маленьким. В своей мастерской среди картин и многочисленных набросков Ведерников раскрывался перед Николаем очень талантливым художником, который много уже написал настоящих картин и был полон новых интереснейших замыслов. Другу Ведерников открывал лучшие стороны своей души, и Николай в такие минуты был влюблен в него.
Однажды Николай с восхищением говорил о Ведерникове своему приятелю журналисту Андрею Чинарину и его жене. Жена слушала-слушала и тоном извинения проговорила:
— А все-таки, Коля, он страшненький…
Ястребову художник совсем не казался «страшненьким». Наружность Ведерникова даже представлялась ему приятной. Он любил его голос, любил смотреть в его большие, серые глаза. Во время разговора этот человек вдруг вырастал, внешняя оболочка как бы исчезала.
Как-то Редько рассказывал Николаю о любопытных особенностях многих бытующих выражений.
— Что значит работать «спустя рукава». А вот наши предки носили одежду с длинными рукавами, и, чтобы работать, им приходилось засучивать их…
— Черт возьми, а я и не знал, откуда это пошло.
— Или вот «бунт» — емкое слово. Правда? В нем и выстрел и разрыв. Послушай: б-бу-у-нт. А смотри, какие поистине могучие слова находил Сергей Есенин: «Буйство глаз и половодье чувств».
А у Николая со стихами получалось не все хорошо, не случайно он завидовал Есенину. Как-то в РАППе поругали его лирические стихи. Часть из них была, посвящена Анюте, другие — Тане.
«Значит, не настолько была сильна любовь, если не получились стихи», — думал он.
В последнее время Николай близко сошелся с Чинариным. Андрей пробовал заняться и прозой, и драматургией. Он писал в газетах острые фельетоны, пользовавшиеся большим успехом среди казаков. Он очень живо рассказывал о своих поездках по станицам, хуторам и аулам обширного Северо-Кавказского края, о том, какие огромные изменения происходят в горах, на просторах полей и в городах.
Чинарин был грузный мужчина, лет тридцати. Лицо у него кирпично-красного цвета, сквозь стекла очков светлые глаза смотрели ласково. Когда он снимал очки, то щурился, как все близорукие. Волосы у него были темные, кудрявые, густые.
Когда Николай впервые здоровался с ним, то обнаружил, что у Чинарина на правой руке нет трех пальцев. Беспалой оказалось и левая рука. Как потом узнал Николай, Чинарин еще в гражданскую войну однажды заблудился ночью из-за этой близорукости и только утром, с обмороженными руками и ногами, добрался до своей роты. И возрастом он был много моложе, чем предполагал Николай — в Красную Армию Андрей попал еще подростком. Теперь он уже не казался Николаю пожилым, как в первую встречу.
— Скорей бы мне окончить университет, — со вздохом говорил Николай Чинарину.— Мне непременно надо самому участвовать в том, что теперь происходит. А то приеду в станицу, а там уже все будет проще, жизнь войдет в свое русло, как река после половодья.
Усаживаясь в качалку, Николай продолжал:
— Представляешь, в чем меня обвиняют? Чтоя в природу ушел. Эх, жалко, Булыгина нет в Ростове. Он не такой сухарь. А этим непременно дай «живого человека», от запаха полевых цветов им уже дурно становится.
Чинарин потащил Николая гулять в лес и по дороге рассказывал что-то веселое, смеясь и потряхивая кудрями. Николай не вслушивался в слова товарища. Он был мрачен. Подошли к озеру и остановились на берегу. Николай все с тем же мрачным выражением лица глядел на неподвижные воды, заросшие кугой, камышом и лещугом, на плавающие кувшинки. В воде отражались столпившиеся на берегу деревья, голубое, кажущееся бесконечно глубоким небо. Вдруг он увидел отражение черной птицы. Медлительные взмахи ее больших крыльев чем-то изумили Николая. Он поднял бровь, потом еще больше нахмурился.
— Ты что? — удивленно спросил Чинарин.
— Озеро портит мне идеологию!
— Это как понимать?
— Кувшинки напоминают желтеньких утят. По ассоциации возникают картины детства. Хочется выбрать из них самое хорошее, а это непременно связано с природой. Видишь, какая красота! В той вон птице, в кувшинках, в лесу, во всем. А писать об этом нельзя! Так на кой же черт эта красота? — И Николай бросил ком земли в озеро.— Идеологию мне портишь!
Чинарин громко засмеялся. Но в сетованиях молодого поэта была доля правды. Особенно «правоверные» рапповцы в те годы старались везде и всюду заподозрить измену рабочему классу. Если писатель начинал работать над историческим романом, то его обвиняли в идеологическом срыве. «Уход в историю, — говорили «правоверные», — означает разрыв писателя с современностью. Не случайно этот писатель взялся за работу над историческим произведением. Явление здесь вполне закономерное». Если писатель начинал описывать природу и делал это с увлечением, то его тоже обвиняли во всех смертных грехах. «Не случайно он уходит в природу,— утверждали «правоверные» рапповцы,— уход в природу означает разрыв с современностью. Автор старается увести читателя от волнующих вопросов современности. Делается это, конечно, неспроста».
Этим и объяснялось мрачное настроение Николая.
Не сдержал Николай своей клятвы — снова стал встречаться с Таней. Первая встреча произошла вскоре после приезда девушки из Новочеркасска. Таня, увидев Николая в главном здании университета, приветливо улыбнулась ему, что-то сказала. Николай подошел к ней, заговорил. Восторг и радость осветили его лицо. Он понял, что его поступок не показался Тане смешным. Николай не сомневался, что она уже знает о нем, и был прав. Кузнецова рассказала Тане, как Ястребов ушел из вагона в Новочеркасске. Хотя Кузнецова и преподнесла все это в комическом свете, Таня не смеялась. Мысленно она оправдывала Николая. Николай до последней минуты не подозревал, как он ждал встречи с Таней. Теперь он понимал только одно: она на него не сердится. Значит, все хорошо. А разговор у них происходил самый обычный.
— Хорошо тебя встретила тетя? — спросил Николай.
— О-о, замечательно! Прекрасно время провела.
— А я на лекцию иду, — сказал Николай, чувствуя, что говорит глупость: ведь Таня и без того знает, куда он идет.
— И я на лекцию…
Этот ничтожный разговор как-то вдруг сблизил их. Николай стал часто встречаться с девушкой. Он видел, что Таня относится к нему с симпатией, хотя их сближение злит Добровольского, с которым так часто Таня встречалась раньше.
«Ну и пусть, не всегда же ему торжествовать надо мной», — думал Николай.
Встреча с Таней в вагоне, остановка в Новочеркасске, новые встречи с Таней подняли в душе Николая столько чувств, вызвали столько мыслей! Он вспоминал все лучшее из своего прошлого. Как сквозь дымку вставало детство. Вот представилась такая картина: смешной мальчишка, он вдруг решил дойти до того места, где небо сходится с землей. Вспомнилось, как ехал учиться в Ростов. А какую радость он чувствовал, когда получил справку о зачислении в университет!
Ему хотелось поделиться с Таней всем, что было в жизни лучшего, порадоваться вместе с ней.
«Мне казалось, после Анюты я никого не полюблю, — думал Николай.— И не полюбил бы, если бы не она!»
Таня заинтересовалась Николаем. Решительно во всем он не был похож на ее знакомых, очень отличался и от Владимира Добровольского. Как и Володя, он увлекался философией. Но Ястребов не излагал философских систем, восхищаясь умом великих, как это делал обычно Володя, а сопоставлял выводы мыслителей с жизнью, ее он делал, единственным мерилом. И Таня, слушая Николая, с завистью думала, что по сравнению с ней и с Добровольским он отлично знает жизнь. Ей становилось вдруг обидно, что настоящие трудности, щадя ее, проходят стороной и что, в сущности, она и Володя — желторотые птенцы, живут под родительским крылышком. С возрастающей симпатией она относилась к Николаю. Его энергия и целеустремленность, трудный путь к университету вызывали уважение, хотя в то же время многое в нем казалось грубым и примитивным.
«Энергия — еще не значит ум»,— критически думала она.
В конце января Таня пригласила Николая к себе на квартиру.
— Тебе хотелось почитать «Соборян», — напомнила она.— У нас есть Лесков.
— Непременно приду, — обрадовался Николай.
В комнату Тани он вошел, стараясь скрыть смущение. Таня сидела у стола, рассматривая гербарий. Она пошла навстречу гостю и протянула ему руку.
— Садись, — сказала она, указывая на стул. А сама села на диван.
Николай окинул глазами комнату.
— А книг-то у тебя много, — сказал он.
— Не так уж много.
— Можно записаться читателем в твою библиотеку?
— Можно, — весело ответила она и добавила после паузы:— Только уговор: книги возвращать. Не зачитывать!— И засмеялась. Лицо ее сразу же стало по-девичьи лукавым..
— Ты много читаешь? — спросил он.
— Много! — Ей хотелось добавить: «Даже твои стихи и рассказы!» — но она только усмехнулась.
Взглянув на Таню, Николай лишь сейчас заметил над ее верхней губой легкий пушок и почти физически ощутил прикосновение этих губ. Он тут же отвернулся и стал смотреть на этажерку с книгами.
«Еще, чего доброго, нехорошее подумает, — встревожился он.— Зачем я на нее так посмотрел?»
— Послушай, Ястребов, — она всегда его звала не по имени, а по фамилии,— говорят, с тобой в одной комнате Редько живет. Верно это?
— Верно.
— Что он за человек?
Николай понял: девушка не подозревает, о чем он думает, и поспешно ответил:
— Замечательный парень, я давно его знаю.
— А где он потерял ноги?
— Во время гражданской на Украине. Он ведь украинец.
— Не рассказывал, при каких обстоятельствах?
— Рассказывал. Мост взрывали в тылу у белых… Но ему неприятно вспоминать. Тяжело. Впрочем, ты сама можешь ближе познакомиться с Афанасием. Вот сегодня вечером пойдем к нам на семинар. Редько будет читать свой реферат.
— Значит, сегодня? — взволнованно проговорила Таня.
— Да.
Мысленно она представила, как Благосклонов и Володя будут громить Редько, и ей захотелось сейчас же, сию минуту рассказать об этом Николаю. Но Таня знала, что она не сделает этого: ведь это значило бы выдать Добровольского!
Все эти дни совесть Тани была неспокойна. И ссора с Добровольским, и причина ссоры волновали ее. Оказалось, не так-то просто порвать с человеком, с которым была связана дружбой многие, быть может, лучшие годы. Она все время старалась оправдать себя, свой разрыв с ним, но порой ей казалось, что все нужно оставить по-прежнему.
Сейчас, когда Николай сказал о реферате, Таня с особенной отчетливостью представила разгромную речь Добровольского — она даже видела тезисы этой речи. Владимир будет говорить спокойно — Таня знает манеры Добровольского бесстрастно избивать человека. Ведь это же не что иное, как хладнокровное избиение.
«Вот сказать сейчас обо всем этом Ястребову, уличить Володю… Но нет, это нечестно. А ведь, кроме меня и отца, никто даже не подозревает, как они подготовились!»
— Афанасий,— говорил Николай,— парень что надо! Достоинства Редько он считал в какой-то мере своими достоинствами.
— Я его не раз видела с отцом, — сказал Таня.— Мне кажется, если бы у меня не было ног, я не смогла бы работать.
— Он не такой человек.
Таня переменила тему разговора.
— Ну, а как твои «Казаки Кувшиновы» поживают?
— Пока все так же: ни мертвые, ни живые. Нашел в них столько недостатков, что совсем разочаровался.
— Почему?
— Видишь ля, я захватил много материала, а справиться с ним не сумел.
— Новое что-нибудь пишешь?
— Конечно, и много. Жаль, только техники не хватает. Кажется, горы своротил бы, а станешь писать — не получается.— Голос его стал глуше.
— Почему-то я уверена, что ты будешь победителем,— искренне сказала Таня.
С заблестевшим взором Николай прошелся по комнате.
— Я с тобой сяду, — кивнул он на диван.
— Садись, — Таня подвинулась к краю, и Николай сел. — Вот меня сейчас волнует один рассказ, вернее, тема рассказа. Я пока не писал, только думаю над ним. Мне бы хотелось передать колебания казака-середняка на пути к новому… Имею немалый запас наблюдений, хорошо знаю среду, а вот чего-то не хватает.— Николай стал рассказывать, как он летом беседовал с казаками, со своим дядей Иваном Тимофеевичем о необходимости вступать в колхоз.— Иван Тимофеевич мне хорошо представляется. Вот закрою глаза — и возникают картины…
Николай рассказывал, как они вдвоем с дядей только что наложили воз сена и на толоке решили заночевать. Иван Тимофеевич подошел к копне, взял колосок пырея и стал его разглядывать, потом бережно положил колосок в копну.
— Веришь, Таня, для меня он сразу стал виден весь, как на ладони. Все его интересы, хозяйственная жилка. А вот эта жилка и нравится в нем и тревогу вызывает. Может быть, вот это желание хозяйствовать самому и по-своему мешает ему вступить в колхоз?
Таня сначала слушала невнимательно — ее занимали мысли о предстоящем обсуждении реферата Редько, но постепенно и перед ней стали возникать картины того, о чем говорил Ястребов.
— Отпрягли быков, — продолжал между тем Николай,— Иван Тимофеевич отпугнул их, чтобы шли в балку — там получше корм,— расстелили зипуны. Из сумки достали харчи — краюшку пшеничного хлеба, кусок сала и несколько малосольных огурцов. Только в степи можно так поужинать!..
Потом он рассказал, что после ужина снова пытался заговорить с дядей, но тот отмалчивался. И вот село солнце, в свете зари бронзовел бурьянок, пырей, жесткие головки татарника. Травы постепенно меняли окраску: бурьян уже темнел карликовым кустарником, пырей блестел, на нем играла заря, головка татарника чернела.
…Водяные быки в Полынках тянут: «Гу-у, гу-у!» Показались первые звезды. О рубаху Николая шлепнулся запоздалый, темно-коричневый, словно бронированный жук. Молочным туманом застилались дали. И вдруг запахло козьим и коровьим молоком. Этот запах сохранили травы. Наверное, днем здесь проходило стадо.
Николаю и сейчас был виден в низине хутор Роднички, а чуть в стороне — родные Грушки. Сначала стали затушевываться деревья, лишь четко виднелся силуэт ветряной мельницы на Родничках да за хутором синела полоска горы; затем расстаяли и гора, и мельница, зато прозрачней сделалась глубь неба, яснее звезды. И вдруг взошел месяц. От воза упала длинная тень. Слышалось, как быки медленно пережевывают траву, сопя и фыркая. Где-то далеко-далеко, в хуторах или степи, запели протяжную, унылую песню. Мужские и женские голоса доносились слабо, только один подголосок звенел отчетливо.
Дядя заснул, а Николаю спать не хотелось. Звуков было мало. Мягкие краски ночи успокаивали. Легко дышалось чистым степным воздухом. Николай с удовольствием лежал на зипунке, то смотрел на небо с частыми звездами и белой копной месяца, то вдыхал в себя еле уловимые запахи трав, то смотрел на ту полоску, где небо сходится со степью. Обо всем думалось легко…
Таня тоже сейчас с удовольствием затерялась бы в степи, чтобы не думать о реферате Редько, лежать на зипунке да смотреть на частые звезды. Но ей, видимо, придется пойти на реферат… А рассказывает Ястребов необычно, по-своему.
— И вот я ищу сюжет, чтобы вокруг него собрать все это, — продолжал Николай, — а потом нарисовать и образ Ивана Тимофеевича, и тех, кто с ним связан. Может быть, никакого занимательного сюжета и не надо? «Нравы Растеряевой улицы» просто написаны.
— Да, и тебе выдумывать нечего,— подхватила Таня.— Вот то, о чем рассказываешь, напиши с такой же ясностью, и будет настоящее художественное произведение.
— Ты уверена? — с сомнением спросил Николай.
— Конечно!
Николай вздохнул, но ничего не сказал.
Таня потянулась к выключателю, ровный свет будто приблизил все предметы. Николай смотрел на стол, на кровать, на микроскоп. Ко всему этому прикасались руки Тани, во всем был ее порядок, и оттого в глазах Николая все было милым и изумительным.
— А знаешь, Таня, хорошо у тебя здесь: светло, чисто, уютно. Вот где писать! И сама ты такая хорошая. Ей-богу!
Ее тонкие черные брови поднялись вверх и придали насмешливое выражение лицу. Николай сконфуженно проговорил:
— Я правду говорю.
— Верю, одевайся.
Таня чувствовала себя с Николаем проще, чем с Добровольским. С Владимиром она за три с половиной года так и не успела перейти на «ты», а с Николаем это случилось само собой, с первого дня. Да иначе и не могло быть: почти все комсомольцы называли друг друга на «ты». Николай был проще, непосредственней. И сейчас Тане была понятна его смущенная улыбка. Девушка давно уже обратила внимание на эту особенность Николая: он не умеет скрывать своих чувств, Возвращаясь мысленно к встрече с ним в вагоне, она было пришла к выводу, что человек он, в сущности, очень непосредственный, и только. Рассказывая отцу об экскурсии, Таня упомянула и имя Николая. Михаил Васильевич живо заговорил:
— Несомненно, был бы ученым. У него здравый смысл, уменье работать и мыслить самостоятельно. Одним словом, своя голова на плечах. Жаль, что он увлечен не тем, чем следовало бы…
«Возможно, папа прав. Он лучше меня знает жизнь да и встречается с Ястребовым часто», — подумала тогда Таня.
От подруг она слышала, что Николай пишет стихи и прозу, печатается. Из любопытства Таня взяла в читальне подшивки краевых газет и ростовского журнала «На подъеме». И в стихах, и в прозе Таня чувствовала искренность, естественность Николая.
«Может быть, мне потому понравились его произведения, что я знаю автора? — спрашивала себя Таня.— Но, во всяком случае, человек он любопытный».
Она встала с дивана. Николай, вздохнув, поднялся, подошел к этажерке с книгами, нашел «Соборян».
— Так я возьму?
Таня кивнула, и они пошли на семинар.
Актовый зал был переполнен. Редько разговаривал возле кафедры с Моисейченко. Левая рука Афанасия перебирала украшения на конце кавказского пояса. Лицо было чисто выбрито, редкие волосы гладко причесаны, в глазах чувствовалось возбуждение.
На протезах-деревяшках Редько был ниже всех, и потому голова его казалась особенно большой.
Моисейченко, разговаривая с Афанасием, удивленно посмотрел на Таню, но, ничего не сказав, подал руку Николаю.
— Вот мы с вами и добились обсуждения работы Редько,— с улыбкой проговорил доцент. Он знал, что Николай и Афанасий принимают близко к сердцу все дела друг друга.
— Вам, Михаил Васильевич, большое спасибо,— почтительно ответил Николай, отмечая про себя сходство не только в лицах отца и дочери, но и в улыбках, и в тембре голоса.
— Я ему говорю,— кивнул доцент в сторону Редько,— пусть смелее выступает. Работа интересная. На отдельные недочеты я указал. Но пусть послушает и мнение других. Я тоже могу ошибиться, тем более, что он выдвигает вопросы, еще не освещенные в литературе.
И тут Моисейченко вдруг прямо взглянул в голубые глаза Николая, как будто спрашивал: «Это вы привели Таню?»
Глаза Николая ответили радостным блеском: «Я, я! Она пришла со мной».
Моисейченко улыбнулся беглой насмешливой улыбкой, и Николай смущенно опустил глаза. Отец искоса поглядел на дочь: «Что с ней? Почему она здесь?»
— И ты к нам пришла? — спросил Редько Таню.
— Ястребов так хорошо отозвался о реферате, что я решила послушать.
— Может, и слушать нечего,— пробормотал Редько. «Что это я оробел? — думал он.— Это уже не в первый раз в ее присутствии,— промелькнула у него мысль, но ее сейчас же заглушила другая: — Почему так долго не начинают?»
К кафедре тяжелой походкой подошел Валентин Евгеньевич. Он был не в духе. Ему не хотелось выпускать работу Редько на такую широкую аудиторию, но Моисейченко поддержал Ястребова, состоявшего уже четвертый год в предметной комиссии. Профессор не прочь был решительно протестовать против сегодняшней повестки дня, но опасался столкновения с деканом.
Он снял темно-синие очки, протер их носовым платком, крякнул, разгладил широкую бороду маленькой, с четкими синими жилками рукой.
Говорил он медленно, после каждой фразы делал остановку, казалось: он диктовал текст и покашливал. Кашель у него профессиональный, педагогический.
— Сегодня… кхе… кхе… на семинарском занятии… прочитает свою работу студент четвертого курса Афанасий Тимофеевич Редько. Тема… кхе… кхе… «Единство содержания и формы в художественном произведении». После реферата я попрошу коллег, а также товарищей студентов высказать свои мнения…
Валентин Евгеньевич сел.
Рядом с ним за кафедрой стоял Редько. Наступила минута молчания.
— В своей работе я попытаюсь раскрыть единство содержания и формы в художественном творчестве. Это моя первая работа. Но я попрошу товарищей студентов, особенно же уважаемых руководителей, сказать все, что можно, о данной работе, не делая скидки на мою «молодость»…
Редько волновался, он достал носовой платок и смахнул выступивший пот.
— А ты, дедушка, без предисловий, понял? — тихо посоветовал Николай.
«Понял» было любимое слово Редько, приобретенное им еще на комсомольской работе. Увидев поощрительную улыбку товарища, он начал говорить уверенней.
За вторым столом рядом с профессором Благосклоновым сидел Добровольский. Он видел, как пришли Николай и Таня. Его самолюбие было задето.
Слушая реферат Редько, Благосклонов думал: «Если реферат примут, с Афанасием Редько будет трудно бороться. Он коммунист. А Валентин Евгеньевич?.. Я давно рекомендовал ему тренировать мозги студентов на таких примерно вопросах: сколько у Чацкого душ? С какого явления и действия вводится Чацкий в пьесу? Для студентов этого вполне достаточно. А он, старая калоша, паясничает…»
Когда Редько заговорил о классовой борьбе в современной литературе и начал делать отступления от своего написанного реферата, Добровольский не удержался:
— Вы нам работу читайте!
Редько дочитал реферат до конца. Ему аплодировали, но далеко не все.
Первым взял слово Добровольский. Он встал с блокнотом, где с бухгалтерской точностью были выписаны многие фразы из реферата.
— Афанасий Редько чересчур упрощенно подошел к современной литературе. Он не захотел считаться с ее спецификой…
Свою речь Добровольский построил искусно. Он воздал должное марксистско-ленинскому учению о литературе, говорил о социальном значении ряда произведений, о единстве содержания и формы и не расходился в этом с Афанасием. Зато во второй части своего выступления он намеренно грубо упростил и тем самым опошлил основные положения работы Редько, использовав при этом и некоторые неточности, допущенные в реферате. А потом, уже на основании этого, упрекнул докладчика в том, что Редько якобы лишь Пушкина, Толстого и Достоевского и немногих других писателей-реалистов назвал подлинными художниками. Приписав Редько то, что ему самому было выгодно, Добровольский тут же накинулся на него за критику Бальмонта и Северянина.
— Так подходить к литературе можно, беря только одну социальную сторону произведения,— говорил Добровольский.— Если же предъявить большой, настоящий счет к произведениям Горького и Серафимовича, то много ли от них останется?
Добровольский отошел в сторону от основного содержания реферата и пространно заговорил о взглядах Плеханова и Белинского, о творческой манере Франса и Марселя Пруста, прошелся по новинкам современной западноевропейской литературы, о которой слышал что-то мельком, и в заключение обрушился на Редько:
— Нет багажа фактических знаний, нет умелых обобщений, нет единого центра в реферате! Отсюда такие нелепые вещи…— Тут он привел в пример действительные недостатки реферата: предреволюционная русская литература в нем была очерчена довольно бегло и без основательных выводов. Знал ее Афанасий Редько меньше, чем Добровольский.
— Потому и работа получилась почти бессодержательной!— заключил Добровольский.
— Это ложь! — не сдержался Николай.
Валентин Евгеньевич с нескрываемой враждебностью посмотрел в лицо Ястребова и отвернулся.
— Неправда! — раздался еще один голос. Затем в аудитории послышался многоголосый ропот.
Добровольский повернулся лицом в сторону наиболее возмущавшихся студентов и иронически продолжал:
— В реферате много трескотни и нет подлинных знаний…
На тонких губах Добровольского играла довольная улыбка, самоуверенный голос бил Редько. Во время своей речи Добровольский посматривал на профессора Благосклонова, и тот в знак одобрения улыбался.
Добровольский не смотрел на Таню, но знал, что она внимательно слушает каждое его слово. Он хотел, чтобы она наконец-то оценила его ум. Хотел отомстить ей за тот вечер и — главное — вернуть ее. К ней, к Тане, была обращена в первую очередь его резкая, ироническая и страстная речь. Редько он теперь ненавидел и за дружбу с Николаем.
Валентин Евгеньевич разглаживал широкую бороду и громко крякал. Видимо, ему очень нравилось выступление Добровольского.
Редько стоял с бледным лицом, опустив глаза на кафедру. Время от времени он что-то записывал на листке разграфленной бумаги. Пальцы его вздрагивали. Четко переписанная рукопись лежала в стороне. Теперь Афанасий и сам видел свои промахи. Но он хорошо понимал, что Добровольский ведет на него атаку с враждебных позиций, и собирался с мыслями для ответа.
— Дайте слово! — не сдержался Николай.
— Коля,— сказала Таня, впервые называя его по имени.
Она чувствовала сябе крайне неловко. Совсем не так, как ожидала. Она понимала каждое слово Добровольского и тайный смысл его речи. Ей было жаль Редько, потому что она видела: он энергично пробирается вперед, а ему злостно мешают. А кто знает, сумеет ли он одолеть все препятствия, ведь он калека! В ее понимании: несчастный. Опасалась она и за Николая: как бы не выкинул какую-нибудь дикую штуку. «Может быть, мне выступить?»
— Вас записать? — спросил Николая Валентин Евгеньевич.
— Да, пожалуйста, — уже мягче попросил Николай. Доцент Моисейченко в начале доклада Редько еще думал о неожиданном появлении Тани. Однако он с улыбкой отметил то, что Валентин Евгеньевич особо подчеркнул обращение к «товарищам студентам». Потом он стал слушать внимательней. Михаил Васильевич с интересом следил за научными положениями своего ученика, радуясь наиболее удачным примерам и выводам и сожалея о промахах. И хотя работа ему была хорошо знакома, он сегодня иначе воспринимал ее, поэтому яснее видел и недостатки.
Когда заговорил Добровольский, доцент снова отметил про себя: «А этот издевается, почему, дескать, не говоришь, что сказал Маркс о метафоре. Я-то знаю, откуда летят эти стрелы…»
Моисейченко попросил слова.
— Работа товарища Редько весьма ценная,— начал он.— Через весь свой реферат Редько провел ленинскую мысль о том, что наша литература должна быть народной, партийной, что она не может быть иной. И вместе с тем товарищ Редько говорил здесь о том, какие высокие требования должны предъявляться к форме художественного произведения. Афанасий Тимофеевич во втором разделе реферата привел мало примеров из дореволюционной литературы конца девятнадцатого и начала двадцатого столетия. Этот частный недостаток правильно был подмечен студентом Добровольским. Но в целом выступление Добровольского было наскоком.
С каких позиций студент Добровольский критиковал доклад Афанасия Тимофеевича? С идеалистических. Разве неясно, что Хлебников и Белый — буржуазные писатели? О каком гамбургском счете говорил тут Добровольский? Кто будет судьей? Кучка буржуазных эстетов или многомиллионный читатель?
Моисейченко строго посмотрел на Добровольского.
— С точки зрения кучки выродков произведение «Чапаев», может быть, и не художественное, но с точки зрения миллионов — это произведение хорошее. Центральные образы его написаны великолепно, а второстепенные только подчеркивают достоинства романа, о чем убедительно говорит реферат Редько, и — главное — повседневно убеждает жизнь. «Чапаев» — произведение умного человека, страстного большевика, крупного художника.
— При условии систематической работы над собой,— сказал в заключение Михаил Васильевич,— студент Редько в дальнейшем сможет стать ценным научным работником. Об этом свидетельствует, в частности, данный реферат.
Моисейченко аплодировали. Всех яростней хлопал Николай.
Николай провожал Таню. Он шел рядом с ней, не смея взять ее под руку. Высокие дома, казалось, проплывали мимо, Луна то пряталась за крыши, то опять выглядывала, освещая лица прохожих.
— А Редько неглупый человек,— проговорила Таня.
— У нас на всем отделении такого не найдешь,— сказал Николай.— Взять хотя бы Добровольского. Разве у него столько знаний, сколько у Афанасия?
Таня с досадой перебила:
— Я уже знаю, что вы с Добровольским друг друга терпеть не можете.
— Это ты верно говоришь.
Таня поморщилась.
— Как бы мне,— переводя разговор на другое, спросила она,— познакомиться ближе с твоим другом?
— Что же может быть проще? — сказал Николай.— Приходи к нам, вот и познакомишься.
«Удобно ли?» — подумала Таня.
Николай словно угадал ее мысли:
— Долг платежом красен: я был у тебя, а ты приходи ко мне. Стесняться нечего: народ мы простой. Живем хорошо, дружно. Комната у нас на втором этаже — светлая, с балконом. И всего трое обитателей: Редько, я и Толик Балахонов. Приходи, посмотришь, как мы с дедушкой живем.
— С каким дедушкой?
— Мы так Афанасия зовем.
— А Балахонов, кажется, остроумный?
— Остроумный? У нас о таких есть поговорка: язычок, намели на пятачок, а он — и на весь гривенник.— Помолчав, Николай добавил:
— Вообще, он очень своеобразный парень. А в балагурстве его много дешевки, наносного.
— Однако ты, видно, невысокого мнения о людях. Ссоришься с Добровольским, нелестно отзываешься о товарище, с которым живешь в комнате.
— Почему же? О Редько я, например, самого прекрасного мнения. Настоящий он человек, каждому его слову верю. И он этого заслуживает. Да и Толик ничего.
Остановились возле дома, где жила Таня.
— Когда я прочитаю книги,— другим тоном сказал Николай,— можно будет сделать обмен в вашей библиотеке?
— Ладно! — Таня засмеялась.
От этого смеха Николаю стало легко и радостно.
— Так придешь к нам?
— Приду,— сказала Таня.— Пока.
Счастливый своей любовью, Николай шел, ничего не замечая, и чуть было не сбил с ног первого встречного.
— Гражданин! — возмущенно сказал встречный, принимая его за пьяного.
— Простите,— проговорил Николай. И хотя он больше ничего не сказал, тот догадался о чем-то и улыбнулся. И Николаю этот незнакомый встречный показался замечательным человеком.
Редько вышел из актового зала вместе с Моисейченко.
Михаил Васильевич еще в первый год пребывания Афанасия в университете подметил его особую целеустремленность и часто с ним беседовал. Скоро эти разные по возрасту и характеру люди стали очень дружны.
Сейчас Моисейченко поздравил своего ученика с успехом. Редько поблагодарил учителя, и по тому, что обычно Афанасий неплохо высказывал свои мысли, а сейчас говорил неумело и совсем не то, что хотел сказать, Моисейченко понимал всю глубину его благодарности.
Заговорили о вечере, о выступлениях. Редько рассказал о давней ссоре Николая и Добровольского, о натянутых отношениях между ними и в последующие годы.
Михаил Васильевич отрицательно покачал головой.
— Это ничего не значит. Ваша работа могла ему не понравиться. Учтите и то обстоятельство, что он сам метит в научные сотрудники, а вы его идейный противник. К тому же он выступал сегодня, вероятно, под суфлера.
— А кто же по-вашему суфлер?
— Вы совсем не знаете нашей среды,— сказал Михаил Васильевич.
— Согласен, но ведь не случайно Добровольского так поддерживает Благосклонов.
— Думаю, не случайно,— сказал Моисейченко, прощаясь с Афанасием.
А Редько почему-то было особенно приятно, что в эти счастливые для него минуты Таня была рядом. «Я рад, что Николай полюбил эту девушку,— мысленно говорил он себе. Но думалось невольно другое: — А почему не я?»
Перед ним вставали заманчивые, пугающие своей несбыточностью мечты. И в этих мечтах рядом с ним, Редько, была она, Таня Моисейченко.
Валентин Евгеньевич домой возвращался один. Чтобы не простудиться, он закутал шею теплым шерстяным шарфом. С тростью в руке медленно шагал профессор, неуверенно ступая, боясь упасть. На тротуаре он чувствовал себя, как на льду. Казалось, упади — костей не соберешь.
Настроение было грустное. Валентин Евгеньевич знал, что на него обиделся Благосклонов.
«Ну, что же,— думал он,— здесь нельзя было поступать иначе. Работа Редько серьезная, кропотливая, трудоемкая. Задерживать дальше — значит вызывать справедливые нарекания. Моисейченко уже не раз ставил передо мной вопрос о нем. Надо было решать». Профессор вздохнул, до квартиры еще длинный путь. При его здоровье и годах не так-то скоро пройдешь такой путь. И дома нет ничего радостного. Профессор одинок. Жена давно умерла, детей не было. Второй раз не успел жениться. Прошли войны и революция, и оказался Валентин Евгеньевич стариком с огромным запасом знаний, требующих пересмотра. К тому же ухудшилось здоровье. Стало пошаливать сердце, болела печень.
Вот и дом.
Валентин Евгеньевич медленно поднимается по слабо освещенной лестнице, придерживаясь правой рукой за перила. На каждой площадке останавливается отдыхать. И все же, пока добрался до третьего этажа, устал, дыхание стало тяжелым, словно нес непосильный груз.
Его встретил знакомый запах ветхих вещей. Рука нашла выключатель, зеленый свет залил беспорядочно расставленную мебель, огромное количество книг и журналов, старинных, больших, переплетенных за целые годы в толстые тома. Книги лежали в шкафах и на шкафах, на столе и около стола, на кушетке. Они заполонили комнату.
Старик переоделся в ночной халат и теплые туфли и в изнеможении опустился в кресло.
В квартире тихо. За дверями, в соседней комнате, храпит старуха, домработница. Стучат старинные часы. Вот они начали бить. Удары их звучат медью. Заводской гудок однообразно затянул за окном:
«И-и-и-у-у-и-и-и!!!»
Гудок напомнил Валентину Евгеньевичу пароходы, Волгу, осенний серый день, лесок, синеющий на горизонте, багряную и оранжевую рощу. Вот деревна его деда с ютящимися там и сям избенками. Вот белый барский дом. Валентин Евгеньевич с улыбкой вспомнил, как он боялся ночью выходить в сад, какое томительно сладкое ощущение было, когда все-таки, несмотря на боязнь, выбегал и, пробежав по аллее с тревожно бьющимся сердечком, возвращался в детскую.
Многие вещи из того дома теперь здесь. Над вешалкой красивая ветвь лосиных рогов. Лося убил еще дед Валентина Евгеньевича.
На глаза набежали слезы.
Валентин Евгеньевич встал и начал ходить по комнате неровными, тяжелыми шагами.
«Отец, брат — все в могиле. Остался один как перст!» Мысли о неумолимо наступающей старости, о смерти властно захватили его. Он знал их силу и потому всегда боялся одиночества. Он знал, что и сегодня не заснет раньше трех часов ночи.
Помешав угли в камине, захлопнув решетчатую ставню, он спрятал в футляр темно-синие очки. Глаза слезились, не вынося электрического света, хотя и смягченного абажуром.
«А как будто все было так недавно, вчера. Когда же прошла жизнь?»
Он опять стал ходить по комнате. В зеленоватом запылившемся зеркале увидел свое морщинистое ухо: «Федосья пыли не стерла… Надо сказать».
Сегодня Валентину Евгеньевичу представлялось особенно ясно, что вся его жизнь прожита неправильно. Вот он не хочет, а Благосклонов и декан направляют его против Редько и Ястребова. Безногий Афанасий Тимофеевич своим упорством вызывает у него уважение; стихи и рассказы Ястребова ему нравятся.
Валентин Евгеньевич долго не мог заснуть.
— Ты что про меня анекдоты рассказываешь? — спросил Редько Николая.
— Какие анекдоты? — вытаращил глаза Николай.
— Тане Моисейченко расписал меня чуть ли не ученым.
— Ученым? Ну, воля твоя, только я таких анекдотов не рассказываю.— Николай засмеялся, Редько тоже.
— Гулял с нею? — он подошел к Николаю, сидевшему за столом.
— С кем?
— А с кем сегодня был!— недовольно повысил голос Редько.
— Эх, дедушка! — уже доверчиво сказал Николай.— Нравится она мне!
— Очень нравится?
— Очень.
Николай начал говорить о Тане. С каждой минутой она становилась в его глазах все красивей и красивей, и он все больше восхищался ею.
Редько и сам сейчас думал о Тане. Слова Николая были его словами, произносимыми про себя. Редько думал: есть что-то нечестное в том, что он слушает товарища, берет у него самое сокровенное, а свои подлинные чувства таит.
Николай продолжал:
— Понимаешь, сказать ей боюсь. Скажешь и вдруг расстроится наша дружба?
Редько еще и еще хотелось слушать о Тане.
— Как ты попал сегодня с нею на обсуждение реферата?
— Я был у нее.
— Был у нее? — изумленно спросил Редько и, чувствуя неловкость за невольно вырвавшийся вопрос, спросил: — Ну, как она живет?
— О, замечательно! — воскликнул Николай и со свойственной ему увлеченностью начал расписывать жизнь девушки.
Редько знал эту сочинительскую черту Николая, знал его пристрастие к подробностям, которых в действительности могло и не быть, но сегодня все, что рассказывал Николай Редько казалось верным.
— А тебе, дедушка, нравится она?
— Мне?
— Да.
Вопрос Николая поставил Редько в тупик. «Сказать или не сказать?» — думал он.
— Да ничего… Я обратил внимание на ее глаза. Вот именно о таких можно сказать — умные… Ну что ж, Николай, женись!
— Что ты, дедушка!
— Испугался?
— Я и не думал об этом. Может быть, она и не сможет полюбить меня.
Перед мысленным взором Николая пронеслись отдельные сценки. «А почему не сможет?» — думал он, вспоминая особенно ласковый взгляд ее темных глаз.
— Полюбит,— уверял Редько. «Конечно, полюбит. Он парень видный, а я — калека, обрубок. Она предпочтет его».
Вошел Анатолий.
— Что это вы обнялись? — спросил он.
— Нежность на Николая нашла,— шутливо ответил Редько.
— Смотри, не зевай,— посоветовал Анатолий Николаю,— девочка что надо. А как твои дела, академик?
Редько стал рассказывать о вечере.
Николая неприятно резанул тон Анатолия. «Бабник!» — зло подумал он.
На другой день Ястребов бродил по городу, снова и снова возвращаясь к дому Тани,— а вдруг да встретится! На бульварах под голубым небом неподвижные деревья. Одно из них, как бы невзначай, уронило несколько пушинок инея. Они обожгли лицо Николая бодрящим прикосновением. Он посмотрел на это дерево, затем перевел взгляд на другие деревья и невольно остановился и затаил дыхание… Будто не обычные ветви и сучья в искрящемся инее видел он, а нечто совершенное и радостно-изумительное! Чуть холодящий воздух, пахнущий чистым снегом, как бы подчеркивал эту необычность.
«Вот так бы овладеть мастерством, как владеет им сама природа!» — подумал Николай, невольно запечатлевая в памяти опушенные инеем тонкие линии и нетронутую белизну снега. Он пошел дальше по бульвару, неся радостное ощущение от прикосновения легких пушинок.
«Вот спешат люди,— думал он.— Многие с хмурыми лицами, ничего вокруг не замечают. Надо бы как-то все это им передать. Пусть люди испытают такое же счастье, какое сейчас испытываю я. Вон мальчишки вдвоем раскачивают дерево. Какая густая снежная пыль поднялась — ни мальчишек, ни дерева не видно! Что здесь? Счастье? Да, настоящее счастье, мимо которого нельзя проходить». Вечером Николай смущенно сказал Редько:
— Дедушка! Я хочу тебе прочитать новое стихотворение.
— Когда написал?
— Сегодня.
— Ей посвящаешь? — понизив голос, спросил Редько.
— Да не совсем ей.
— Ну, тогда читай.
Николай остановился у стола напротив Редько. Тихим голосом он медленно стал читать:
— Опять о природе? — спросил Редько.
— Нет, дедушка, не совсем о природе. Другое хотел я выразить.
— Что же?
— А видишь ли…— И Николай стал рассказывать, что он передумал и перечувствовал сегодня на бульваре.— Я хотел выразить мысль о высоком мастерстве, которого каждый должен добиваться в своей любимой работе.
— Тут ты прав…
Беседа друзей была прервана приходом Анатолия.
Они не сторонились Балахонова, вовлекали его в свои беседы. Но Анатолий какой-то непонятный парень: не попадешь на одну волну с ним — над самым святым будет смеяться. А когда он на какой волне, трудно угадать.
Готовились к встрече с Таней. Николай старался навести хотя бы относительный порядок на столе, которым пользовался чаще других. Критически осмотрел и свой костюм; давно бы надо купить новый.
Заговорили о правилах внутреннего распорядка в комнате, и Редько сейчас же поддержал его:
— Надо их написать.
Когда правила были выработаны, Николай с многозначительной серьезностью прикрепил листок к двери. Анатолий немедленно выругался.
— Деньги на бочку, пять копеек,— проговорил Редько.
— Что может быть печальней для благородного человека с благородными намерениями,— сказал Анатолий, ложась на кровать,— когда прошлое твое — обезьяна, будущее — лопух, а в настоящем даже выругаться нельзя.
— А ты плати, понял? — строго сказал Редько.
— У каждого человека есть свое субъективное восприятие объективного мира. Мне, например, не хочется платить, и я не плачу.
— Не заплатишь — так заплачешь. Зубы нам не заговаривай,— теряя терпение, пригрозил Николай.
— Спокойно! Будущий педагог должен быть спокойным: иначе нервы не выдержат,— предупредил Анатолий.
— Ну ладно, плати.
— Какие вы серьезные! Скучно жить с положительными людьми.— Анатолий нащупал в кармане брюк две монеты.— Платить не буду, запиши в «скорбный лист»,— сказал он Николаю.
«Скорбным листом» они называли клочок бумаги, на котором записывали свои долги.
— Нет уж, давай наличными! — Николай ближе подошел к Анатолию.
Анатолий понял, что словами не отделаешься, длинно выругался и бросил на пол пятиалтынный и гривенник.
— Жрите! — закончил он свою тираду.
Николай терпеливо подобрал под столом деньги, потом, выпрямляясь, сказал Анатолию:
— Маловато, ты бы еще на полтину.
— Хватит,— мрачно сказал Анатолий.
В комнату вошел Павленко.
— Закурим? — предложил он ребятам.
— Нет, не закурим,— отрезал Редько.
— Потому что курить нечего! — сказал Павленко.
— Нет, не поэтому.— Редько подошел к Павленко, взял его за пояс и подвел к правилам внутреннего распорядка.— Читай.
Прочитав правила, Павленко сказал:
— Это пустяки.
— Нет, не пустяки,— возразил Редько.
— А чего это ради?
— Ты забываешь о конкурсе на лучшую студенческую комнату! — патетически сказал Редько.— Понял?
— Но у вас в комнате всегда было чисто… более или менее.
— Вот именно «более или менее»,— передразнил Николай.— А мы хотим «более».
Анатолий хмыкнул и заговорил язвительно.
— Как благородный человек с благородными намерениями не могу молчать. Зачем наводить тень на плетень? Конкурс на лучшую студенческую комнату здесь ни при чем. Николай влюбился в Моисейченко. Ну и стало ему неудобно жить по-старому. Видишь, преобразился парень.
— Понятно,— с иронической важностью произнес Павленко.
— Он думал, я его не выведу на чистую воду,— продолжал Анатолий.— Но я скажу это и в присутствии Моисейченко.
— Ты скажешь, в этом можно не сомневаться.— Павленко кивнул головой и посмотрел на насупившегося Николая. Потом спросил: — А ты, дед, при чем?
— Я всегда за порядок,— ответил тот и смутился,
— Уж не влюбился ли и ты? Редько серьезно, с обидой ответил:
— Ну, ты брось шутить, я тебе не мальчик.
— А я — жертва. Кто-то влюбился, а я страдай,— сказал Анатолий, скорчив грустную мину.
— Значит, нельзя закурить? — спросил Павленко.
— Оштрафуем,— подтвердил Николай.
— Да вы что, с ума сошли! — Павленко удивленно отступил назад.
— Нет, мы взялись за ум,— упрямо произнес Редько, глядя повеселевшими, почти без ресниц глазами.
Под общий смех Павленко ушел с папироской в коридор.
Каждую неделю ребята поочередно мыли пол. Когда была очередь Николая, он мыл с особенной тщательностью, хотя это, по его мнению, была самая противная работа на свете.
Одно условие не соблюдалось: не всегда в комнате была необходимая тишина. Сядет Редько с книгой, приходит Николай и тихонько начинает песню:
Не выдержит Редько:
— Коля, а заниматься?
— Брось, дедушка, не вечно же заниматься. Без нас не будет нас. Давай споем.
Отвернется Редько, а самого тоже подмывает.
Николай знает, что «академик» не утерпит, и продолжает:
Не выдержит «старик», бросит книгу на стол, подопрет голову рукой, вздохнет и скажет:
— Эх, где мои семнадцать лет! — Скупо улыбнется и приятным баском подхватит:
Почти из всех комнат приходят ребята. Бывают, особенно по вечерам, такие минуты, когда охватит тоска, опалит сердце и захочется поехать туда, где бродил по лугам, где погонял быков или водил лошадь, где ночью грелся у костра. Тогда особенно хочется петь, хоть словами песни вспомнить о прошлом.
В один круг становятся Углов, Павленко, Анатолий, Николай, Редько и все желающие. Запевает Николай, взмахом руки он подает знак для вступления хора:
Кончается песня, и вдруг кто-нибудь выкрикивает:
— Посею!
И в следующий момент хор начинает чеканить, как частый танец:
Углов идет вприсядку, Анатолий рассыпает дробь городской чечетки. Круг тесен, в комнату входят еще студенты. Стол, тумбочки и табуретки отодвинуты к стенам.
«Черти, а ведь мне в субботу полы мыть»,— думает Николай.
Но вот Анатолий стал в позу докладчика:
— Если мы бросим ретроспективный взгляд на прошлое, если мы заглянем в будущее, если…
На него замахали руками, закричали:
— Хватит!
— Довольно!
«Не твоя аудитория»,— подумал Николай и предложил:
— А вот я сейчас расскажу…
Студенты сели, кто на табуретки, кто, расстелив газеты, на койки.
— Поехали мы в ночное. Едем и песни поем. А наши казачьи песни длинные. Раз как-то казак верст семь одну песню пел. Сел братушка на грядушку арбы, чтобы голос дрожал, едет и тянет: «Гво-о-гво-о…», приехал на гумно, остановил быков и только тут закончил песню,а в песне и всего-то одно слово: «гвоздик»… Вот и мы едем в ночное, глядим в бескрайнюю степь, в голубое небо и тянем «гвоздик»…
Вошли Никита Валков и Степанюк. Николай нахмурился, но продолжал рассказывать:
— Приехали в ночное, спутали лошадей, развели костер. Кто-то из ребят предложил съездить домой за сметаной. Предложение, разумеется, приняли. Приехали к деду моему Трофиму и — в погреб. Дед Трофим в это время вышел во двор, слышит: в погребе люди. Подошел поближе, смекнул, в чем дело, да крышку — хлоп! Утром выпускает по одному из погреба и кнутом дает чертей. Когда меня хлыстнул, я говорю: «Дедушка, это я, Николай». — «А, внучок!» — И по-свойски еще вложил.
— Классически выпорол? — спросил один из студентов.
— Классически,— ответил Николай.
Со Степанюком Николай не разговаривал, только при встречах здоровались. С Никитой Валковым у него сложились своеобразные отношения. Еще тогда зимой, в январе двадцать седьмого года, подтвердилось, что Валков и Вилков одно и то же лицо.
— Я не знал, что мы земляки,— говорил Никита.— Так это, выходит дело, ты тот самый пастушок, который книжки любил читать! Слышал, слышал. Очень рад, что встретил здесь человека со своей стороны. Будем друзьями,— предложил он Николаю.
Друзьями они не стали, но Никита всегда был неизменно любезен с Николаем.
Углов сделал ряд запросов о прошлом Никиты: ничего компрометирующего. Характеристики прислали положительные. Что касается изменения фамилии, то в те годы на это была мода: не понравилась чем-нибудь фамилия человеку, взял да переменил. Этим и Никита объяснил перемену букв в своей фамилии…
Один студент рассказывал охотничью историю:
— Было это над Чиром. Пошел я с собакой Валетом на охоту. Идем, вдруг Валет стойку сделал. Я подползаю, смотрю — утка.— Рассказчик жестами и мимикой старался представить, как это было.— Хочу выстрелить — собака мешает. Я шепчу: «Валетка!» Она не шелохнется. Я опять: «Валетка!» Она поворачивается: «Что?» — «Уйди,— говорю,— к чертовой матери, а то убью».
Смех грохнул так, что стекла в окнах зазвенели. У рассказчика лицо совершенно бесстрастное, губы поджаты. Павленко с восхищением шепчет Николаю:
— Врет, врет, как бюро погоды!
Николай смотрит на Анатолия, тот сидит со скучным выражением лица, томится. Анатолий привык быть в центре внимания, а тут вдруг оказалось, что он не у дел.
Усмехнувшись, Николай посмотрел на других. Те были веселы. Только Степанюк и Никита изучающе смотрели на студентов. «Что это они?» — подумал он, настораживаясь. Но вот и Никита рассказал эпизод из прошлого. Ребята смеялись, но вдруг что-то изменилось. Кое-кто, еще не разобравшись в чем дело, продолжал смеяться, а некоторые, как бы спохватившись, сразу сделались серьезными. Павленко силился что-то понять, Углов испытующе смотрел на рассказчика. Глаза Никиты стали совсем узкими, они осторожно выглядывали из щелок.
«В чем дело?» — тревожно подумал Николай.
А Никита, горько усмехнувшись, между тем говорил:
— Теперь у нас на хуторе не то…
— А что у вас там? — спросил один из студентов, видимо, ожидавший очередной шутки.
Но Николаю стало ясно, что Никита уже не шутит.
— Что? Да хорошего мало,— говорил Никита, избегая взглядов.— Хлебозаготовки…— Он на секунду прикрыл глаза, затем они блеснули из узких щелок каким-то мрачным огнем.— Многих подводят под сто седьмую статью уголовного кодекса.— Хотя Никита явно не договаривал своей главной мысли, Николаю она была понятна.
«Ах, вот куда ты повернул!» — подумал он.
— Кулаков жалеешь? — жестко спросил Редько.
— Я их не жалею… Зачем жалеть?
Теперь уже никто не смеялся. Даже Анатолий слушал с любопытством, глядя в лицо Никиты.
— Так в чем же дело? — спросил Редько.
— Тяжелые времена наступили,— сказал Никита,— то есть вы не подумайте в буквальном смысле, что я испугался трудностей. Но, понимаете, однако…
— Ага, новый пророк объявился! — торжественно проговорил Анатолий и громко засмеялся.
— Дело совсем не во мне.— Никита замялся, потом добавил:— Вот был я на днях в клубе торговых и советских служащих, видел там две картины. Обе написаны одним художником. Одна — «Социализм». На полотне — огромное строящееся здание, множество людей. Все они идут с тяжелой ношей вверх! Чем выше, тем путь их трудней. И рядом картина — «В степи». Сидит запорожец, вольный казак, покуривает трубку. Недалеко стреноженный конь. И степь такая богатая-богатая, и горизонт виден далеко-далеко. А кругом простор…
Николай слушал и смотрел на вспотевшего вдруг Никиту.
«А что он рассказывает в хуторах и станицах? — думал он.— Говорил же мне об этом Константин Васильевич. А ведь там от студента ждут авторитетного слова. Не случайно он в дружбе с кулацкими сынками».
Стараясь говорить спокойно, Николай спросил Никиту:
— Ну и какой же ты сделал вывод из сравнения этих двух картин?
Никита пожал плечами.
— Никакого вывода… Мне просто стало грустно.
— Почему?! — Николай повысил голос.
— Не знаю… Не обязательно везде политику примешивать.
— Говоришь: не обязательно, а сам не случайно привел такой пример,— убежденно проговорил Николай.— Этот художник — вредный. Он романтизировал старину и написал пародию на социализм.
— Ты меня не так понял,— оправдывался Никита.
— Да так тебя поняли и другие,— жестко сказал Редько.
— Да что вы, братцы, что я не советский студент, что ли?
— Напрасно вы на него напали,— сказал Степанюк.— В газетах пишут много о социализме, пятилетке и коллективизации. А в станицах и хуторах люди, как жили, так и живут. И шум вы подняли из ничего.
— Тебе, Степанюк, надо бы в старое время на юридическом факультете учиться,— сказал Углов.— Миришь ты хорошо. Страна стала на путь коллективизации, а ты делаешь вид, что там, в деревне, никаких изменений, а мы тут дурачки и от нечего делать занимаемся болтовней.
— Да с вами и говорить нельзя,— сказал, усмехнувшись, Степанюк. И, подумав, добавил: — Может быть, я ошибаюсь. Вот крайком посылает меня в командировку на коллективизацию. Поеду, окунусь, возможно, по-иному буду говорить.
Когда студенты ушли из комнаты, Николай сказал Редько:
— Заодно Степанюк с Никитой. Видел я, как они переглядывались.
— Да, тут надо разобраться,— проговорил Редько.— Мне это показалось подозрительным.
А через несколько дней Николай получил письмо с хутора. Ему так захотелось поделиться новостями с Афанасием, что он не пошел на собрание литераторов. Но Редько дома не оказалось.
Афанасий вернулся ночью.
— Жмет напоследок мороз! — сказал он, снимая озябшими руками кожанку.
Он повесил кожанку на гвоздь, забитый для него пониже вешалки, подошел к своей койке, вскарабкался на нее и лег прямо на одеяло: устал, пока добрался из библиотеки.
— А я, дедушка, письмо от Ивана Тимофеевича получил,— сказал Николай.— Вот бы этим письмом нос утереть Никите и Степанюку. Прочитать?
— Читай.
Николай взял со стола тетрадочный листок, исписанный твердым почерком, и начал читать.
«Доброго здоровьица, дорогой племяша, Миколай Петрович!
Во-первых строках моего письма сообщаю вам, что я с моим семейством нахожусь во здравии и благополучии, чего и тебе желаю от чистого сердца. Известий у нас очень много. Помер сват Иван Спиридонович. Остальные в хуторе все живы и здоровы. А теперь о главном. Хочется мне твоего совета. Дюже много разговоров у нас насчет колхозов. Энтот край, заеречные, почти все вступили в колхоз. Твой двоюродный брательник Филипп Максимович Ястребов высудил с Чернышевых за все пять годов именье, а теперь все отдал в колхоз. А у нас тут, на главной улице, колготятся. Как дальше быть: идти в колхоз или нет? Разные тут разговоры. Говорят, будет коммуния и все спать будут под одним одеялом. Это откуда-то взялись монашки, бабам в уши надувают. Да и среди казаков всякие разговоры идут. Мне иногда невмоготу от них. А то задумаешься, неужели она, Советская власть, поведет нас к худому? Не к тому же, чтобы все волками выли! Всякие разговоры идут и насчет землицы. Веришь, сам не свой хожу. Сердце кровью обливается. Ты, племяша, больше знаешь, ты присоветуй. Оттуда видней…»
По мере того как Николай читал письмо, лицо Редько менялось, синие глаза его заблестели. Он сел на кровати, потом опустился на пол и, глухо стуча култышками, подошел к Николаю.
— Дай письмо.— Выхватил из рук Николая листок и помахал им.
Николай с изумлением смотрел на раскрасневшееся лицо товарища.
— Вот оно, началось,— говорил дрожащим голосом Афанасий.— Понял? Повсеместно началось! А Степанюк говорил здесь…
Несмотря на то, что его слова были обращены к Николаю, они на самом деле относились к кому-то другому. Николай это хорошо понимал. «Что с дедушкой?» — думал он.
Редько положил письмо на стол.
— Надо молниеносно отвечать. Понял?
— Ты подожди, дедушка, в чем дело? — спросил Николай.
— Отвечать надо.
— Да я уж написал ответ.
— Отослал?
— Нет еще. Ждал тебя, хотел посоветоваться.
— Читай.
Николай, смутно понимая причину волнения Редько, вдруг почувствовал, что ответ его вышел слабым. Теперь он и сам увидел в нем уязвимые места.
— Я прочитаю. Но, видишь ли, дедушка, мне уже самому не нравится ответ.
— Читай! — с нетерпением сказал Редько.
Удивляясь про себя внезапной перемене, которая произошла вдруг с Афанасием, Николай начал читать ответное письмо. Редько стоял, закрыв глаза ладонью. Он долго молчал, потом, опустив руку, взглянул в лицо Николая и твердо сказал:
— Неубедительно. Решается судьба не одного твоего дяди, а всего крестьянства. Идет революция! Жаль, что ты в эти зимние каникулы не был дома. Давай напишем вместе,— добавил он уже спокойней.
Николай подвинул к себе лист чистой бумаги. Редько стал диктовать. Он говорил горячо. Николай почти без изменений записывал фразы, все сильнее заражаясь чувством Редько. Он изумлялся, что Афанасий так представляет себе жизнь казаков, будто прожил с ними десятки лет и только вчера покинул хутор.
— Дедушка, почему так получается? Я больше двадцати лет жил среди казаков, до мелочей знаю их жизнь, знаю батрацкую долю и колхоз, но убедительных слов, какие нашлись у тебя, шахтера, не нашел.
— А ты не учитываешь, что я участник гражданской войны? — спросил, улыбаясь, Редько. — Несколько лет был на руководящей комсомольской работе. Здесь прикреплен к партийной ячейке завода, и мне приходится иметь дело со вчерашними крестьянами. Понял?
Наступила пауза. Оба задумались.
Едва успели отправить послание Ивану Тимофеевичу, как получили от него новое письмо: он «поступил в колхоз со своим соседом наравне».
— Удивительно! — радостно говорил Редько. — Как там все быстро меняется!
— Жалею, что не был в эти дни на хуторе, — сказал Николай. — Может быть, мне и в самом деле надо было бы поехать на зимние каникулы не в Ленинград, а в Грушки?
В Грушках Алексей оказался еще больше занятым чем в армии. Райком партии строго-настрого обязывал закончить на хуторе коллективизацию на сто процентов и трем коммунистам да нескольким комсомольцам было трудно управляться.
Марья Ивановна все собиралась поговорить с сыном, что он думает делать дальше, как жить, но Алексей постоянно куда-нибудь торопился, неудобно было отрывать его от спешных дел. Сегодня она решила все-таки начать разговор.
— Опять уходишь? — спросила она. — Ты бы хоть сказал мне, где пропадаешь-то?
— Я не пропадаю. Нынче коммунистам в хуторской Совет приказано явиться.
Алексей был в военном. На литые плечи накинул шинель, потянулся за шапкой-буденовкой.
— Не холодно будет? — спросила Марья Ивановна.
— Не замерзну,— с усмешкой сказал Алексей, блеснув белыми зубами.
— За три года пребывания в армии он очень изменился. Туда уходил молодой парень, вернулся — возмужалый казак. Он мало вырос, но очень раздался в плечах, приобрел-военную выправку. Серьезные голубые глаза смотрели смело. На скулах все еще темнел южный бронзовый загар.
— Подожди,— попросила Марья Ивановна, присаживаясь у стола.— Давай погутарим.
— Давай погутарим,— Алексей с любопытством взглянул на мать и сел напротив, ладонью широкой руки он стал приглаживать белесый непокорный чуб.
— Вот что я хотела сказать, сынок. Ты часто пропадаешь по целым ночам, а я не сплю: все думаю и думаю…
— О чем же ты думаешь?
— Что придет в голову… Ведь вот избили тебя до службы-то. Еще хорошо, что не покалечили, а мог бы и на всю жизнь уродом остаться.
— Напрасно беспокоишься.
— Да ведь пуганая ворона куста боится. Разве я могу быть спокойна душой, если тебя дома нет!
— Это, мать, глупости. Ты знаешь, я не пьяница, не вор. Мне приходится ходить по общественным делам. И за меня ты не беспокойся. Я вооружен, стреляю без промаха, на третье место в батальоне выходил по стрельбе. Так что не волнуйся понапрасну.
— Сердцу не прикажешь. Болит — и все. Женился бы, чтоб я знала… А то вот ходишь-ходишь, понравится какая-нибудь. Тогда Паранечка тебе в голову влезла… Скажу по совести, уж так я была недовольна, так недовольна, что и сил моих нет сказать об этом. Не к шубе рукав эта девка нам. Хорошо, что за Митюню вышла.
Алексей достал кисет и начал крутить цигарку. Он, казалось, спокойно слушал признания матери. Только на крутых скулах резче выступил румянец.
— О ней теперь и толковать нечего,— тихо сказал Алексей.— Что с возу упало, то пропало.
— Вот я и думаю… Тогда тебе служба предстояла, теперь отслужился, в года вошел. Пора, сынок… А то ведь хождения твои до добра не доведут.
— Пока, мать, я жениться не собираюсь. Сама видишь, дыхнуть некогда.
— Всех дел никогда не переделаешь,— упрямо возразила Марья Ивановна.— А невесты на хуторе у нас хорошие. Вон у Саломатиных Машка… Девка рослая, умная, уважительная. Сроду о них ничего плохого не говорили.
Алексей видел, что мать неспроста завела этот разговор. Зажег спичку и долго молча прикуривал, думая, как ей ответить. Жениться он на самом деле пока не собирался, в мыслях было много неясного. Беспокойство матери только показывало, что она за годы разлуки с сыном не изменилась.
— Надо себе дружку выбирать надежную,— после паузы продолжала советовать Марья Ивановна.— Век прожить — не поле перейти. А с такой, как Машка, не пропадешь. Дюже хорошая девка. Я вот пожила на свете, много семей повидала на своем веку и знаю, часто ошибаются люди. Судьба лычко с ремешком связывает. От такого узла добра не жди. Чуть что, и рвется. Раньше, бывало, мученье в семьях, теперь слышишь — «разошлись». Но ведь и разойтись-то, что хорошего? Останутся дети, связь на всю жизнь. Раздвоится человек, и нету ему счастья. Тут уж надо решать твердо и навсегда.
— А что это ты, мать, так заботишься о моей женитьбе? — спросил Алексей.— Время придет, женюсь.
— Да хочется мне, чтобы ты твердо на ноги стал. Одному не годится оставаться. Да и пора бы мне полюбоваться на тебя с молодой женой, внуков понянчить.
— Ну вот я тебе и сказал: подожди.
— Долго ждать — тонко прясть.
Алексей, нахмурив брови, тихо и раздельно проговорил:
— Мне, знаешь, мать, не так легко это. На горячем молоке обжегся, теперь и на холодную воду приходится дуть.
— Да так-то оно так,— согласилась Марья Ивановна.
— Вот и не торопи.
— Но насчет Машки-то все-таки, сынок, подумай…
Алексей надел буденовку, взглянул в зеркало, передвинул ее набекрень и, поскрипывая добротными сапогами, вышел из куреня.
Марья Ивановна прильнула к окну. Ничего не было видно. Она подула на стекло, затем через засиневшийся кружочек одним глазом стала смотреть на улицу. Возле высокого сугроба — голубая тень. На голубой дороге, на самой середине улицы, две вороны. Вот по узкой темнеющей тропке, что огибает палисадник, идет Алексей. Марья Ивановна с гордостью глядит на его ловкую фигуру, на шинель, перехваченную в талии кожаным поясом.
«Сыны-то у меня какие! Этого только и осталось женить. Николай тоже кончает учиться. Что-то от него нет писем?»
Вошел Степа, растирая лилово-сизые щеки.
— Холодно? — спрашивает Марья Ивановна.
— Нет.
— А замерз… Посинел весь.
— Ни капельки не замерз.
— Ты что это, на вечер глядя, из дому убежал?
— Нынче в кружке занимались.
— Опять машины делали?
— Модель самолета. Знаешь, мама, заведешь ее — летает!
— Наговоришь тоже!
— А вот хочешь, я завтра принесу тебе, покажу?
— Нужно мне это, как прошлогодний снег. Садись вечерять. Так с Алексеем и не дождались тебя.
Марья Ивановна была недовольна: еще в прошлом году на слете юных пионеров выступил летчик,— в станицу приезжал зачем-то. Пришел Степа с этого слета и заладил одно:
— Летчиком буду!..
Хотя и знала, что все это детские разговоры, но что-то тревожило Марью Ивановну. А вдруг да в самом деле станет летчиком? Глазом не успеешь моргнуть — убьется. Вот почему она с неудовольствием встречала рассказы Степы о моделях самолетов.
Алексей, выйдя из дому, направился в хуторской Совет, останавливаясь по дороге с хуторянами. Годы пребывания в Красной Армии, где он вступил в партию, сказались на его характере, да и армейское равенство сыграло свою роль. Прежде, с малых лет, у Алексея обувь и одежда были хуже, чем у других. Иное дело в Красной Армии. Там все призывники оказались в одинаковом положении. Ни один не выделялся ни одеждой, ни обувью.
Алексей пришел в Красную Армию уже закаленным и физически выносливым. Ему было сравнительно нетрудно привыкать к армейскому режиму. Он оказался подготовленней многих других и к беседам политрука. Все-таки комсомолец, жил в такой семье, где книг читалось много, на пользу пошло и близкое знакомство с Василием Марковичем. Политрук роты не раз хвалил Алексея: — Способности у вас, товарищ Ястребов, хорошие, вам надо учиться и учиться.
После двух с половиной лет службы Алексей совсем было решил идти в школу среднего командного состава. Но тут произошел случай, изменивший судьбу парня. Как-то, обстреляв контрабандистов, пограничники бросились за ними. Алексей со своей группкой — он уже был помкомвзвода — бежал наперерез. Споткнувшись о камень, упал и свалился в расщелину. Три месяца пришлось лежать с ногой в лубке, в школу опоздал, только поэтому и вернулся в Грушки.
Тяжело переживал Алексей замужество Парани. Он никому не говорил, но многие товарищи его и командиры заметили тогда, что парень похудел, лишился аппетита. Он часто задумывался, чувствовал вялость и упадок сил.
— Ты что это, Ястребов, наряд вне очереди собираешься получить? — говорил ему старшина Майборода.
— Я вас слушаю, товарищ старшина.
— Почему хуже стал выполнять приказания?
Алексей молчал.
— Подтянуться, чтобы больше я этого не видел!
— Есть, товарищ старшина, подтянуться!
Постоянный, здоровый режим, молодость исцелили Алексея от тоски. Месяца через три он реже стал думать о Паране. В последний год службы уже почти не вспоминал ее. Только перед отъездом чаще стали вставать перед глазами Грушки. Почему-то особенно живо возникала в памяти ночь над Безымянкой и прощальный разговор с девушкой. «Руки на себя наложу», — вспомнил он ее слова. И так отчетливо предстала пред ним кажущаяся бездонной река, качающиеся на волнах звезды. «Если бы теперь можно заснуть, а через два года проснуться», — вспомнил он милые слова Парани.
— А вот, скажите, — вдруг обратился Алексей к политруку роты Стародубцеву.— Достигла ли наука того, чтобы человек мог заснуть на два-три года?
— Нет. А почему ты спрашиваешь об этом? — удивленно сказал Стародубцев.
— Да так, спор у нас вышел однажды, — ответил Алексей и вздохнул.
«Нет, — решил он, — поеду на хутор, а на нее и глядеть не буду. Мало, что ли, у нас девушек?»
Но всю дорогу он думал о Паране.
В день приезда сошлось много знакомых. Самсон Кириллович наедине шепнул ему:
— Не уберегли мы твою невесту… — Значит, нечего было и беречь!
С Параней он встретился на другой день. Она доставала воду из колодца. Испуганно и изумленно взглянув на Алексея, она склонила над новым бревенчатым срубом голову, и Алексей прошел мимо. При виде этой по-девичьи тонкой фигуры что-то словно опалило его.
«Почему это? Ведь с нею все кончено! Она мне чужой человек, — думал он.— У нее муж. Говорят — гуляет он. Так ей и надо — не выходила бы за такого, а уж вышла, кайся всю жизнь! Бачили очи, шо цыбулю куповалы. И ишьте ее, хоть повылазьте! — И вдруг как будто кто со стороны подсказал: — А она, кажется, мало изменилась».
Вот и дом Бородиных, большой, в три комнаты. Крыт железом, крыша зеленая. Алексей хорошо знает этот дом. Бывало, еще до ухода в армию глядел, как под окном пламенеют головки маков и георгинов. И на второй день после своего возвращения на хутор Алексей увидал за частоколом палисадника яркие цветы. Но что-то изменилось в облике дома. Он будто постарел. Частокол палисадника стал темным, многие дощечки наполовину сгнили. Видимо, их не меняли за годы отсутствия Алексея. Ворота тоже обветшали и покачнулись.
А вот и курень Донсковых. Те же одинокие тополи по углам палисадника, яблони и вишенник. Подросли, но все до ветки — знакомо.
Председатель хуторского Совета Михаил Андреянович удивил Алексея разительной переменой к лучшему. Теперь это был молодо выглядевший, полнолицый, широкоплечий казак. Он уже и сутулится меньше, и одет не так, как прежде. Рубашка — в рубчик, чистая, без латок, узкая пряжка с казачьим набором блестит серебром. Михаил Андреянович побрит, подстрижен. Бывало, он других стриг и брил, а сам всегда ходил «волохатым». Глаза веселые.
— А-а, пришел! — радостно воскликнул он.— Милости просим, проходи, садись.
— Михаил Андреянович! Да что с тобой произошло? — не удержался Алексей. — Уезжал — ты был худущим, сутулым, а теперь — тебе и тридцати не дашь!
— Оно, парень, видно, жизнь хуже, а ворот уже. Да и ты тоже ничего, справный. Рассказывай, как там служить пришлось.
Алексей рассказывал, отвечая на вопросы, потом сам спросил:
— У вас тут коммунисты есть? Или по-прежнему, кроме Василия Марковича, никого?
— Коммунистов мало: я да Василий Маркович. А работы много, день и ночь работаем.— И Михаил Андреянович стал рассказывать, как идет жизнь на хуторе.— Трещит все старое по швам.
— Теперь вот и я пришел к вам на помощь, — сказал Алексей.
— Неужели в партии? — обрадованно спросил Михаил Андреянович.
— Второй год.
— Хорошо! Это, парень, очень хорошо. Значит, у нас теперь будет своя партячейка. Вот обрадую старика, Василия Марковича.
— Как в колхозе?
— В колхозе работаем дружно… У нас тут — два трактора. Такую, парень, крепь берут, какой сроду не пахали. Уж сорок три двора в колхоз вошли. Остальные пока блуждают в потемках. Ну да и этим не миновать. Вот наляжем на них с новой силой… Хорошо, что ты приехал.
— Ну, а кулаки как?
— Да так… Афанасий Трофимович, сосед твой, все жилы тянет из семьи, тиранит батраков, чуть не открыто выступает против нас. Он и знать ничего не хочет. Ну, правда, с хлебозаготовкой мы его жмем. Остальные притаились.
— А Бородин? — спросил Алексей.
— Да Бородина, парень, не поймешь. Ты ведь знаешь, Семен Сазонович давно к торговлишке пристрастился. Ни одного, бывало, базара не пропустит. После того как ты ушел в Красную Армию, он верст за сто выезжал. Нет-нет да и возьмет с собой Митюню. Как матерый волк, натаскивает молодого. Совсем на широкую ногу зажили: в доме граммофон, мебель городская, жена чистая барыня стала и сноху хорошо одевал-обувал. Сладко пили-ели. А с год назад слушок прошел: за большим барышом погнался, его, как липку, ободрали. Работника и работницу рассчитал, во дворе осталась одна пара быков, семью в зипунки нарядил. Стал поговаривать, чтобы мы в колхоз его приняли. Но мы от этого добра воздержались. Нет ему доверия… Он ведь на три аршина в землю видит. То всегда в торговле удача была, а то вдруг, когда голоса лишили,— в бедняки норовит попасть. И с хлебозаготовками… Семен Сазонович по своей воле шестьсот пудов пшеницы сдал государству. Да такой пшеницы — зерно к зерну! Хлеб — чистое золото. Как думаешь насчет этого?
— Поживем — увидим, — задумчиво произнес Алексей.
— Это правильно, что увидим. Нашим хуторянам не очень приходится доверять: почти все в белых были. А некоторые и до сих пор глаза прячут. Тут, парень, ухо держи востро. Вон на хуторе Роднички задержали кулацких сынков с оружием.— Москалева да Гусева. Живем, как в двадцать первом, спать приходится с наганом.
— Значит, гляди в оба!
— Гляди в оба, а зри — в три. Правда, многих мы перевоспитали, но доверяться нельзя.
И сегодня Алексей шел мимо дома Бородиных, стараясь не глядеть туда. «Может быть, она меня совсем не видит, — думал он.— Теперь уж не к чему. Вот мать говорит про Саломатину Машку. В самом деле, девка хоть куда. И семья у Саломатиных хорошая. Женюсь — и крышка».
Как изменилась жизнь на хуторе! Уходил Алексей в Красную Армию, здесь только лишь кое-кто говорил о кредитном товариществе, а пришел, чуть ли не половина жителей — колхозники. Прочно вошла в быт хутора Грушки изба-читальня. В зимние дни, особенно по вечерам, в избу-читальню шла хуторская молодежь и даже пожилые люди и старики. У многих стало уже привычкой — завернуть сюда вечером «на огонек». Помещение не могло вместить всех желающих, особенно в дни, когда шефы-железнодорожники приезжали со своими докладами, постановками и духовым оркестром. Михаил Андреянович приобрел для избы-читальни патефон и баян. Ныне в хуторе уже никого не удивляло, что здесь до часу ночи светились лампы-молнии.
С Алексеем охотно вступали в разговоры даже те хуторяне, которые вообще слыли за молчальников. Они тоже интересовались, что нового в газетах, вступают ли в других станицах и хуторах в колхозы, как служилось в Красной Армии.
Однажды он возвращался из правления колхоза, и по дороге его перехватил и залучил к себе в курень старик Гвоздиков.
В жарко натопленной хате Алексей ничего не увидел нового: те же многочисленные иконы в красном углу, у большой русской печи сложенные в кучу кизяки. Пахло кислой капустой и сеном, подстилкой для теленка и ягнят.
Присели у стола. Гвоздков, вытерев синей тряпкой слезящийся глаз, достал старый кисет.
— Закуривай, — попотчевал он Алексея.— Табачок у меня крепкий, своего производства.
Задымили, и старик начал неожиданно:
— А скажи, Алексей Петрович, что надо Польше да Румынии?
До крайности удивленный, Алексей начал отвечать, а сам все думал: «Куда же он, хитрец, метит?»
— В позапрошлом году в Польше нашего человека убили… Запамятовал, как его?
— Войкова, — подсказал Алексей.
— У нас на хуторе много об этом разговоров было. Жалко своих людей. Ну что, скажи ты, нужно этим самым полякам? Пусть бы так жили у себя, как знают, а мы тут, как умеем. Ведь наши так и говорили им: давайте ни вы нашей, ни мы вашей границы не касаться!
— Поляки, дед, тут ни при чем,— разъяснял Алексей.— Польские рабочие и крестьяне — такие же, как и мы. Это богачи, империалисты не унимаются.
Старик выслушал эти слова со вниманием, потом, понизив голос до шепота, спросил:
— А не вернутся из-за границы те, которые?..
Алексей усмехнулся.
— Насчет этого не беспокойтесь, не вернутся.
— А то ведь знаешь, Алексей Петрович, — теперь старик заговорил уже обыкновенным голосом, — я откровенно скажу: в колхоз бы надо вступать — и боюсь. Вдруг да те вернутся! Да и начнут головы колхозникам отворачивать.
— Возврата им не будет, — уверенно сказал Алексей. — Об этом не беспокойтесь.
Как-то встретился и с Семеном Сазоновичем Бородиным. Тот за эти годы заметно постарел, уже не имел прежней осанки, но заговорил весело, беззаботно.
— Нам, старикам, износу не будет!
А когда пошел по улице, Алексей заметил: широкие плечи старика невольно опустились.
Мельком видел он и Дмитрия Бородина. Тот шел с каким-то растерянным выражением лица. Но, когда повстречался глазами с Алексеем, как-то подтянулся.
«Не хотят, чтобы их видели такими, какие они есть, — подумал Алексей.— А все-таки не как в двадцать первом году живем. Вон насколько крепче стали! И кулаки теперь уже не те!»
Но как-то вечером он проходил мимо группы казаков и услышал слова, произнесенные с издевкой:
— Скотина не скотина, а на человека не похож.
— Так это же у него шлем, — сказал другой голос.
— А я думал — рог!
«Обо мне», — подумал Алексей, замедлил шаг и невольно опустил правую руку в карман, где лежал револьвер.
В другой раз ночью из-за угла дома вдруг кто-то бросил в него кирпич.
Однажды Кукушкин сказал ему:
— Хочу в трактористы податься.
— А комсомольскую ячейку на кого оставишь? — Кукушкин был второй год секретарем комсомольской ячейки.
— Пока заворачивать делами будет Ванюшка Костров. Парень он вострый. А я решил в свой родной хутор въехать на стальном коне. Да хорошенько пришпорить.
— Дело неплохое — сказал Алексей. Подумав, спросил:— А не придется руль на винтовку менять?
— Дадут команду «в ружье» — и за винтовку возьмемся. Нас этим не испугаешь. Еще удобней: мэтэсэ целый отряд чоновцев даст.
Посоветовавшись с матерью, Алексей тоже решил поступить на курсы трактористов. Михаил Андреянович запротестовал:
— Не пустим. Твои годы еще небольшие, семьей не обременен. Всякому овощу свое время.
На том разговоры об отъезде Алексея окончились.
Секретарем партийной ячейки избрали Василия Марковича. Его синие глаза выглядели и сейчас молодо, все морщинки светились, добродушная улыбка была обращена к товарищам. Наконец-то на хуторе организовалась своя партийная ячейка!
— Эх, пожить бы еще годиков с десяток! — вслух помечтал Василий Маркович.
— И не один десяток проживешь,— утешил его Михаил Андреянович.
— Нет, долго не протяну. Силы не те. По ночам кашляю, в сердце колет. Без времени ушли мои силы. Да ведь и понятно: с наганом под подушкой приходилось спать. Теперь-то легче! Теперь мы перетянули на свою сторону большинство хуторян, теперь у нас своя ячейка, и Совет в наших руках, и комсомольцы нам помогают. А тогда? Хватыш и тот мне собирался голову оторвать.— Василий Маркович засмеялся:— герой — из-за угла!
Марье Ивановне частенько приходилось выдерживать бурный натиск единоличниц. Вот она подошла к колодцу, ее окружили женщины.
— Здорово живешь, подружка дорогая, — обратилась к ней Наталья Артемовна. — Ну как идут дела в колхозе?
— Да ничего. Работаем.
— Хотите за горло нас? — вдруг тихо и зло спросила Наталья.
— Как это?
— А так. Жизни нету из-за вас! Вы со своим дядей Василием Марковичем всю жизнь на хуторе перевернули. Добивался-добивался правды, а теперь одному себе хорошую жизнь устроил, а всех других в кабалу тянет. Выбрали председателем, чего ему еще?
Марья Ивановна вытянула из колодца ведро воды и сказала:
— Не пойму, подружка, за кого ты хлопочешь?
— За себя, — зло ответила Наталья Артемовна. — Мы налог платим, а вам трактора покупают.
— Трактора нам покупают и будут покупать, потому что мы за Советскую власть. А вы небось из-за границы ждете? — Марья Ивановна разволновалась:— Солнышко с запада не взойдет!
— Все равно вы из колхоза разбежитесь! — прокричала Наталья Артемовна. — А ты — дура набитая! Дура! Дура и есть! Выбрали тебя в хуторской Совет, думаешь, умнее стала? Такая же и осталась, какая была. Активисткой заделалась! Ты, может, и в партию собираешься? Может, должность себе подыскиваешь?
Марья Ивановна подняла коромыслом ведра и, не сказав ни слова, пошла. Наталья кричала ей вслед:
— У тебя сын кончает учиться. Подымешься с ним да улетишь, а нам тут жить! Ноги бы вам переломать!..
Казаки вступали в колхоз с большими колебаниями.
Федор Петрович Донсков до этого года как-то мало задумывался о своей будущей жизни. Приходила весна, и он запрягал быков, выезжал в поле, начинал сеять. После сева по месяцу и больше пахал пары с кем-нибудь вскладчину. А там, глядишь, сенокос подошел, а там — и уборка. Когда-то Федор Петрович думал разбогатеть, но это ему не удавалось. Еле концы с концами сводил. Когда урожай был хорошим, сердце радовалось: сусеки полны зерном. Но в неурожайный год приходилось к хлебу примешивать сушеные картофельные очистки и толочь колючки перекати-поля. В последние годы здоровье стало хуже. И Параню было жалко: с мужем она плохо жила. Вопрос о вступлении в колхоз надо было решать еще и потому, что сосед, с которым он много лет работал вскладчину, уже вступил.
«Что делать? — думал Донсков.— В колхоз идти — потерять пару быков и лошадь. Одному оставаться — ни своей косилки, ни сеялки, ни веялки. А молотить как?»
Федор Петрович уходил в степь. Здесь уже видны были первые признаки весны. Снег разительно ярко белел, а местами казался бурым, кое-где появились проталинки.
Перед неграмотным казаком вставала вдруг труднейшая задача, и решать ее нужно было немедленно. Его отец и дед, все, кого он знал,— одни лучше, другие хуже — жили единоличной крестьянской жизнью. А сейчас ему надо менять жизнь на колхозную. Дед наживал, отец наживал, сам он бился, чтобы не прожить, и вдруг все сразу отдать в колхоз! Вот кабы знать, как оно обернется!
— Ну, старуха, — сказал он однажды, вернувшись с поля, после тяжелой беседы с самим собой, — нынче подаю заявление… Некуда нам больше податься.
— Да ты с ума сошел — лезть в кабалу! Хоть бы со сватом посоветовался. Семен Сазонович пробитой человек.
— А, твой Семен Сазонович! Ничего ты не понимаешь. Люди поумней нас с тобой и то вступают. Вон Василий Маркович давно в колхозе.
— Нашел на кого показывать, — ярилась жена. — Его председателем выбрали, а тебе возле быков да лошадей весь век дежурить.
— Ну и что же? Мне не привыкать с быками да с лошадьми возиться. А другого плана в жизни не выберешь. У нас вон ребята растут. Может, хоть они людьми будут.
Донскова заплакала в голос. Федор Петрович плюнул и ушел в правление колхоза. «Все равно на своем настою,— думал он. — Надоело переливать из пустого в порожнее».
Однако, вступая в колхоз, Донсков на плугах и боронах, на санях и телеге, на арбе и на остальном инвентаре поставил буквы «Ф. П. Д.».
— Это зачем же? — спросил, улыбаясь в усы, Самсон Кириллович.
— А в случае из колхоза разбегаться, чужого не возьму, а свое найду в любом месте,— серьезно ответил старик.
Дмитрий Бородин с женой занимал в доме угловую комнату. Параня возле окна перебирала шерсть, выбрасывая из нее репьи, комочки грязи и навоза, а Дмитрий бесцельно глядел на улицу. После многодневного пьянства у него болела голова, лицо побледнело, осунулось. За неделю он ни разу борща не ел. Пили водку и самогон, закусывали солеными огурцами, помидорами и капустой. Пьянку начинали на своем хуторе, а заканчивали в Безлесном. Сейчас, глядя на улицу, на отполированную полозьями саней дорогу, Дмитрий думал об отце:
«Обжулили! Чего он комедию ломает? Продать бы все и уехать в город. Там можно хороших лошадей купить, а еще лучше — легковую машину и жить не хуже других. Кого с вокзала в город отвез, кому груз перебросил. А потом можно вернуться и к торговле скотом. А засевать понемногу — десятины две-три».
— Болит голова-то? — спросила Параня.
— Ну, болит… А тебе какое дело?
— Все пьянствуешь да с бабами путаешься.
— Помолчи! Без тебя тошно.
— Не от дум, а от водки.
— Ты в этом деле ничего не понимаешь. Может, у меня душа с телом расстается, как поглядишь на эту жизнь.
— То-то ты не забыл к Нюрочке Петруничкиной зайти с Безлесного. Мало того, что алименты ей платишь.
— Но, понесла…— Увидав напротив окна идущего по улице Алексея, он злобно зашипел на жену: — Отойди от окна!
— Мне и тут хорошо,— глянув в окно, коротко сказала Параня.
— Сколько раз тебе повторять?!
— Как в тюрьме держишь… Вот на зло тебе гляжу и буду глядеть. Хоть убей, все равно жизни нет.
Дмитрий бросился к ней, схватил за плечи и с силой оттолкнул от окна. Женщина, падая, ударилась грудью о широкую двуспальную кровать. С грохотом повалился фикус.
Параня молча плакала, уткнувшись головой в подушку.
— Еще мне на зло делать,— сквозь зубы процедил Дмитрий. Он был недоволен собой и ссорой:
«Жена… Не такую я себе жену искал. То ли дело отец с матерью живут! Что он приказал — закон. Куда иголка, туда и нитка. А у этой на каждое слово — ответ. Чересчур бойкая».
Когда стемнело, Параня оделась и пошла к родителям, Агафья Кондратьевна пряла шерсть, Федор Петрович подшивал валенок. Сапожный инструмент был разложен па скамейке. В родной хате Паране все было знакомо, близко, как эти запахи смолы и свежевыпеченного пшеничного хлеба, затеянного на хмелю.
— А-а, дочка пришла,— ласково сказал Федор Петрович, и на его смуглом морщинистом лице с жидкой монгольской бородкой появилась улыбка. Он поглядел на дочь. Прежде старик был доволен, что Параня «так выгодно» вышла замуж, а теперь искренне жалел ее и радовался, когда дочь забегала хоть на минутку.
Агафья Кондратьевна оставила пряжу, убрала донницу и шерстяную кудель, по-утиному переваливаясь, подошла к Паране, уселась на скамейке, близко заглянула ей в глаза. Нежное, с тонкими чертами лицо дочери за время замужества заметно побледнело и постарело. Теперь на нем можно было разглядеть бороздки морщинок. Глаза смотрели устало, грустно.
Ничего не сказав друг другу, мать и дочь заплакали.
— Что это вы, глупые? — испуганно спросил Федор Петрович, сгребая в кучу и без разбору сваливая в ящик сапожный инструмент.
— Жизни нету, батяня! — сквозь слезы ответила дочь.— Бьет, ревнует, а сам пьянствует, путается с кем попало.
— Сглазили его, что ли? — сказал старик.
— Сглазишь такого! Распустился. Живет для себя одного, ни с кем не считается.
Федор Петрович протяжно вздохнул.
— Вот тебе и устроилась, свила гнездышко… Ведь вот она, жизнь-то… Ничего прочного нет. Бородины завсегда были первые люди в хуторе, а теперь? Встретился я на днях со сватом Семен Сазоновичем, поглядел на него… В зипунке. Вся форса с него слезла. В бороде вон сколько седины появилось! Горбиться начал… Скажи ты, пожалуйста, как жизнь может человека изменить?! Ведь сроду он любил шиковать, а тут — как самый последний человек! Осталось только сумку через плечо — и старец. Иди проси Христа ради… Ей богу, старец!
Параня не слушала. Она думала о своем горе.
— Ну чистый балабон, трезвонит и трезвонит,— сказала Агафья Кондратьевна мужу.— Чего разговорился? Дочь со слезами пришла, а он…
— С чего? — переспросил старик.— Тут не знаешь, что делать, куда голову приклонить. Вот заявление подал в колхоз… Дескать, желаю попытать счастья в новой жизни. В правление шел, веселился, а домой иду — такое расстройство меня взяло… Пришел и говорю ребятам: «Ну, дети, помните этот день. Может, к хорошему, а может, в кабалу влез». А Самсонка и отпел мне: «Давно бы, — говорит, — пора. От ребят стыдно за таких родителей».
— К кому он тебя ревнует-то? — спросила мать Параню.
— К Ястребову, к Алексей Петровичу. А я его, как пришел из армии, в глаза ни разу не видала. Да и не к чему… Жизнь опостылела. Придет муженек пьяный, ломается, как свеча копеечная. Убирай за ним, исполняй все и молчи. Уж до того опротивел — глаза бы мои не глядели! — Она помолчала и сказала решительно: — Что хотите делайте, а больше я туда не вернусь.
— Как это не вернешься? — изумился Федор Петрович.
— А так и не вернусь.
— Да разве можно от живого мужа? Ведь он тебе законом дан. Вы с ним в Совете расписывались, в церкви венчались, а ты? Нет и нет. Выбрось это из своей глупой башки.
— Отец,— с укоризной сказала Агафья Кондратьевна.— Старый дрючок. Как ты понимаешь? Детей у нас поле насеяно? Шестерых выкормили. Да будь их два десятка — все дети. Какой палец ни укуси,— больно.— Она повернулась к Паране.— Не слушай его, дочка. Завтра запрягем лошадь, поедем к Бородиным и заберем твой сундук. Три года на них батрачила, хватит. Не такое время. А его, старого балабона, не слушай. Он говорит, а сроду своим словам отчету не дает.
Ночевать Параня осталась в родительском доме. Постелили ей в горнице на леревянном кровати, на которой спала до замужества. Долго Параня не могла заснуть. «Куда теперь я? — думала она. — От отца-матери отрезанный ломоть. Ни девка, ни баба. Пропала моя жизнь!»
Федор Петрович с Агафьей Кондратьевной легли в хате. Они долго полушепотом разговаривали.
— Ты, Петрович, — ласково говорила Агафья Кондратьевна, — не кричи на нее. Ей теперь свет белый не мил. Думаешь, легко на такой шаг решиться?
— Да я ничего…
— Видишь, ходит как в воду опушенная.
— Не слепой.
— Ну, то-то… С глупыми разговорами к ней не лезь. Знаешь ее характер? Кабы на себя рук не наложила. Будешь тогда мучиться до самой смерти.
— Упаси бог!
Они до мелочей обсудили, что делать завтра с утра, как быть с дочерью.
— Так вот, Михаил Андреянович, моя просьба, — проговорил Федор Петрович. — Пойдемте со мной. Вы как есть у нас на хуторе почетный человек. Еще я попросил бригадира Самсона Кирилловича. Он, спасибо ему, тоже не отказался.
— Ну что же, пойдем.— Михаил Андреянович встал и, глядя сверху вниз на Федора Петровича, спросил: — Думаете раздельный акт составить?
— Я не знаю, вам видней… Я ведь к этому человек непривычный, сроду не разводился.
— Ладно, составим… Иван Иванович,— обратился председатель к секретарю хуторского Совета, пожилому человеку, с очками на лбу, с карандашом в кармане гимнастерки,— ты тут без меня отчет напиши, потом проверим вместе.
Федор Петрович с Параней, а за ними Самсон Кириллович и Михаил Андреянович поднялись на высокое крыльцо Бородиных. Старый лохматый пес, зло блестя зелеными глазами, захлебываясь, лаял сиплым басом.
— Здорово ночевали, — сказал Федор Петрович, первым входя в кухню Бородиных.
— Здравствуйте,— сдержанно ответил Семен Сазонович, сразу смекнувший, зачем пожаловали к нему неожиданные гости. — Проходите, садитесь, — кивнул он Михаилу Андреяновичу и Самсону Кирилловичу. На сноху, бледную, с низко повязанным платком, он даже не взглянул.
— Да рассиживаться-то нам некогда, — сказал Михаил Андреянович, становясь посредине комнаты. — В Совет поступило заявление.
— Садитесь, — еще раз настойчиво пригласил Семен Сазонович.
К столу подошли Михаил Андреянович, Федор Петрович и Самсон Кириллович. Они усаживались, тихо разговаривая между собой. Параня села на ступеньку возле русской печи.
— Зачем пожаловали, гости дорогие? — спросил Бородин, метнув взгляд на сноху и сразу гася усмешку.
— Так вот, значится… Право… От гражданки…— Михаил Андреянович на мгновение заколебался, думая про себя, как назвать ее — Бородиной или Донсковой. — Ну, одним словом, — он кашлянул, — сноха от вас уходит.
— Мы никого не держим. Пусть идет, — степенно сказал Семен Сазонович. — Это дело не наше. Она живет с сыном. Не поладили — могут разойтись. Теперь невольной бумаги нету. Договорятся, опять могут сойтись. Муж и жена — одна сатана.
— Да, но у вас тут ее именье.
— Сундука держать не будем. Пусть хоть сейчас берет. А больше нет у нас никакого тут именья.
— А три года она на вас работала за что? — спросил Федор Петрович. — Повадились на чужой шее кататься.
Семен Сазонович так же спокойно:
— У нас осталось именья — одни каменья… Ну, что тут ей может причитаться? — обратился он к Михаилу Андреяновичу. — Хлеб? Я его весь государству отдал. Скотину мы вместе прожили. Дом без нее наживали, без нее и проживаться будет. Имеет право насчет дома, пусть в народный суд подает.
— Так… Значит, и хлеба вы ей не дадите? — спросил Михаил Андреянович.
— Почему не дать? Мер пяток пшенички можно всыпать. Я человек — это всякий знает — не жадный. Сват напрасно так на меня говорит, — с чувством собственного достоинства и обидой в голосе произнес Семен Сазонович. — Пусть берет.
Михаил Андреянович, Донсков и Бородин начали обсуждать, что Параня должна получить при разделе. Федор Петрович несколько раз повышал голос, Самсон Кириллович мало принимал участия в этом разговоре. Поглаживая коротко подстриженные усы, он нет-нет да и поглядывал на молодую женщину, безучастно сидевшую с опущенными к полу глазами. Мало в ней осталось теперь от той девушки, какую он видел, когда приходил к Донсковым по поручению Алексея. Тонких побледневших губ больше не морщила радостная улыбка, в глазах не было той усмешки. И гордости былой не осталось ни в фигуре, ни в лице. «Да, видать, не сладко ей жилось, — подумал Самсон Кириллович. — Вот и у меня дочка растет. Выкормишь, выходишь, а потом какой-нибудь сукин сын будет издеваться… Ну, этого я не позволю. Советская власть — она правильно придумала… А жалко, очень жалко, такая была завидная девка, а теперь, как в тифу пролежала».
— А где же Дмитрий Семенович? — спросил председатель Совета.
— Не знаю, вышел куда-то, — скучно ответил Семен Сазонович. — Возможно, жену разыскивает.
В Грушках из дома в дом на крыльях перелетала новость:
— Параня-то ушла от Бородиных!
— Как же это она вздумала?
— Небось вздумаешь… Он, муженек-то, пьянствует день при дне, ни одной ночи дома не ночует. Вон Нюрочка Петруничкина хвалится: «Был, — говорит, — Митька мой и моим останется. Никуда от меня не уйдет».
— Говорят, Параньку Ястребов сманил?
— Может быть. У них ведь старая любовь. А так: кто из них не бьет нашу сестру, кто жене волос не расчешет? Кто не ходит к чужим бабам да водку не пьет? Все они на одну колодку.
— Нет, кума, не говори. Параня правильно сделала. А то женился, да издевается. Отошло их времечко. Ведь как раньше-то было? Один Савуня Хватыш сколько крови попил из своей жены.
Алексея новость смутила, но он старался успокоить себя. «А мне до нее какое дело? Давно из сердца выкинул. Женюсь на Машке Саломатиной и заживу своей семьей».
Марья Ивановна встревожилась больше сына. «Опять она стала Алеше поперек дороги! Ведь надо же было так случиться!»
Все валилось из рук Марьи Ивановны. За обедом она с веселым лицом сказала Алексею:
— Слыхал новость-то?
— Какую?
— Параня ушла от Бородиных.
— Слыхал.
— Ты как к этому? — Марья Ивановна испытующе взглянула сыну в лицо.
Алексей нахмурил брови, встал из-за стола и взволнованно заходил по комнате. Возмущенным, резким голосом он говорил:
— Что ты ко мне пристаешь с ней? Все пристают! Куда ни пойдешь, только и разговору. Какое мне до нее дело? Хоть десять Парань пусть уходит от мужей, мне-то что? Не мой воз, не мне везти!
Марья Ивановна смотрела на его покрасневшее от гнева лицо, слушала голос, а про себя думала: «Ой, сынок, неправду говоришь. Вижу, по сердцу тебе эта новость!»
Никогда еще со дня возвращения Алексея из армии Марья Ивановна не видела сына таким расстроенным и возбужденным.
Вечером Алексей спрашивал у Самсона Кирилловича:
— Правду говорят — ушла она?
— Я сам и раздельный акт подписывал.
— Знаешь, — смущенно сознался Алексей, — тут к этому делу меня приплетают. Говорят, будто я ее сманил. Конечно, рот никому не заткнешь…
— Нет, парень, — серьезно сказал Самсон Кириллович, — посмотрел я на нее… Совсем ей не до этого. Худая, бледная, глаза ввалились, невеселая… Она их и подымать-то стыдится. Что сделал, сукин сын, из девки! Какая была и какая стала! Половины не осталось, как после тифа.
Слушая Самсона Кирилловича, Алексей задумчиво глядел на белые облака, на деревья и скворечницы. Самсон Кириллович пошел к амбарам. Его бригада заканчивала сортировку семенного зерна. Алексей вздохнул и направился в другую сторону.
— Вот ты и опять женихом стал, — с усмешкой проговорил Семен Сазонович Дмитрию.
— Дело не хитрое.
Они сидели в горнице прямо на полу возле изразцовой голландской печи. Дмитрий время от времени подбрасывал в печь солому. Солома, вспыхивая, горела, тихо потрескивала. Семен Сазонович смотрел на пламя, на голубые вспышки, и в его глазах был виден пляшущий огонь. Старик сидел, подобрав под себя ноги, и наслаждался теплом. Лампы не зажигали. В два больших окна заглядывал еиний вечер, из широкого отверстия голландки падал неровный красноватый свет. Он освещал небольшой кусок крашеного пола с раструшенной соломой на нем, кровать и часть простенка. В свете пламени крупная неподвижная фигура старика казалась высеченной из камня.
По вечерам Бородин, оседлав очками нос, читал газеты в большой горнице. С ужасом видел он, что дело клонится к стопроцентной коллективизации. Сегодня разговорился с сыном. Даже не поверил сначала Дмитрий, что отец настроился говорить с ним мирно, как равный с равным. «Уж не подвох ли какой готовит?» — с опаской глядя на отца, думал он.
— Да, тут нужна осторожность да осторожность, — сказал Семен Сазонович. — Вот меня некоторые спрашивают: вступать или не вступать в колхоз? Я одним отвечаю: вступайте, другим, самым близким и неболтливым, так советую: над вами не каплет. Это мое дело такое — крутиться некуда, потому и прошусь в колхоз. А ты, Митрий, напьешься и в другой раз бываешь невоздержанный на язык. Надо ухо держать востро. Ни за что можешь пострадать.
— Да я и так стараюсь быть осторожным.
— Время сейчас такое. Народ, как пчелы перед дождем. Может и восстание вспыхнуть. Оружия по хуторам немало спрятано. И винтовочки будут, и пулеметы найдутся. Но надо быть очень осторожным.
— Может быть, еще и воевать придется?
— Все возможно… Плохо, что у нас председатель такой. Никакими справками от Мишуни Помазка не разживешься, а все может случиться. Знаешь, у меня как было? — Старик оглянулся, посмотрел на дверь, на окна, потом, понизив голос, стал рассказывать:
— Во время гражданской войны, недалече от Усть-Медведицкой, напали мы на красногвардейскую часть. Их было немного, напали врасплох, ну и… Короче, я в числе первых дорвался до пулемета, и мне за это дело лычку прибавили. Вахмистром стал. О моем отличьи приказ по полку вышел. Вот тогда я изадумался. «Кто его знает, — думаю, — чем вся эта музыка кончится? Как бы не пришлось за лычку эту раньше времени в гроб лечь». Дрался я и после этого случая с лютой ненавистью к красным, но старался меньше начальству на глаза попадаться. И так, между людьми, этаким простачком прикидывался. Разговорятся казаки, разбрешутся. Другой наговорит о себе бог знает что. Ему и во сне сроду этого не снилось, о чем он расскажет… А я не хвалюсь, отмалчиваюсь. Спросит кто, а я: «Ну, куда нам рыбу есть, мы и щербой (ухой) давимся». Пристанут — тогда скажу: «Мне бы скорей пахать да сеять, я человек мирный…» Кончилась война. Вот уже который год живем после этого, а я до сих пор душой неспокоен. Боюсь за эту проклятую лычку — как бы мне ее не прописали… Так-то, Митрий, надо быть осторожным.
— Да я и так помалкиваю.
Разговор прервался. Старик прикрыл веками глаза. В кухне, где хозяйничала старуха, слышны были ее тяжелые шаги. На улице — за двойными рамами — сгущалась синева.
— А все-таки, отец, давай подобру-поздорову уедем отсюда. Не жить нам тут по-человечески. Глядят на нас хуторяне, как не знаю на кого.
— Завидуют… Ты на это не обращай внимания. И отцу моему и мне всегда завидовали. Да так оно и ведется спокон веков: одни в жизни удачливы, а другие им завидуют. Кто умней да проворней, тот всегда наперед проберется. А кто зевает, тот воду хлебает. Так-то… А что ты меня в город тянешь? Чужая сторона — мачеха; тут мы ко всему привычные, а там мне, на старости лет, трудно привыкать к иной жизни. На хуторе — все под руками, все известно. Купил быков, перепродал и получай барыш. Я ведь, бывало, по базару пройду и сразу вижу, какая скотина где стоит и что она стоит.— Семен Сазонович не впервые говорил Дмитрию о торговле скотом, и всякий раз этот разговор у него получался очень живым. Видимо, его теперь томило вынужденное безделье, и он, хоть в разговоре, старался отвести душу.
— Смекалка! И я было начал разбираться, — сказал Дмитрий.
— Верный кусок хлеба,— подтвердил отец.— Да оно, кто умеет, и дело-то не такое уж хитрое. Поровней да покрупней быков поставь на бугорок, никто мимо не пройдет, каждому будут в глаза бросаться. Хорошую цену возьмешь. А поставь в лощину — за бесценок отдашь. И обмен… Хорошее дело — обмен. Глядишь, обносился человек, детишки, нуждишка. А в хозяйстве всегда чего-нибудь не хватает. И колеса нужны, и вожжи, и хомут. А там — дегтя нет, соли нет, гвоздей нет, спичек; там баба требует обновку. А проживать-то быков нельзя. Дашь такому человеку червонца два придачи, а возьмешь быков — рукой спины не достанешь. Он потом с этой додачей бьется в борозде, а мне что? И вот, поверь, пройдет вся эта история с колхозами, и опять, бог даст, возьмемся с тобой за торговлю. Эх, как зажили! Как во сне было все!— Семен Сазонович вздохнул, подержал руки вытянутыми к огню, потом снова опустил. — Важно ведь колесо закрутить. А потом пойдет: копейка к копейке, рубль к рублю, червонец к червонцу. Только брать умей… А что ты про город говоришь? С чего мы там жить начнем?
— Лошадей купили бы, а еще лучше — свой автомобиль.
— Еще чего? Денежки ухлопай, а потом зубы на полку? Нет, не согласен. Тут немного переждем, и опять жизнь наладится. А поедем, денежки проживем, и — яко наг, яко благ, яко нет ничего… Ты пойми, не вечно будет такая жизнь, как сейчас. Не может так продолжаться. Что в других странах глупей нас, что ли? А ведь там никто этих дуростей не устраивает. Каждый завод, каждая фабрика своего хозяина имеет. Без хозяина товар плачет, без хозяина дом сирота.
— Но дышать становится нечем,— не сдержался Дмитрий. Он со злобой бросил в голландку пучок соломы.
— А ты поскромней держи себя. Знаешь, Митрий, из своего гнезда летать да по чужим квартирам скитаться тяжело.
— Это правда.
— То-то, парень. У нас тут дом в три комнаты, мы сами хозяева. А там снимешь комнатушку, негде повернуться. Знаешь, как с хозяевами жить? То не там положил, то не там поставил.
— Верно.
— Небо с овчинку покажется… В городе не будешь иметь своего огорода, не пойдешь в сад за вольной вишенкой да яблоками. За картошку — деньги, за морковку — деньги, за капусту — деньги, за каждое семечко — деньги. Яблочка там вольного не покушаешь, арбузика — тоже самое. А тут живем — корова-ведерница. И все не с купли.
— Серьезно подумаешь — оно правда.
— То-то. Я в другой раз ночь не сплю. Вижу, и тут жить становится туго, и там хорошего чуть. Глупая птица своего гнезда не вьет. Всякое дерево в своем лесу шумит.
Пламя голландки совсем ослабло. Еле различима фигура старика. Дмитрий вздохнул, еще подбросил соломы, помешал кочергой. Снова из темноты выступили простенок и кровать.
Молчали долго, потом старик опять заговорил:
— Газеты мы с тобой получаем, люди грамотные, не глупее других, знаем, чего эти добиваются. Но ведь палка-то о двух концах. Тоже и у них есть коммунисты умные, не чета Мишуне да Алешечке Ястребову, по-другому гутарят. Итак, давай с тобой рассуждать: что они могут нам сделать? Все богатство наше можно в один карман сложить. Червонцам да золоту немного места надо. А нам лишь бы эту страсть пережить…
Перед тем, как ложиться спать, Семен Сазонович вышел во двор.
Будто протертый снегом взошел месяц. Вспыхнули крупные звезды. Видно как днем. Семен Сазонович сходил в конюшню. Когда нес чистое пырьевое сено, лошадь тихо заржала, блестя в темноте глазами, затем припала к корму и, фыркая, начала есть. Он заглянул и на бычиный баз. Здесь на свежей подстилке лежало только два быка. Всего года полтора назад их было тут шесть-семь пар… Быки шумно сопели, громко пережевывая солому, перемешанную с сеном. Семен Сазонович вышел на широкий двор к старому колодцу. Остановился у высокого журавля. Из колодца давно уже не брали воду для питья.
«Весной надо будет прочистить», — подумал он.
Слабый, прерывающийся ветерок донес издалека скрип саней и лай собак. На улице за воротами послышались чьи-то шаги. Хрустит снег. Несколько человек, идущих мимо, негромко разговаривают. «Из Совета… Когда они только наговорятся?» — с ненавистью подумал Семен Сазонович. Он ближе подошел к воротам и прислушался.
— Мы с ним завтра разделаемся, — сказал знакомый голос.
— Хватит, покатались на нашей шее, — проговорил другой, тоже знакомый голос. — Их, гадов, нужно прямо на постели застать.
Третий, молодой басок, сказал:
— Помолчите. Не в горнице разгутарились.
«Это Алешка Ястребов,— подумал Семен Сазонович.— Куда это они завтра собираются? С кем разделаться?»
В дом он вернулся встревоженным. Семен Сазонович знал, что заснуть теперь не сможет. Несколько раз он прошелся по горнице, затем направился в угловую комнату. Дмитрий на двуспальной кровати уже похрапывал.
— Митька,— тихо сказал Семен Сазонович.— Митька! — повторил он громче, и, взяв за плечо сына, начал его трясти.— Митька, черт паршивый, вставай!
— А-а? Что? — приподнялся тот на локти, не понимая, в чем дело.
— Вставай, парень, беда!
Немного погодя они рядом сидели на кровати.
— Что у них за собрание нынче, не слыхал? — спросил Семен Сазонович.
— Да опять беднота заседала. Наверно, насчет колхоза что-нибудь.
Семен Сазонович рассказал сыну, что он слышал возле своих ворот.
— Надо у кого-нибудь узнать, — добавил он. — У меня что-то душа заболела.
— Завтра узнаем.
— Нет, узнать нынче нужно. Завтра, может, будет поздно. Вот что, Митрий, сходи к своему дружку Прокофью, а я пойду к Потапу. Ведь он родственник нам. Сколько лет-годов жил с нами за семьянина. Рассчитались мы с ним — все честь-честью, наградили щедро. Неужели не скажет? Хоть и бирюк, а скажет.
И десяти минут не прошло, как Семен Сазонович и Дмитрий вышли из ворот. Дмитрий спешил в заеричную часть, Семен Сазонович — в другой конец хутора.
Давненько он не бывал в доме своего дальнего родственника Потапа. При слабом свете спички прошел через темный чулан. В дверях хаты, обитых каким-то тряпьем, нащупал холодную скобу.
Потап сидел за столом и ужинал. Его жена, худенькая маленькая старушонка, с болезненным, морщинистым лицом, стояла зевая и крестя рот. При виде Семена Сазоновича, вошедшего в такой неурочный час, на рябом и угрюмом лице Потапа появилось подобие улыбки.
— Доброго здоровьица! — сказал как можно приветливей Семен Сазонович, снимая треух.
— Слава богу,— ответила старуха. С испугом и изумлением она посмотрела на Бородина, потом на мужа.
Семен Сазонович большим носовым платком смахнул пот с лица, прошел вперед и сел на лавку рядом с хозяином.
— Иду мимо,— наигранно веселым беспечным голосом заговорил он,— вижу огонек. Дай, думаю, загляну к родственникам, посмотрю, как они живут, а то за делами все некогда… Человек-то ведь такой, ему до самой смерти все некогда и некогда.— Семен Сазонович окинул взором внутренность маленького скособочившегося куреня с перекошенными полуслепыми окнами, с большой неуютной печью. Даже при слабом свете лампы нищета выглядывала из каждого угла. Пол земляной. На деревянной кровати — лохмотья изношенной шубы и самотканого зипуна. На печи — три мальчишеские кудлатые головы-— внуки Потапа, сиротки. Под ними вместо подушек какие-то тряпки. На жене Потапа — кофтенка с заплатами, юбка из серой мешковины. Сам Потап — в старой полинявшей рубашке. Ворот расстегнут, на шее — медный потемневший крест и черный лоснящийся гайтан.
— Ты что же, и не зайдешь к нам? — обратился Семен Сазонович к Потапу.— Свои люди. Грех от своих отказываться.
— Заходить-то незачем,— басом ответил Потап.
— Ну, знаешь, хоть бы в праздничек когда зашел,— Семен Сазонович попытался завязать разговор, но Потап молчал. Молчала и его жена. Как в рот воды набрали.
— Ведь мы когда-то в одной семье жили,— продолжал Семен Сазонович.— И позже ни одной свадьбы, ни одного годового праздника не встречали врозь.
— Ты зачем пришел-то? Говори напрямик. Я не умею гутарить,— отрезал Потап, мрачно взглянув на Бородина угольно-черными цыганскими глазами.
Семен Сазонович смущенно заерзал, достал кисет и закурил. Хозяин хранил молчание.
— Я к тебе по делу… Ты был нынче на собрании? — спросил наконец гость, чувствуя, что кровь бросилась ему в лицо.
— Ага, вот ты зачем!— Потап гулко захохотал.
Семен Сазонович испуганно смотрел на него. Около двадцати лет прожил Потап в работниках у Бородиных, и никогда хозяин не слышал от него такого смеха. Теперь этот смех не столько удивил, сколько испугал Семена Сазоновича.
— Хочешь, чтобы я тебе рассказал? — язвительно спросил Потап.
— Потапушка, знаешь, мы… Да ведь разве…
— Нечего мне говорить! — громко сказал Потап вставая. Длинным и толстым узловатым пальцем он указал на икону, висевшую в переднем углу. — Вот тебе бог,— затем выразительно показал на дверь,— а вот — порог. Хватит, поработал на тебя, паразита!
Семен Сазонович не помнил, как дошел до дому. Сидя у себя в горнице за столом, перед ярко горящей лампой «молнией», он думал: «Выгнал… Кто выгнал-то? Мой бывший работник прогнал! Значит, правда, последние времена приходят. Что еще сын хорошего принесет?»
Ждать ему пришлось недолго.
— Пропали мы! — сказал, входя, Дмитрий. В его зеленоватых глазах с бегающими зрачками — крайняя растерянность.— Утром нас раскулачивать будут. Шесть дворов на хуторе…
— Раскулачивать? Нас?
Ни Дмитрий, ни Семен Сазонович совсем не понимали, что значит «раскулачивать», но каждый из них чувствовал: неумолимо надвигающееся утро внесет какую-то страшную перемену в их жизнь.
— Я говорил, надо уезжать, — упрекнул отца Дмитрий.— Не послушались меня, вот и дождались!
Оба надолго замолчали. Было слышно, как потрескивает фитиль лампы.
— Давай запрягать, — предложил Дмитрий.— Уедем на станцию, а там махнем в какой-нибудь город. Мать потом выручим.
— Глупый… Куда же мы без документов? Нас, как цыплят, заберут.
— Справки добудем.
— Арестуют и деньги отберут… Лучше давай подождем. Не мы одни кулаки. По району много найдется. Не свалят же нас в яр…
На этом и порешили.
Семен Сазонович разбудил жену. Бородины не знали, за что взяться. Только перед самым утром погасили свет. Но никто из семьи не заснул.
И вот началось это утро.
Золотилась холодная заря. Натоптанные дороги были скованы морозом. Снега лиловели, будто горели в огне. На деревьях висел иней.
Семен Сазонович первым увидел людей, приближающихся к его куреню.
— Идут, — сказал он бледнея.
К стеклу прильнули Дмитрий и Трофимовна.
— К нам завернули…
Во дворе залаял старый Полкан. Множество ног застучало на крыльце. Голоса и смех донесло в комнату. Вот — топот уже в сенях. Семен Сазонович и Дмитрий в замешательстве стали возле стола. И у того, и у другого дрожали руки. Черные стрельчатые брови Дмитрия были высоко подняты и словно застыли в изумлении.
Первым вошел Алексей Ястребов, за ним — Самсон Кириллович и веснушчатый Тихон Кукушкин, а там — и Потап, и еще несколько колхозников и единоличников. Среди других Семен Сазонович увидел и Хватышова.
Алексей снял буденовку, поздоровался, по-хозяйски смело прошел к столу и, не ожидая приглашения, сел на новый венский стул. Все это отметил про себя наблюдавший за ним Семен Сазонович. «Каков сукин сын,— думал он,— не хочет считаться с хозяином».
Шумно рассаживались и другие, гремя отодвигаемыми стульями. Тихон Кукушкин поглядел так, словно собирался рассказать что-то веселое, задорное. Трофимовна, хлопотавшая у печи, отставила чапельник и с ужасом смотрела на рассевшихся хуторян, на оробело стоящих мужа и сына. Гости все сидели, а хозяева стояли.
— Ну что же, садитесь, — проговорил Алексей, обежав глазами лица хозяев. Он коротко рассказал о цели прихода и тут же обратился к Самсону Кирилловичу.
— Приступайте к описи имущества.
— Товарищи, да это у вас ошибка получилась, — слезливо заговорил Семен Сазонович, глядя испуганными глазами на Алексея.— Вы подождите тревожить мое семейство.
— Что, не нравится?! — глухим голосом спросил его Потап.— Ты нынче ночью ко мне в гости приходил? А теперь я пришел к тебе.
— Да что с ними разговаривать, Алексей Петрович! — гневно сказал Хватышов.— Всегда он был кровососом. Я давно его знаю. У них вся порода такая.
— Ты! Воряга! Конокрад! Жулик! — не выдержав, закричал Семен Сазонович. — И ты туда же?!
— Будьте свидетелями! Он оскорбляет мое человеческое достоинство! — и вдруг Хватышов грозно закричал: — Ты, кулацкая морда, поговори мне еще!
— Ну, вы потише, — сказал Алексей Семену Сазоновичу.— А вы, гражданин… Савелий Андреевич, — обратился он к Хватышову, — мы вас не приглашали с собой. Ежели пришли, то держите себя в рамках.
— Мы наживали-наживали, — запричитала Трофимовна, — а вы на готовенькое пришли и выбрасываете нас, как щенят, на мороз. Разве это по-людски?
— Цыц! — громко крикнул на нее Семен Сазонович.— Вы извините ее, — сказал он, обращаясь к Алексею.— Это она по темноте своей, по необразованности… Тут надо разобраться, какой я кулак…
— Наш Николай работал на вас? — спросил Алексей.— А Потап на вас половину своей жизни хребет ломал? А спекуляцией вы занимались? О чем может быть разговор?
— Извините… Все это было. Но теперь я сам чуть не нищий. У меня одна паренка быков осталась, одна лошаденка, одна коровенка… Зачем вы меня кулачите? Ведь я маломощный середняк. Я сам хочу в колхоз вступить. Я сам намедни третье заявление в правление колхоза передал. Нужен вам мой дом — возьмите. Быков, корову, лошадь, овец — все забирайте. Мне дайте какую-нибудь кухненку, лишь бы боком в нее влезть…
Самсон Кириллович и двое колхозников в соседней комнате громко перечисляли вещи, переписывая имущество Бородиных, а Семен Сазонович продолжал говорить:
— Дорогой Алексей Петрович, войдите в наше положение. Ведь я когда-то с твоим отцом хлеб-соль водил…
— Ну, это к делу не относится.
— Оно, конечно, вы теперь с братом ученые стали, но ведь и нам-то, неучам, жить хочется.
— А вас никто не лишает жизни… На новом месте будете заниматься честным трудом, а не эксплуатацией человека. А здесь вы мешаете нам строить новую жизнь.
— Ха! Новую жизнь! Замолчи, отец, не унижайся больше! — что-то словно сорвало Дмитрия с места. Он близко подошел к Алексею и, уставившись на него, злобно, с перекошенным лицом, выкрикнул: — Сманил от меня жену!
— Я ее не манил.
— Не манил! Знаю, как ты ее не манил! А теперь нас пришел разорять? Это тебе даром не пройдет, попомни мое слово.
— Ну, знаешь, не грози мне… Я не из пугливых. Я всегда сумею разделаться с врагами Советской власти. У меня на них рука не дрогнет. Я счастлив, что дожил до такого дня… Самых злостных врагов мне приходится раскулачивать.
Тихо, сквозь зубы, чтобы слышал только один Алексей, Дмитрий проговорил:
— Жалко, что мы не убили тебя тогда. Да и покалечили мало.
Лицо Алексея вспыхнуло, резче обозначились скулы. Он жестко сказал в ответ:
— Я всегда знал, что это дело твоих рук. Вот теперь и получай сполна за все сразу.
— Подожди, еще слезами умоешься, — пообещал Дмитрий.— Э, да что с тобой говорить! — Он круто повернулся и, не одевая шапки, выбежал во двор.
Часа за полтора опись имущества закончили.
К вечеру в дом Бородиных было переведено правление колхоза. Угловую комнату отвели под кабинет Василия Марковича — он уже три года председательствовал в сельскохозяйственной артели.
Семен Сазонович с женой временно поселился у родного брата, Павла Сазоновича, а Дмитрий как в воду канул. После спора с Алексеем о нем не было ни слуху ни духу.
Семен Сазонович за какие-нибудь пятнадцать часов постарел на целое десятилетие.
У брата было тесно. Его семья жила в двух комнатах. Семену Сазоновичу с женой постелили в хате на полу. Хозяева дали им полсть и подушку. Трофимовна повздыхала, повздыхала и заснула. Семен Сазонович лежал, не открывая глаз, до вторых петухов. Потом встал, оделся и вышел во двор. Долго стоял у ворот, прислушивался. Хутор будто вымер. Низко бродили светло-серые облака. Сквозь них тускло пробивался свет месяца.
«Что это у меня поясницу ломит? Не иначе, к непогоде»,— подумал он. Захватив лопату, Семен Сазонович вышел за калитку и направился к куреню, в котором прожил всю жизнь.
Темными глыбами казались спящие дома, сараи, хлевы, амбары. Не доходя до куреня, принадлежавшего ему еще вчера, он, прислушиваясь и озираясь, завернул на гумно. Вот и знакомый прикладок сена. В десяти шагах от него зарыты деньги. Старик заторопился, засеменил, перешел на бег и вдруг увидел неглубокую, свежевырытую яму, а возле, на снегу, чугунок и сковородку…
Денег не было.
«Митрий! — сказал про себя Семен Сазонович с ужасом, почувствовав небывалую тяжесть во всем теле.— Вот уж когда я нищий!»
Возле своей новой квартиры он встретился с Хватышовым.
— Семен Сазонович! — тихо окликнул его Хватышов.— Ты не обижайся на меня. Это я для нашего дела ругал тебя. А у самого сердце кровью обливалось…
Бородин остановился.
— Для нашего дела?
— Ну, конечно, чтобы подозрения не было. Уговор-то наш не забыл?
— Нет, — ответил Семен Сазонович.
…Теперь Савелий Андреевич находил, что настало самое удобное время для того страшного дела, о котором он давно мечтал, — подозрение пало бы на кулаков. Хватышов видел, как встревожены сейчас люди на хуторах. О том, что здесь возможно восстание, еще недавно ему намекнул и Семен Сазонович. Рассчитывая на переворот, Хватышов надеялся задуманным «делом» выдвинуть себя и при новом режиме пробить «кальеру».
Больше всех на хуторе Грушки в эти дни работал Василий Маркович. Он лучше других понимал значение коллективизации для крестьянства. Несколько лет назад даже он шел в колхоз не без колебаний, хотя на хуторе никто и не подозревал об этом. Зато теперь Василий Маркович не сомневался, что избрал правильный путь. Мысль, что з эти дни навсегда решается судьба хуторян, он старался внушать и коммунистам и комсомольцам. Василий Маркович зазывал в правление артели или в хуторской Совет еще не вошедших в колхоз казаков, сам заходил в дома единоличников. Многие на хуторе считали за честь поговорить с Василием Марковичем, обратить на себя его внимание. Он всегда был окружен людьми. Даже самые последние грубияны в присутствии Кострова невольно подтягивались, старались не допустить «черного» слова.
— Учить бы его, был бы профессором, — говорили о нем те казаки, которые хоть краешком уха слышали, что профессора — люди с большими знаниями.
Он был председателем колхоза, секретарем партийной ячейки, заместителем председателя хуторского Совета. Трудно было сказать, когда он спал. Чуть свет его уже видели в правлении. По вечерам, до глубокой ночи, — заседания, совещания.
За последние два года Василий Маркович заметно похудел и постарел. Волосы на голове, особенно на висках, стали совсем белые. Больше прорезалось морщин. Поседела и аккуратно подстриженная бородка, только темных усов не тронула седина. Но улыбка была все та же — покоряющая улыбка умного человека. Глаза по-прежнему смотрели молодо, пытливо. Обилие дел будто прибавило огня в глазах Кострова. Ходил он быстро, говорил горячо, но спорил сдержанно. И чем больше горячился его собеседник, тем неторопливей становилась речь Василия Марковича.
Анна Петровна, высокая, худощавая, хорошо сохранившаяся русоволосая женщина, была на полголовы выше мужа и казалась строже его, но относилась к Василию Марковичу с любовью и уважением.
Зачастую бывает: когда муж и жена живут дружно много лет, в их характерах появляется что-то общее. Даже внешне они какими-то неуловимыми чертами начинают напоминать друг друга. Это чувствуется и в тоне их голосов, и в манере разговаривать, и в жестах, и в мимике. Иногда даже мысли у них становятся схожими.
Такое сходство и было заметно между Костровыми.
Анна Петровна при посторонних непременно называла мужа по имени-отчеству, выказывая почет, как и все хуторяне. Она прожила с ним больше сорока лет, и никогда Василий Маркович не обидел, не оскорбил ее.
— Добро тебе с таким мужем,— говорили ей подруги.— Твой Василий Маркович пальцем не тронет, а тут живешь, только что за ребро не подвешивают…
Теперь Анна Петровна стала жаловаться соседкам: — Забывает исть мой Василий Маркович. Не знаю, что с ним делать.
В это утро Кострова разбудили часов в пять.
— Там какой-то уполномоченный приехал. Сердитый. Требует в правление,— сказал дежурный, паренек лет шестнадцати.
Василий Маркович быстро оделся. В правлении колхоза он застал человека со строгими, требовательными глазами. Одет он был в полувоенный шерстяной костюм защитного цвета. Это был Степанюк, приехавший на хутор по уполномочию окружного комитета партии.
— Вы предколхоза? — спросил он резким голосом. Василий Маркович, не торопясь, сел на стул и ответил:
— Да, я председатель колхоза.
— И секретарь партячейки?
— И секретарь партийной ячейки. Разрешите познакомиться с вашими документами?
Минут через пять Степанюк спрашивал:
— Какой у вас процент коллективизации?
— Из ста двадцати трех дворов в колхозе пока шестьдесят один.
— Безобразие! — закричал Степанюк и поднялся со стула.— Ждете, когда вам «хвоста» наломают? Не идут в колхоз — раскулачивайте!
Василий Маркович побледнел. До сих пор никто с ним так не разговаривал; однако он сдержался и, ничем не выдав своего волнения, спокойно возразил:
— Середняка мы не имеем права раскулачивать. И не будем.
— Переведите в группу кулаков и раскулачивайте!— кричал Степанюк.
— Этого мы делать не будем,— тихо повторил Василий Маркович.
— А я как уполномоченный окружного комитета партии даю вам указание. Понятно?
— Какое указание?
— Коллективизацию провести на сто процентов. Еще раз пересмотреть списки середняков. Понимаете?
— Не понимаю, — опять же спокойно возразил Костров.
— Срочно созовите общее собрание граждан вашего хутора. Я сам поговорю с народом. У меня они сразу в колхоз войдут…
— Знаете что, товарищ уполномоченный,— сказал Василий Маркович вставая,— меня срочно вызывают в райком партии. Вечером я вернусь, тогда проведем собрание. Да и вам надо отдохнуть с дороги.
— Верно, я не спал. Но вечером поговорим, и, будьте уверены, они пойдут в колхоз… Ну что ж, поезжайте. Да скажите товарищу Завьялову, что я уже приступил к работе.
— Непременно скажу…
Перед отъездом в Суходольскую Василий Маркович наказал Михаилу Андреяновичу:
— Не вздумай тут с ним проводить собрание! Он натворит всяких дел и уедет, а нам потом расхлебывай.
— Поезжайте, Василий Маркович, могете быть спокойны,— сказал Михаил Андреянович.
На хуторе все друг друга называли на «ты», но в разговоре с Василием Макаровичем каждый непременно переходил на «вы».
В первом часу ночи Василий Маркович возвращался из Суходольской. Поездкой своей он был доволен. Завьялов подробно расспросил его о настроении хуторян. Выслушав рассказ Кострова о том, как на хуторе Грушки ведет себя уполномоченный, он, серьезно глядя на Василия Марковича, пощипывая бородку, сказал:
— Зеленый еще, студент он… Боится, что его слушать не будут, вот и нагоняет жару. Ну ничего, этого «героя» мы отзовем. Передайте ему, что, дескать, секретарь райкома очень нуждается в его помощи. А середняка не раскулачивать, а убеждать надо. Кое-кто у нас в районе грешен. Сложное дело… Тут и более опытные перегибают. Но действительно надо коллективизацией охватить всех.
— Трудно.
— Знаю, что нелегко. Найдите способы убеждать людей. Действуйте. Желаю успеха! — Он крепко пожал на прощанье руку Кострова.
Со двора райкома Василий Маркович выехал, сразу переводя лошадь на рысь. Ночь хорошая, звездная, дорога накатанная. Цокают подкованные копыта. Легко катятся, поскрипывая, сани. Дышится Василию Марковичу свободно.
Словно помолодел он в степи, совсем не чувствует старости.
Ветер тихий, прерывающийся. В степи — никого. Впереди равнина с черными вешками над дорогой, с одинокими кустиками бурьяна.
Мысленно Василий Маркович перебирает хуторян-единоличников, соображая, кого и какими доводами можно убедить, чтобы вступали в колхоз.
Лошадь рысью спускалась в ложок и тревожно косила глазом на чернеющий сбочь дороги кустарник. Внезапно она остановилась, и уши ее задвигались. Продолжая думать о своем, Костров прикрикнул на лошадь:
— Но, чего ты!
Подпрыгивая на кочках, сани быстро скатились в ложок. В гору лошадь пошла медленным шагом. Вдруг что-то ухнуло, и чем-то тяжелым, как бревном, и горячим ударило Василия Марковича в спину. Он качнулся вперед и откинулся. Лошадь испуганно рванулась и вскачь понесла сани в гору.
А в ложбине из кустов вышел человек в башлыке, с обрезом. Настороженно оглянувшись вокруг, он постоял с минуту и снова скрылся в кустах.
Когда Василия Марковича внесли в дом, Анна Петровна потеряла сознание. Соседка, кума, заголосила на весь хутор. Звонкий голос ее взбудоражил хуторян. В домах засветились лампы. Многие выбегали на улицу, на ходу одеваясь. Кто-то надрывно кричал: — Василия Марковича убили!
В пятистенку председателя колхоза повалил народ. У крыльца и у палисадника говорили вполголоса. Кое-кто пробирался в дом.
— Ну как? — шепотом спрашивали у Михаила Андреяновича осторожно входившие в хату мужчины и женщины.
— Живой,— отвечал Михаил Андреянович.— Алексей Ястребов на станцию за доктором поехал.
— Ничего не сказал, кто его?
— В бессознательности, в жару…
Едва кто-нибудь сходил с высокого крыльца, как его сейчас же обступали:
— Ну что?
— Митюнина работа! — высказал кто-то догадку.
— Надо искать его! Небось у Нюрочки Петруничкиной спасается. Там его и накрыть!
Кукушкин и еще два комсомольца отделились от толпы и скрылись за углом дома.
Нюрочка Петруничкина жила в небольшой покосившейся хатенке со старухой матерью и трехлетним сыном. Она давно стала хозяйкой избы, взяв верх над матерью. В последние годы, когда Дмитрий Бородин заходил сюда, старуха уже не ругалась, если чернобровый сынишка ласкался к отцу, на которого был очень похож.
— Чистый Митюнин портрет,— удивленно говорили соседки.— Бровь в бровь, глаз в глаз!
Нюра любила Дмитрия и прощала ему непостоянство.
Только с ним забывала она о недостатках в дому. Да и кроме всего прочего, с ним ее связывал ребенок. Плохой или хороший Дмитрий отец, а все-таки он отец, хоть и не официальный. Глядишь, денег принесет десятку-другую, даст на рубашонку или на брючонки. А после того, как от Бородиных ушла Параня, Нюра совсем развеселилась: «Может, еще жить будем с ним, как живут добрые люди». Эта мысль окрылила ее.
И вдруг, как в страшной сказке, все кончилось в один миг: Бородиных раскулачили.
Когда Нюра услышала страшную весть, что Дмитрий стрелял в Василия Марковича, она прибежала домой и, боясь темноты, зажгла лампу.
Еще осенью вступила Петруничкина в колхоз. Ее, как беднячку, встретили тепло, Василий Маркович и прежде хорошо относился к ней. В своем положении она не могла не дорожить этим.
«Да как же это могло случиться? Стрелять в Василия Марковича!» — говорила она с собой. Вдруг кто-то постучал в дверь. «Если он — не пущу!»
— Кто там? — спросила она.
— Отвори!— требовательным голосом сказал Кукушкин.
И комсомольцы вошли в хату вслед за клубами белого пара.
— Вот ходим со двора на двор, Дмитрия Бородина ищем. Не знаешь ли, где он спасается? — строго спросил Кукушкин.
— А вы что же это, пошли на трактористов учиться, а попали в милиционеры? — едко спросила Петруничкина.
— Слушай, Нюра…— голос Кукушкина перехватило волнение,— ты знаешь, какое у нас горе?
— У вас горе, а у меня, может, вдвое!— глаза молодой женщины сразу наполнились слезами. — До чего я дожила!
Кукушкин понял, что Дмитрия здесь нет.
Утром приехали прокурор, сотрудник ГПУ и секретарь райкома партии Завьялов.
Михаил Андреянович, постаревший за эти несколько часов, небритый, сутулясь, часто дергая головой — сказывалась давняя контузия,— быстро ходил по своему кабинетику.
— Товарищ прокурор,— говорил он, обращаясь к человеку в роговых очках.— Это их дело. Теперь бы поставить всех кулаков к стенке! Кабы моя воля — ни одного не выпустил бы живым!
— Вы лучше помогите мне найти виновников.
— Все они бандиты!
Вошел Алексей.
— Ну что говорит доктор? — спросил Михаил Андреянович, сразу меняя голос и глядя в глаза Ястребова с надеждой и тревогой.
Алексей молчал, но глаза его, выражение лица, все уже сказали председателю Совета.
День похорон Василия Марковича был теплым, с сосулек падали мерные капели.
За гробом медленно двигались хуторяне. Духовой оркестр, присланный шефами-железнодорожниками, играл «Похоронный марш». Влажный южный ветер шевелил волосы на обнаженных головах мужчин, на лица падал и таял снежок. На гробе он не таял. Красный гроб, обрамленный черными лентами, и белый снег…
На кладбище, среди тесно столпившихся крестов и деревьев, уже приготовлена глубокая яма. Четыре казака опустили гроб на свежую и уже заснеженную землю, у края могилы. С короткими речами выступили Завьялов, учительница Анастасия Алексеевна и Михаил Андреянович. Потом гроб опустили в яму и зарыли. На холмик падали снежинки.
Расходились с кладбища медленно, группами и поодиночке, говорили полушепотом.
Алексей не пошел домой. Его охватила такая тоска, что не хотелось видеть людей, слышать голоса. Он пошел по льду на ту сторону Безымянки, вышел в степь и там, километрах в трех от хутора, сел на большой камень-валун. В страшной тоске он долго сидел без движения, следя грустными глазами за переменами, что совершались в природе.
Снег перестал идти. Потянулись темно-серые облака. Между облаками кое-где по-весеннему голубело небо. Вот стало садиться солнце, большое, красное, негреющее. А потом погасли и последние лучи… День умер. У Алексея громче застучало сердце. Он вдруг понял, что больше никогда не увидит Василия Марковича. И впервые за много лет заплакал, задыхаясь, тоскуя, припал к холодному, покрытому снегом камню.
Никто не видел слез Алексея.
Когда на суживающиеся дали легла ночная синева и между облаками вспыхнули звезды, Алексей встал и пошел, по целинному неглубокому снегу к дому.
На зверином положении оказался Дмитрий Бородин после того, как бежал с хутора. Глубокой ночью, с золотом и червонцами, рассованными по карманам, боясь встретить кого-нибудь из знакомых и злясь на яркий лунный свет, он глухими переулками направился к шляху. Два раза на него набрасывались собаки, и он молча отмахивался от них вынутым из плетня колом.
Но вот наконец перед ним шлях. Дмитрий вылез из сугроба и, распахнув отяжелевшее пальто, впервые перевел дух. Главная опасность миновала: никто из хуторян его не увидал.
Дмитрий долго смотрел на беспорядочно разбросанный, темнеющий, без единого огня хутор и с горечью думал, что с Грушками все кончено. Надолго ли? Колхозы — пустая затея, из них ничего не выйдет, они развалятся, и жизнь войдет в старую колею. Но вернется ли он сюда? Если скоро начнется война — а что в случае войны большевикам будет крышка, он не сомневался,— тогда он, безусловно, вернется. И самую лютую казнь придумает Алексею Ястребову, его родичам и всем, кто защищал Советскую власть, поддерживал ее словом и делом!
Дмитрий посмотрел вперед. По обе стороны от шляха слюдой отливал снежный наст, на котором кое-где шевелились кустики бурьяна. Над дорогой чернели ветлы, шевелясь и наклоняясь, будто одинокие путники.
— Ну что же, на станцию? — сказал он себе. — А там в Ростов, к Вилкову.
И он зашагал крупным шагом по хорошо укатанной дороге, кое-где скользя, ощущая спиной и затылком ветер. Хотя он шел довольно быстро, но после недавнего бездорожья и сугробов чувствовал, что отдыхает.
Дмитрий злился сейчас на всех: на отца—за то, что тот не согласился с ним и они не переехали заблаговременно в город; на Алексея — за то, что тот пришел раскулачивать и при этом радовался горю Бородиных; на Советскую власть — за то, что она не давала возможности развернуться и жить в свое удовольствие.
Не будь Советской власти, Дмитрий стал бы казачьим офицером, пользовался бы почетом и уважением. А теперь? Из родного дома пришлось бежать. Идет, как преступник, озирается, боится встретиться с человеком, который вдруг узнает в нем раскулаченного и может донести в милицию. Был он зол и на хуторян. Вот он идет, а они спят в теплых постелях. А завтра и его самого и его отца подымут на смех. «Вот,— скажут,— дураки были, какой дом нажили, какое подворье обстроили, скот чистых кровей развели, а их взяли да и вытряхнули на улицу голенькими вместе с потрохами. Все пошло прахом».
— Это у вас все рассыплется прахом! — зло сказал Дмитрий.— Не пойдет вам впрок наше добро, подавитесь! Как были вы нищими, так нищими и останетесь.
При мысли о доме он вспомнил, что взял деньги, нажитые отцом. Нехорошо? Дмитрий старался успокоить себя тем, что он устроится где-то и сумеет забрать к себе отца и мать. Но в глубине души он сам не верил этому. Думать о червонцах и золоте не хотелось, мысли эти были неприятны ему, и он старался поскорее отвлечься. «Вот приеду в Ростов, — думал Дмитрий, — Вилков поможет обзавестись документами, устроюсь на работу. А дальше жизнь сама покажет, как действовать. Все равно верх будет наш не нынче, так завтра».
Он шел, опасаясь погони, прислушиваясь к своим шагам и к безмолвию ночи, вглядывался в степь, отливающую холодным блеском. Ему чудилось, что кто-то едет позади, кто-то — навстречу. Когда он увидел издалека встречную подзоду, то, свернув в бурьян, сделал себе яму в снегу и пролежал там до тех пор, пока подвода не скрылась из виду.
Но вот луна зашла, зачернели гумна, за которыми начиналась станица, с железной дороги донесло рев маневрового паровоза, запели петухи. «Вторые кочета»,— определил Дмитрий.
И вдруг он услышал цокот подков.
«За мной!» — Дмитрий бросился к плетню ближайшего гумна, задыхаясь, перелез через него и упал, сразу хватаясь за ручку большого кухонного ножа, которым выкапывал сегодня деньги.
По голосам разговаривающих Дмитрий определил, что проехал милицейский патруль.
«Пропал бы я!» — с ужасом подумал он.
Но цокот подков смолк, Дмитрий облегченно вздохнул, осторожно перелез через плетень и, свернув в сторону от шляха, быстро, насколько позволяли силы, направился к станции.
На станцию пришел под утро. В зале первого класса как раз шла проверка документов. Дмитрий с замирающим сердцем смотрел на милиционеров. Вот один, как ему показалось, пошел прямо к нему. Дмитрий, чтобы не выдать своего волнения, отвернулся, и милиционер прошел мимо. За широким окном по второму пути шел замедленным ходом товарный поезд. «Была не была!» — Дмитрий бросился к товарному. Ему казалось, что за ним бегут милиционеры, и он на ходу вскочил на тормозную площадку. Так он добрался до следующей большой станции, где купил билет до Ростова.
Студент Карабачинский вызвал к себе Валкова по срочному делу.
— Ну на что это похоже! — возмутился Карабачинский.— Дал мой адрес какому-то подозрительному типу… Пришел как домой и сразу завалился спать. У нас здесь не постоялый двор. А вдруг заинтересуется дворник? Сам знаешь, какое сейчас время! Чего ради попадать в неприятное положение?
— Да он говорил что-нибудь?
— Сказал, что срочное дело есть к тебе.
Втягивая голову в плечи, осторожными, крадущимися шагами Никита направился в комнату, где спал Дмитрий. Спал он, видимо, очень беспокойно, потому что проснулся тотчас же, как только Никита стал смотреть на него. Дмитрий поднял голову, с недоумением переводил взгляд со стола, на котором стоял радиоприемник, на кресла и на Никиту, голова которого была втянута в плечи, а лицо улыбалось. Свет в комнате был мягкий, успокаивающий. Когда Дмитрий понял, кто перед ним стоит и так дружелюбно улыбается, он, было, совсем успокоился.
— Это ты, оказывается, здесь? — сказал Никита, садясь рядом с диваном в кресло.
Дмитрии опустил на пол босые ноги. С любопытством и надеждой глядя на Никиту, он старался поймать неуловимый взгляд его маленьких беспокойных глаз.
«Нет, не рад он моему приезду». — подумал Дмитрий, понимая, каким безвыходным становится его положение.
«Зачем это он пожаловал?» — в свою очередь тревожно думал Никита.
«Нет, он мне не поможет»,— все больше тревожился Бородин.
Безмолвный разговор сказал больше тому и другому, чем последовавшие затем фразы, в которых оба лицемерили.
— Ну, как ехал? — спросил Никита.— С удобствами?
Дмитрий фыркнул:
— В мягком вагоне. На подножке. Чуть было не сцапали.— И стал рассказывать неприятные подробности своего путешествия.
Никита слушал и думал, как бы избавиться от неудобного гостя.
По тому, как Никита слушал и улыбался, Дмитрий понял, что Вилкову совсем неинтересен его рассказ и, пожалуй, было бы приятней, если бы Бородин, не доехав до Ростова, попал в милицию. И все же он продолжал рассказывать о своей поездке. Ему не на кого было надеяться, кроме как на Никиту. «Должен помочь, должен»,— твердил себе Дмитрий. О том, что Никита мастер хитрить и изворачиваться, Бородин знал хорошо. Но он знал и другое: это был ловкий и всегда удачливый человек, сумевший скрыть свое прошлое от всех. Если он смог пробраться в комсомол, попасть в вуз и теперь был на последнем курсе университета, так неужели своему приятелю и единомышленнику он не устроит такого пустякового дела, как завалящий документ, самую обыкновенную бумажку с печатью на любое имя? Только и всего — одну бумажку с печатью, за которую он готов заплатить чистым золотом хоть сто рублей.
«Неправда, найдет он и для меня выход»,— думал Дмитрий.
Так началась беседа двух приятелей, знавших друг друга с детских лет.
— Я не совсем понял, зачем ты приехал в Ростов? — сказал Никита.
— Я не приехал, а бежал,— грубо поправил его Дмитрий.— Ты мне должен помочь. Сам говорил, что мы можем рассчитывать на твою поддержку и помощь, и адрес дал. Вот теперь и помогай, иначе я погиб. — В голосе Дмитрия послышалось отчаяние.
Никита встал, прошел к окну, постоял там, размышляя. Бородин был близок ему, но никогда не был другом. Никита дружил с ним до тех пор, пока эта дружба была ему выгодна. Но как только он понял, что она может повредить, он сразу же решил покончить с такой дружбой. С этими быстрыми переменами в отношениях с людьми его совесть легко мирилась. Никита заводил себе новых приятелей, беспечно рассказывал им анекдоты, на что был большой мастер, шутил, веселился, а о вчерашнем друге, попавшем в беду, старался не вспоминать, чтобы не расстраивать себя. Вернувшись от окна к дивану, Никита сказал:
— К сожалению, ничем не могу помочь тебе, друг. Я понимаю твое положение, сочувствую тебе, но, — Никита развел руками,— беспомощен. Тебе надо уезжать. Здесь оставаться нельзя. — Он с самым удрученным видом сел в кресло.
Дальше Никита стал объяснять, что это квартира его хороших знакомых, но они не могут держать Дмитрия. Домком сейчас усилил бдительность. Из окрестных станиц и хуторов в город просочилось немало раскулаченных, остановились, кто у знакомых, кто у родственников. По дворам ходит милиция, вылавливает их.
— Говоря между нами, мы здесь сейчас в опасном положении. И я по-дружески советую тебе уехать из Ростова,— заключил Никита.
Хотя именно такого ответа и ожидал Дмитрий, все же ему было очень тяжело слушать Никиту. Он долго молчал, понурив голову, потом горячо заговорил, униженно прося помочь ему, обещая за фальшивые документы целую пачку червонцев, даже золото, самое настоящее золото!
— Мне бы только устроиться на работу и переждать,— плаксиво говорил Дмитрий.— Все равно из их затеи ничего не выйдет. Колхозы развалятся. Но нужно переждать.
Никита отрицательно покачал головой.
— Ни за какие деньги я не могу достать тебе удостоверения.
— Так как же мне быть?
— Не знаю, друг.
— А если обратиться к Благосклонову?
— Он тебя и на порог не пустит. Будет с тобой связываться профессор Благосклонов, очень ему это нужно!
— Так что же, выходит, напрасно я ехал сюда?
— Совершенно напрасно,— подтвердил Никита.
— Я шел, мучился, прятался от милиционеров только для того, чтобы ты гнал меня?
— Я тебя, конечно, не гоню, но и сделать ничего не могу. Обстоятельства, сам понимаешь…
Холодея от решимости, Дмитрий, смерив глазами небольшую щуплую фигуру Никиты, вдруг сказал:
— Так я сейчас сам пойду в милицию и выдам и себя и тебя. Я скажу, кем ты был, как живешь по подложным документам. Мне все равно нет выхода, а тебя, подлеца, я выведу на чистую воду. Пусть мне дадут года два-три, но и тебе не миновать десяти лет со строгой изоляцией. — Дмитрий действительно в этот момент готов был на все и с удовольствием смотрел, как сереет лицо Никиты.
— Знаешь что? — вдруг сказал Никита, прерывая Дмитрия. — Ты сегодня заночуй здесь, я упрошу хозяев, а завтра, может быть, что-нибудь придумаем. Хорошо?
Дмитрий болезненно улыбнулся.
— Только имей в виду, если меня здесь «случайно» арестуют, то я выдам и тебя и всю вашу банду.
— Зачем ты так говоришь? Неужели ты не веришь моему слову?
— Не верю. И вообще не вздумайте что-нибудь сотворить. Я вооружен.
— Какие глупости!
— Я потому так говорю, что понял, с кем имею дело. И бежать от меня не вздумай: на дне моря найду.
— К чему нам ссориться! Я бы с удовольствием пригласил тебя к себе в студенческую комнату, но там живет Николай Ястребов.
— С Ястребовым я не хочу встречаться.
— Вот и я так думаю. Переночуй здесь, и там мы что-нибудь сообразим.
На этом они и расстались.
На другой день утром Никита разыскал Степанюка и передал ему свой разговор с Бородиным. Умолчал лишь о том, что Дмитрий угрожал и ему и всей группе, но все же намекнул, что лучше бы устроить парня, а то может черт-те что наделать.
— Этак мы можем и засыпаться,— сказал Степанюк.— А твердый парень?
— Не трус.
— Ну что же, мы найдем ему документы. Такими людьми мы не должны разбрасываться. Не так-то у нас их много,— сказал Степанюк.— Познакомь меня с ним.— Помолчал и добавил: — У меня есть один план, и твой Дмитрий может пригодиться.
Через два дня Дмитрий был уже Михаилом Рыбаковым и работал на «Сельмаше». Скоро он перешел в заводское молодежное общежитие, купил себе гармонь, завел знакомство с девушками. Степанюк через своих людей наблюдал за каждым его шагом, изредка приглашал на Донскую улицу, в квартиру Карабачинского.
Только главных улиц города Дмитрий избегал, боясь встретиться с Николаем Ястребовым, а так совсем стал ростовчанином.
Зная, с каким нетерпением Николай ждет прихода Тани, Анатолий стал подшучивать над ним. В шутках он был изобретателен. Но Николай все равно попадал бы впросак, если бы Балахонов и не выдумывал ничего особенного. Часто Анатолий повторял одну и ту же шутку. Постучится в дверь. Ребята обычно входят без стука, и Николай думает: «Ну, это она».
— Войдите! — скажет он.
Входит Анатолий.
— Коля! — произносит он нежным голосом.
Николай начинает ругаться.
— Придется штраф платить,— уже серьезно заявляет Анатолий.
За эти годы Анатолий мало изменился. О себе он говорил: «Я себя чувствую везде, как рыба в воде».
Он редко ходил на лекции. Презирая себя за лень, он старался оправдаться перед товарищами по комнате:
— Ну что особенного? Зачет не волк, в лес не убежит. Сдам. Здесь все обстоит просто: прочитал, записал, выучил и рассказал.
Анатолий оставался вечным «условником». С курса на курс он переходил с обязательством «доедать» несколько предметов.
— Надо хорошо знать характер профессора,— говорил Анатолий.— Один любит, чтобы ему отчеканивали формулы, другой — чтобы только не молчали, а третьего можно разжалобить. А, в крайнем случае, риск — благородное дело. Представилась возможность сдать, помни одиннадцатую заповедь — «не зевай!» Вообще же, пролетарию нечего терять, кроме своих цепей.
Проповедуя эту «философию», Анатолий хорошо понимал, что за всеми его словами прячется лень, но не мог переломить себя. Вот он лежит на кровати и думает: «Кто виноват, что я опустился? Ведь я подавал надежды стать хорошим математиком. «Лодырь, растратчик времени», — говорит обо мне Редько. Да я и сам это понимаю, а что толку?»
Утром Анатолий заставил себя пойти на лекции. Не без тревоги подходил он к главному зданию университета. «Надо нажать… нажать… Дифференциальное исчисление — предмет нетрудный. Эх, благородный человек с благородными намерениями!» — горько думал о себе Анатолий.
Вошел профессор, маленький сморщенный старичок, и стал говорить что-то слабым, дребезжащим голосом. Анатолию приходилось напрягать все силы, чтобы заставить себя слушать профессора. Лектор говорил и писал на гладкой доске длинные формулы. Мел крошился, летели, как брызги, мелкие осколки. Студенты молча, быстро и старательно записывали лекцию.
«Дублируют. Скучно, как на похоронах»,— думал Анатолий.
С невеселым лицом ходил он во время перерыва по коридору, длинному и полутемному, тоже отдающему скукой. Над ним подшучивали:
— Что это случилось сегодня? Наверно, все девушки в Ростове замуж вышли: Анатолий пришел на лекцию!
У него не было даже охоты отвечать на шутки. В другой бы раз он отбрил за такие шутки.
«Надо работать. Попробую заниматься по рецепту Редько: записывать самое важное. В каждом деле надо пересилить себя, а когда пересилишь, будет легче. Где-то я об этом читал?.. Если у меня не хватит силы воли, значит, я тряпка, болтун, самохвал. Надо нажать».
Придя с лекций, он сел за книги и тетради.
Редько и Николай всячески старались поддержать это начинание Анатолия.
До обеда он работал не отрываясь. Пообедал и снова засел. Сидел, как сидят студенты во время зачетной сессии. «Ага,— удовлетворенно думал Анатолий,— лед тронулся. Пошла работа».
На одной формуле он задержался: ничего не получается. Встал, походил по комнате. На подоконнике лежала книга в сером переплете. Развернул: О. Генри. «Рассказы». «Почитаю немного, мысли освежу».
Пришел Павленко:
— Толик, тебя Соня вызывает.
— А, черт, скажи, что меня нет.
— Уж это ты лучше сам скажи.
— У благородного человека с благородными намерениями все планы рухнули.
Анатолий ушел и вернулся только под утро.
— Ну что? — стал выговаривать ему на другой день Редько.— Ты же слово давал, что ночевать будешь дома. Где же твои благородные намерения?
— Понимаешь,— оправдывался Анатолий, присаживаясь у стола,— не могу. Даю себе зарок. Но — фигурка! Глазки! Не могу, ей-богу, не могу!.. Я почти влюблен.
— Черт тебя знает, Толик, что ты за человек! Начнешь философствовать, притворяться, воображать из себя что-то — и разговаривать с тобой тошно.
— Спасибо, дедушка, за совет. Я твои золотые слова запишу: «К сведению и руководству».
Анатолий лег на койку, взял «Дифференциальное исчисление» и начал читать. Потом, бросив книгу, подошел к Николаю:
— Простодушный ты человек. Я удивляюсь, как ты до сих пор не растерял свою восторженность? Живешь, работаешь, бегаешь, спешишь! Тебе, дураку, счастье — сама Моисейченко влюбилась, а ты… Вон какие парни пробовали около нее увиваться — сорвалось. Скажи, пожалуйста, почему она к тебе льнет? Ну что она нашла в тебе? Будешь чужих детишек учить, а потом своих народите… Скучно.
— Таким ты представляешь мое будущее? — спросил Николай.
— А что же ты думаешь? С неба звезды хватать? — Анатолий засмеялся.— Вот четвертый год идет. Что ты сделал выдающегося? Ничего. И пройдет еще сорок лет — ничего выдающегося не сделаешь. Так живут миллионы. Это печальная штука, на факт. И я вот пытаюсь выскользнуть из этого круга, а некуда.
— Все это чепуха! — резко сказал Николай.— О себе я меньше всего думаю. А тебя разъедает индивидуализм.
— А черт его знает, может быть, ты в этом и прав. Но я хочу жить в свое удовольствие лет до тридцати. Помнишь, академик, стихи,— обратился Анатолий к Редько.
— С этого бы ты и начинал,— окончательно рассердился Николай.
…Анатолий опять перестал ходить на лекции, бывал в университете раз в месяц — получить стипендию. Законы философии он формулировал на свой лад:
— Бытьишко определяет сознаньишко.
Об игре актеров говорил с пренебрежением:
— Искусственное под естественное подводят,— хотя на самом деле очень любил театр.
Если Николай хвалил музыку Чайковского, Анатолий возражал:
— Ученые люди усложняют понимание обыкновенных вещей. Мотив народной песни выше, лучше и благородней Чайковского.
Николай понимал, что Анатолий возражает, лишь бы возражать.
Однажды Николай и Редько разговаривали о будущем.
— Махнуть куда-нибудь на Туркестано-Сибирскую железную дорогу,— говорил Николай.— Там стройка идет, соревнование.
— Ни на какую стройку ты не попадешь, тебе придется ехать в деревню, — сказал Анатолий.
— Ну что ж, и поеду. Меня деревней не испугаешь.
— Нас туда все дороги ведут,— продолжал Анатолий.— А я не хочу ехать в деревню.
— Да мы тебя, возможно, и не пошлем! — сказал Редько. — Что ты там будешь делать? Разве на тебя можно надеяться?
— Тем лучше.
— И не пошлем. Вот бьемся с тобой, думаем перевоспитать. А ты только позоришь красное студенчество… Жаль денег, потраченных на тебя государством.
Анатолий возмутился:
— Я считаю ниже своего достоинства спорить с тобой!
— Эх ты, педагог! И слова-то у тебя все стертые, как пятаки! И спорить ты любишь только с теми, кто тебя не знает. С нами тебе не выгодно спорить.
Николай сидел за книгой, когда раздался тихий стук в дверь.
«Толик фокусничает,— со злобой подумал Николай.— Чтоб его разорвало!» С трудом сдерживая ругательство, он сказал:
— Войдите!
Вошла Таня.
Ее изумил негодующий голос Николая, а его обрадовал приход девушки. Подумать только — чуть не выругался!
Немного погодя они сидели друг против друга за столом и играли в шахматы.
— Ты, наверно, хорошо играешь? — спрашивала Таня.
— Да нет, меня наш дедушка и тот бьет, а он посредственный игрок,— радостно говорил Николай.
— А что же его нет? Я хотела ближе познакомиться с ним,— сказала Таня.
— Скоро придет,— ответил Николай, знавший наизусть распорядок дня Редько. Он делал те же ходы, что и Таня, не в силах сосредоточиться на игре.
Вошел Анатолий и остановился в дверях.
— Простите, я помешал?
— Никому ты не помешал,— зло сказал Николай, а про себя подумал: «Сейчас выкинет какое-нибудь коленце».
Но Анатолий только многозначительно подмигнул Николаю и сейчас же ушел из комнаты. Наступило неловкое молчание.
— А вот, кажется, и дедушка!— сказал Николай.— Я слышу его шаги. Так и есть, он.
Редько вошел и, увидав Таню, смутился. Он не скрывал, что рад приходу девушки, и боялся лишь, как бы она не угадала подлинную причину его радости. Но она, конечно, не могла угадать. Она видела его обрадованным, и ей это было приятно.
Шахматы были отодвинуты, и сразу же завязался непринужденный разговор. Заспорили о классической и народной музыке.
— Я всегда любил музыку, — говорил Николай. — Но когда услышал настоящую классическую, да еще в хорошем исполнении… Слов нет, до чего замечательно!
Редько любил бывать на концертах, слушал лекции крупных музыкальных специалистов, читал биографии композиторов.
— Да, пожалуй, ты прав.
— Деревня,— продолжал Николай,— к сожалению, пока довольствуется бряцанием на балалайке да гармоникой.
— Что это у тебя за пренебрежительное отношение к русским народным инструментам? — спросил Редько.— Ты их не сбрасывай со счета. Понял? Да и кроме того, ты говоришь о вчерашней деревне. Радио приносит в нынешнюю деревню и классическую музыку.
«Что сегодня с дедушкой?» — изумился Николай, глядя на Редько. В его словах, в улыбке, в блеске глаз, в общем оживлении было что-то новое, неожиданное для Николая.
— А чьи это открытки? — спросила Таня, показывая на выставку над койкой Анатолия.
— Толикова галерея,— сказал Николай.— Он у нас артистов, и особенно артисток, собирает.
Таня сейчас же отошла от открыток, вернулась к столу.
— А кто это бумаги разбросал?
Редько усмехнулся:
— Это творческая лаборатория Николая. Бывает и хуже.
Николай нахмурился, Таня уловила его неудовольствие и, улыбнувшись, сказала:
— Однако какой в вашей комнате талантливый народ! Один поэт, другой ученый, третий артист…
Шутку ее на лету подхватил Николай.
— Кто в молодости не грешил?
Редько, обычно не любивший рассказывать о себе, вдруг заговорил о своем детстве, гражданской войне.
Слушая его, Николай снова думал: «Что с дедушкой? Никогда я не видел его таким».
Провожать Таню пошли оба. Когда вернулись, Анатолий сидел на кровати, лениво потягиваясь.
— Ты что это подмаргивал? — строго спросил Николай.
— Я подмаргивал?! — искренне изумился Анатолий.— Это тебе показалось. А впрочем, все они такие… — Анюта тебе нос натянула?
— Возьми свои слова обратно!
— К чему это?
— Возьми свои слова обратно! — упрямо и зло повторил Николай.
— Что с тобой? — Редько взял Николая за пояс, но, чувствуя себя несколько виноватым перед товарищем, сказал это без той вескости, с какой говорил обычно. А Николай, еще не подозревая этого, в чем-то уже утерял веру в своего безногого друга. Он выразительно посмотрел на Редько — отстань, дескать,— и снова обратился к Балахонову.
— Опять за старое берешься? Сейчас же возьми свои слова обратно!
Балаханов вспомнил про лопату.
— Беру свои слова обратно,— пробормотал он и спрятался под одеяло.
Николай схватил пальто и выбежал из комнаты.
С Таней Николай встречался часто. Добровольский, наблюдавший за ними со стороны, видел, что Ястребов за каких-нибудь полтора-два месяца сделал большие успехи, чем сам он за три года. Он ненавидел Николая и ругал себя. Неизменно вежливо кланяясь Тане, даже если она была на другой стороне улицы, он думал, как опорочить ее или Ястребова. В то же время ему очень хотелось поговорить с Таней. Ведь все эти годы он не был ни с кем так откровенен, как с ней. Высказывать свои взгляды другим он боялся: чего доброго, припишут что-нибудь.
Но Таня словно и не замечала его. Дружба ее с Николаем росла.
В эту пору Ястребов опубликовал в «Колхозной правде» очерк «Сомнения Ивана Тимофеевича». Очерк вызвал несколько читательских писем, в которых говорилось, что произведение это очень правдивое.
Николай написал очерк по настоянию Тани, и она теперь радовалась:
— Мне было ясно, что он понравится, еще когда ты рассказывал о своей поездке в степь,— проговорила Таня, очень довольная тем, что она тоже причастна к труду Николая.
— Как ты мне помогла! Нет, ты даже представить себе не можешь, как помогла мне! Дело здесь не только в этом очерке, а в том, что я благодаря таким удачам нахожу более верный путь в своей работе, накапливаю какой-то опыт.
— Я очень рада,— Таня подчеркнула слово «очень».
В их дружбу как-то незаметно включился Редько. Теперь, Николай и Редько часто заходили домой к Моисейченко. Стыдно Ястребову стало появляться у Тани в таком затрапезном костюме. Но чтобы приобрести новый, надо иметь деньги. Николай попросил товарищей из студенческой артели грузчиков дать ему поработать вне очереди.
— Край подошел,— говорил он,— выручайте…
Ясное морозное утро.
Под железным навесом, протянувшимся во всю длину мельничного двора, зажатого каменными зданиями, метрах в двадцати друг от друга возвышаются две глубокие, как степные колодцы, ямы. По их краям стоят деревянные срубы, над настилом из досок они возвышаются, примерно, на полметра, и это еще больше делает их похожими на колодцы. Только журавлей не хватает. За срубами в углублении, на одном уровне с полом, наглухо прикреплены железные сетки. Под навесом пахнет хлебной пылью и плесенью — такой запах обычно устойчив в пустых помещениях, в которые никогда не заглядывают солнечные лучи.
Возле каждой ямы-колодца работает по артели грузчиков. А по соседству с навесом, во дворе,— четыре платформы весов.
Через весь узкий вытянувшийся двор в одну шеренгу выстроилась очередь подвод, груженных тяжелыми чувалами пшеницы. Здоровенные флегматичные лошади, воронежские битюги, гремят недорогой сбруей.
От подвод к весам и от весов к ямам-колодцам спешат люди. Дрогали торопят грузчиков: им не хочется торчать на мельничном дворе, нужно побольше заработать, а значит, побольше привезти сюда чувалов. Да и грузчики не меньше заинтересованы в заработке. Поэтому они торопятся взять мешки с подвод, поставить их на весы и, как только взвесят воз, побыстрей оттащить к яме-колодцу. Там на железной решетке стоят двое грузчиков с острыми кривыми ножами, с навернутым на ручках тряпьем. Эти двое только успевают резать завязки на мешках да высыпать пшеницу. Пустые мешки летят в сторону, а люди снова торопливо берут полные. На решетке остаются только куски шпагата да комья земли. Пшеница с шумом низвергается в недра ямы-колодца. Над ямой колеблется особенно много пыли, ее столб здесь доходит до крыши навеса. Пыль под навесом сухая, едкая, с остюками. Николай понимает, что она еще вреднее, чем та, что во время обмолота дымит на гумне. Грузчиков, особенно тех, что стоят на железной решетке над ямой-колодцем, не узнать: они словно в масках. Пыль лезет им в нос, лезет в рот, в глаза; ею покрыты вспотевшие лица и мокрые волосы. После дня такой работы глаза несколько дней красны, в носу упорно держится пыль.
У каждого грузчика — все равно профессионал он или студент — голову прикрывает угол пустого мешка. Концы мешка лежат на плечах.
Николай берет с подводы чувал, ставит на плечо — дальние мешки помогает брать дрогаль — и не спеша, подчеркнуто твердо шагая, несет к весам.
«Ничего, сегодня подработаю,— думает он.— Завтра попрошусь в другую артель, а там еще два-три дня — и можно будет купить костюм. Тогда уж и в доме Тани не стыдно появиться. А что если я в самом деле женюсь на Тане? Вот дяди-то удивятся. Ивану Тимофеевичу писал, что моя невеста еще в люльке качается, а сам возьму да женюсь.
Возле одной повозки Николай задержался. Дрогаль подавал мешок другому студенту и при этом грубым голосом кричал:
— Бери как следует!
— Он не выдержит,— презрительно, сквозь зубы процедил дрогаль с соседней повозки.
За длинным пакгаузом видна круглая крыша и часть серого здания университета. На его балконах по-зимнему пусто. Многочисленные окна отсюда кажутся мелкими на голубом фоне чистого неба, университет с мельничного двора можно принять за старинный замок с окнами, напоминающими бойницы.
«Штурмуем крепость науки,— подумал Николай, глядя на университет.— Как и положено на войне, в этом штурме не все из нас уцелеют: и учебу некоторые бросают, и самоубийством кончил наш паренек, но большинство упрямо продвигается вперед. Крепость надо завоевать».
— Бери! — крикнул дрогаль заглядевшемуся на университет Николаю, а другой с соседней повозки проговорил, зло: — Подшибут монету, а потом с портфелями будут ходить, да еще галстуки на шею нацепят, да барышню с крашеными губами под руку возьмут,— тогда нашего брата и за людей не будут считать!.. — Он высказывал сейчас то, о чем не раз говорилось среди грузчиков-профессионалов и дрогалей, обреченных, как многие из них считали, всю жизнь ворочать тяжелые кули, воровать что только можно украсть на работе, и не видеть никакого просвета не только для себя, но и для детей.
Весовщик взвешивает воз тугих мешков и тонким писклявым голосом выкрикивает:
— Девятьсот шестьдесят два килограмма!
От других весов слышится:
— Восемьсот девяносто шесть килограммов!
Весы и у студентов и у грузчиков-профессионалов быстро пустеют. Каждой артели хочется не ударить в грязь лицом и, главное, побольше заработать. С грохотом откатываются пустые дроги, их место у весов занимают тяжелогруженые.
За столиком, стоящим возле навеса, сидит небольшого роста старичок. На этом месте он сегодня поставил столик потому, что предвесеннее солнце начало пригревать. Обычно столик стоит под навесом, защищенный от ветра, что ходит по двору, как по гигантской трубе, быстрый и резкий. Старичок записывает цифры, которые выкрикивает весовщик.
От этих двух людей, весовщика и низенького, сморщенного, лысого старичка, «Михаила Михайлыча», как неизменно вежливо величают его все работающие, зависят и студенты и грузчики-профессионалы. Начальство начальством, но оно — там, далеко, и сюда заглядывает редко. А здесь безраздельные хозяева эти двое. Захотят они — и вся пшеница на мельницу будет поступать только через грузчиков-профессионалов. Потом доказывай, что-де студентов лишают заработка. Ищи-свищи, а начальство все-таки больше поверит весовщику да Михаилу Михайлычу — своим работникам.
— Ты что, разве так дают? — резко сказал дрогалю один из студентов.
Дрогали с ближайших подвод дружно закричали:
— Холява, брать не умеешь!
— А так дают? — не унимался студент.— Ведь он нарочно хотел обломить парня. Сюда, товарищи!
— Чего орешь?
— А зачем так давать?
— Бери, бери. Чего стали? Я правильно подал мешок,— ничуть не смущаясь, настаивал на своем дрогаль.
И студенты и грузчики, бросив работу, сразу же сгрудились у подводы, со всего двора на шум бежали дрогали.
Кривые ножи, которыми только что разрезали завязки на мешках, оставались в руках. Драка казалась неизбежной. Дело было лишь за тем, чтобы кто-то начал ее.
— А-а, моя товарища ругать! — закричал, подбегая к злополучному студенту, из-за которого начался весь этот шум, низкорослый, с круглыми плечами татарин.
— Газиз! — радостно выкрикнул Николай, узнав в подбежавшем дрогале того парня, с которым работал на строительстве шоссейной дороги еще до поступления в университет.
— Ястребова, ты! — татарин повернулся к Николаю, схватил его за руку и улыбнулся во все широкоскулое лицо.— Ай-яй-яй, совсем не думала… Ай-яй-яй! — Газиз качал головой, продолжая все так же улыбаться.
— Ты что это тут? — громким голосом распекал между тем один из грузчиков-профессионалов дрогаля, виновника скандала.— Им помогать нужно. Не от добра они себе спины ломают. Белоручка сюда не пойдет!
«Верно,— мысленно согласился Николай,— Добровольского тут не увидишь».
Если бы за день до этого скандала или некоторое время спустя кто-нибудь сказал Николаю, что он против потомственной интеллигенции, Ястребов искренне стал бы говорить, что это неверно. У него ведь есть друг потомственный интеллигент — Аркадий Симонян, и даже любимая девушка — дочь доцента. Однако здесь, захваченный шквалом волнения, по себе зная, как при плохом питании тяжело ворочать кули пшеницы, понимая, что иногда мешок подается с таким расчетом, чтобы «подорвать молокососа — пусть не отбивает заработок», Николай невольно согласился с громкоголосым грузчиком. Ястребов знал, что на мельнице работают наименее обеспеченные студенты. Среди них было немало парней, которых он редко видел на лекциях, но под этим навесом обязательно встречал.
…Шквал утих. Воробьи — многочисленные обитатели мельничного двора — привыкли к таким вспышкам. На вольном хлебе птицы разжирели. Когда начался шум, поднялся ураган криков, воробьи отлетели к дальнему пакгаузу и сидели там до тех пор, пока люди не возобновили работу. Тогда, наполняя чириканьем двор, воробьи тоже стали деловито порхать. Они снова казались такими же занятыми и озабоченными, как и эти грузчики и дрогали. Жизнь мельничного двора вошла в свою колею. В одну шеренгу стояли тяжелые битюги, мотая кудлатыми массивными головами; гремела недорогая сбруя. На обмякшем снегу лежали смешанные с грязью зерна пшеницы.
Николай вместе с Афанасием пришел к Моисейченко.
Отец и дочь встретили гостей в передней и проводили их в просторную столовую, где на паркетном полу лежал большой ковер.
На Николае теперь был новый костюм. Волосы он подстриг в парикмахерской, чуб подправил,— такую роскошь не часто позволяли себе студенты. Словом, сразу было видно, что человек пришел в гости.
Стол был накрыт на пять приборов.
Николай невольно следил за каждым движением Таниных рук. Чувствуя, что это становится неприличным, он отвернулся к окну. Редько разговаривал с доцентом. Шумел самовар, звякали ложечки. Тетя Луша хлопотала вместе с Таней.
Доцент говорил о работе Редько. Его радовал не только тот факт, что реферат Афанасия получил положительную оценку и увидел свет, но и то, что эта работа в «Университетских известиях» произвела хорошее впечатление на Валентина Евгеньевича и на многих других профессоров.
— Я завидую вам,— сказал Михаил Васильевич.— Нам куда трудней было выбираться на широкую дорогу.— И тут же предупредил:— Но вас ждет много трудностей. Добросовестные исследователи, «копуны» вроде вас, как правило, берутся за сложные темы, требующие долгой работы. А если человек долго ничего не публикует, к нему меняется отношение. Другой, смотришь, играючи написал ряд статей и быстро напечатал. Статьи пустячные, но автор пошел в гору. И непременно найдутся люди, которые будут утверждать, что эти статьи — серьезные исследования… Над чем лучше работать? Тут надо прежде всего рассчитать свои силы. Лучше начинать с небольшого круга вопросов.
Николай, внимательно слушавший разговор, усмехнулся и сказал:
— А я другого мнения. Круг вопросов не должен быть узким. Если бы Дарвин, скажем, занимался одной энтомологией, то он, при всей его гениальности, сделал бы много для энтомологии, но к основным выводам об эволюции и происхождении человека не пришел бы…
Николай видел внимательные, изучающие глаза доцента, большие, блестящие, чуть-чуть насмешливые. Так обычно смотрела и Таня. Взгляд Михаила Васильевича смущал Николая.
Моисейченко был недоволен Ястребовым. Он считал, что Николай идет не по правильному пути. Стихов и рассказов, по его мнению, Николаю писать не стоило. Так он думал о Ястребове еще в двадцать шестом году и с тех пор не изменил своего мнения. Произведениями Николая он больше не интересовался. Михаил Васильевич ждал, что вот-вот Ястребов образумится и возьмется за настоящее дело — за научную работу. А Николай, вопреки его ожиданиям, продолжал терять время на сочинение стихов и прозы. Моисейченко не знал, что успех или неуспех — не главное для Ястребова. Основное для него — сама работа. Удовлетворение от найденного сравнения, интересной мысли для Николая неизмеримо выше, чем похвала.
Николай понимал, как относится к нему Михаил Васильевич, и по этой причине избегал с ним задушевных разговоров. Так Моисейченко и Ястребов могли прожить рядом всю жизнь, не понимая друг друга, приняв в своих отношениях за основу сложившиеся еще три года назад представления. Известно, что твердые, раз и навсегда установившиеся мнения о живых, то есть постоянно меняющихся людях, консервативны. Правда, они практически чрезвычайно удобны. Зачем обдумывать тот или иной поступок человека, когда уже есть определенное мнение?
При попытках завязать беседу и Моисейченко и Николай обычно чувствовали какую-то неловкость. Теперь это чувство взаимной неловкости осложнялось тем, что Михаил Васильевич понимал, ради кого Николай приходит в его дом.
— К Дарвину ваш вывод приложим, — сказал доцент.— Но кроме гениев есть таланты и есть просто способные люди. А впрочем…— доцент примирительно улыбнулся.— Вы — молодежь, что с вами сделаешь. Дерзайте!
Поздним вечером, уходя из дома Моисейченко, Николай сказал Редько:
— Это замечательно, что он принимает такое горячее участие в твоей работе!
Редько промолчал. Он сделался почему-то угрюмым.
— Ты, дедушка, не робей. Теперь твое дело пойдет.
Редько остановился.
— Ты что? — удивленно спросил Николай, глядя на Афанасия сверху вниз.
— Ничего, пойдем тише, — сказал Редько, и его деревяшки опять застучали по тротуару.
— Ты хорошо сегодня говорил о дружбе,— вдруг сказал Афанасий.— Вот ты говорил и о нашей дружбе. А что бы ты сделал, если бы я скрывал от тебя самое важное?
Николай остановился и в недоумении пожал плечами.
— Я перед тобой виноват,— снова заговорил Редько.— Я скрыл от тебя, что тоже люблю Таню.
Едва Редько заговорил о своих чувствах к Тане, как Николай, у которого уже прежде мелькала догадка, понял все. Некоторое время шли молча, не глядя друг на друга.
— Почему же ты не говорил об этом раньше? — спросил Ястребов. А сам подумал: «Как будто что-нибудь от этого изменилось бы!»
— Я не мог,— натужно выговорил Редько.— Я думал, что это пройдет, боролся с собой. Но теперь я, убедился, что жить без нее не могу.
Николай ничего не сказал в ответ. До общежития дошли молча.
Утром Ястребов пошел на лекции один. В главном здании университета он встретился с Таней.
Хотя Таня была, как и всегда, приветлива с ним, но ему, в его мрачном настроении, показалось, что она безразлична и спешит уйти.
Позже, прислушиваясь к ее разговору со студентами, Николай с грустью подумал: «Нет, никогда она меня не полюбит».
Николай вошел в аудиторию и хотел было по привычке сесть на свое всегдашнее место рядом с Афанасием, но, вспомнив о вчерашнем, прошел дальше и сел в заднем ряду.
В признании Редько Николая больше всего поразило то, что Афанасий молчал о своей любви.
«В сущности, что меня волнует? — думал он.— Пожалуй, то, что мне всегда хотелось рисовать себе людей лучшими, чем они есть на самом деле… Но разве он не имеет права любить? Может быть, и правда, что он не находил сил сказать мне об этом?»
На кафедру поднялся профессор Благосклоиов, небольшой, плотный, беспечно улыбающийся. Повернув к студентам румяное лицо, он облокотился на кафедру и начал громко читать лекцию, поглядывая на длинный ноготь своего мизинца.
— Итак, мы с вами окончили курс методики русского языка. Теперь по плану нашей работы перейдем к методике литературы…
Николай конспектировал все лекции. Он открыл общую тетрадь, специально предназначенную для методики литературы. Написал: «Лекция первая», подчеркнул эти слова и стал ждать «существенного», что следовало бы записать.
Благосклонов, продолжая глядеть на свой длинный ноготь, говорил, употребляя то и дело иностранные слова:
— Моральное равенство… Мне кажется, прогрессивное утверждение… Мне думается, проблема личности… акцентуация… полемическая установка… Отвлеченно взятая проблема… период… этап… пафос борьбы…
«Уже высохли чернила. Когда же он скажет наконец о методике литературы? — возмущался Николай.— А эти — скрипят перьями. Что-то ухитряются записывать из всей этой тарабарщины».
Может быть, сегодня он особенно возмущался потому, что скверное настроение не проходило. Но была и другая, более глубокая причина. В витиеватых фразах профессора Николай не находил ничего для себя нового, интересного. В лекции Благосклонова сегодня, как никогда, было заметно отсутствие мыслей.
Ястребов любил лекции Михаила Васильевича Моисейченко, глубоко раскрывающие творчество гениальных русских писателей. Нравились ему также лекции профессора Сретенского, читавшего историю западной литературы. С интересом слушал он и Валентина Евгеньевича. Хотя многие из его высказываний Николай считал спорными, но литературу профессор знал так, будто вся она создавалась на его глазах. Совсем другое отношение у Ястребова было к лекциям Благосклонова. От них ничего не оставалось. Сегодня он это понял с особенной остротой.
Слово «профессор» уже не приводило Николая в трепет, как это было в начале его студенческой жизни. Он знал, что профессора такие же люди, как и все прочие смертные. Благосклонов с пафосом продолжал читать: — Думается мне, пассивный романтизм… ориент… абстрактный… тенденция… инертность…
Все эти оговорки в сочетании с иностранными словами Ястребову казались не случайными. Получалось так: Благосклонов говорил и в то же время как бы «отмежевывался» от сказанного словами — кажется, думается, я так полагаю. Вспоминались прежние лекции Благосклонова: и там все было построено на оговорках. «Скользкий, каналья, не ухватишь,— думал Николай.— А потому скользкий, что чужой, вот и выработал систему оговорок».
Ястребов вздохнул и положил на стол ручку. «Видно, не придется мне сегодня записывать! Возможно, методика литературы такой предмет, что людям и сказать-то нечего? Но дедушка вон записывает…»
Пятьдесят минут «бомбил» профессор студентов тяжелой терминологией, после чего с улыбкой покинул кафедру. Улыбку его можно было понять так: «Все вы олухи».
После двухчасовой лекции в общей тетради Николая на первой странице сиротливо жалась одна фраза:
«Задача методики литературы — научить преподавать художественную литературу».
Николай медленно шел вниз по лестнице. «Надо не подавать виду, что я расстроен»,— думал он.
Возле витрины писем он приостановился, услышав разговор:
— Вы какой иностранный язык изучаете? — спросил Виктор Осипович Осинский, обращаясь к знакомому Николаю студенту социально-экономического отделения.
— Немецкий.
— Сколько лет занимаетесь?
— Изучал в школе второй ступени да здесь четвертый год.
— И знаете его в совершенстве?
— Да… Во всяком случае, буквы знаю все, как будто все.
Оба весело засмеялись. Студент, видимо, нимало не смущался своим невежеством.
«Болван! — подумал Николай о студенте.— Нашел чем хвастать!»
Уже подходя к общежитию, улыбнувшись, подумал: «А в общем-то все стали виноваты только потому, что Афанасий сказал мне правду, а я оказался чересчур наивным! Да и устраняться мне не хочется, а надо уйти с их дороги. Таня ближе узнает Редько и полюбит. Такого человека нельзя не любить».
Дурное настроение не покидало Николая. Если бы он столкнулся не с Редько, а с кем-нибудь другим, то мог бы наговорить черт знает чего, хотя потом и жалел бы об этом. Но Афанасий настолько был дорог ему, что он сумел сдержать себя во время объяснения. И теперь ходил и все думал, думал… Нет, он не мог представить Редько виноватым. Таня? Может быть, она? Но она, кажется, тоже ни в чем не виновата. Тогда кто же? Он сам? Однако же какой смысл во всех этих «кто»? Важно, что без Тани Николай жить не может. Но Редько, кажется, все-таки виноват. Он скрывал от Николая свои чувства! Мог ли так поступить настоящий друг? А если бы не скрывал, разве что-нибудь изменилось бы?..
Все должна была решить Таня. Но она, видимо догадываясь, о чем Ястребов собирается с ней говорить, упорно избегала серьезного разговора с Николаем. И он думал, что ему уже и надеяться не на что. И может быть, оттого ему еще больше хотелось быть около нее, видеть ее глаза, улыбку, говорить с ней.
В один из этих дней его вызвали в комитет комсомола.
— Направляем тебя в Суходольский район,— сказал ему Саша Углов без всяких предисловий.
— Зачем? — встревоженно спросил Николай.
— Организовывать районную газету. Редактором будет Андрей Чинарин, а ты, по его просьбе, секретарем. Да ты что, недоволен?
— Конечно, недоволен! Мне же надо кончать вуз. Осталось всего несколько месяцев.
— Но сейчас такое время, ты пойми. Может быть, мы всех комсомольцев по станицам да аулам разошлем. Сплошная коллективизация! Ты должен радоваться, что попадешь в родной район. Не ожидал от тебя… Ты что же, трудностей испугался?
— Никаких трудностей я не боюсь!— Николай твердо взглянул в глаза Углова.— Но не могу сейчас, понимаешь, не могу. Вот кончу университет, тогда посылайте. А кроме того, если я уеду, то… Ну, вообще, не могу…
Углов взъерошил волосы и сказал негромко, но твердо:
— А все-таки придется ехать. Указание крайкома партии.
Несколько минут Николай стоял молча и смотрел в окно.
Потом, не глядя на Углова, сказал:
— Хорошо,— и вышел.
Перед отъездом он несколько раз попытался поговорить с девушкой о главном, и опять из этого ничего не получилось. Всякий раз Таня сводила разговор на шутку, потом говорила, что спешит, и уходила.
«Значит, нечего стараться. Надо скорей уезжать»,— решил Николай.
Он отыскал Чинарина в редакции газеты «Колхозная правда» и с трудом узнал его — так изменили Андрея одежда и обувь. На Чинарине было короткое полупальто и сапоги из юфты. По костюму его можно было принять за ремесленника. Но сквозь стекла очков смотрели знакомые смеющиеся глаза.
— Ну, что у тебя там? — спросил он Николая, видя, что тот вошел невеселым.— Опять красоты природы портят идеологию?
— Хуже,— мрачно ответил Николай.
— А что такое? — уже без улыбки спросил Чинарин.
— Да приходится из Ростова бежать… Пойдем — поговорим. Может быть, ты и виновник всего этого.
Они вышли в вестибюль редакции, уселись за столик. Николай коротко рассказал товарищу, почему не хотел уезжать из Ростова и почему теперь сам всецело за выезд.
— Ты решил окончательно? — спросил Чинарин.
— Окончательно и бесповоротно.
— Да, трагедия,— проговорил Чинарин.— В таком случае, я был прав, что отстаивал твою кандидатуру. Ну что ж, поедем в Суходольскую. Если нужно будет возвратиться в университет — окончить-то его необходимо,— я тебя отпущу. А пока вместе поработаем. Имей в виду, работа — это лучший лекарь. Может быть, в станице встретишь такую девушку, что влюбишься и даже женишься, а я на твоей свадьбе погуляю. Жизнь полна неожиданностей. Все может быть.
Николай мельком подумал об Анюте, но сделал вид, что ему неприятно слышать о каких-то других девушках и хмуро сказал:
— Я решил всерьез.
— Ну что ж. Довольно тебе дурака валять да пописывать стишки, в газете придется засесть за черновую работу.— И уже иным тоном Чинарин добавил:— Я человек женатый, женщин знаю лучше тебя. Если любит, то кратковременная разлука только на пользу. Если нет, то и горевать не о чем… А университет окончишь.
Вечером Николай получил по специальным талонам такие же, как и у Чинарина, сапоги и фуфайку, а также аванс в счет зарплаты, командировочные и за месяц вперед стипендию. Таких больших денег у него никогда не было. Не попрощавшись с Редько и не повидав Тани, он утром выехал в окружной город, где по заданию редактора должен был подобрать оборудование для типографии.
Чинарин встретил Николая в Суходольской. С ним были два наборщика и печатник, присланные из московской типографии «Красный пролетарий». Чинарин познакомил с ними Николая. С минуту постояли под одиноким фонарем перрона, как бы приглядываясь друг к другу, потом пошли по темной, немощеной, знакомой Николаю улице станицы, которая после освещенного перрона казалась еще темней, чем была на самом деле. По обеим сторонам в окнах домов желтели огоньки. Окна двухэтажного здания педагогического техникума светились ярче. Это здание напоминало Николаю прежние годы, Анюту.
«А я, пожалуй, встречусь с ней,— подумал Николай.— Интересно, как она теперь живет?»
— Машина печатная еще не пришла,— рассказывал Николаю редактор.— Сегодня пришлось дать телеграмму в Москву, чтобы ускорить это дело. А как у тебя?
— Не хотели клише давать в окружной газете. Пришлось убеждать, бить на сознательность.— По голосу Николая чувствовалось, что он улыбается.— Ну, им неудобно стало, я и нагрузил корзину.
Чинарин сообщил:
— Жить мы устроились в бывшем кулацком доме. Одна комната у нас будет служить редакционным помещением, другая — типографией, а в третьей устроим общежитие. Ты нe против общежития?
В его голосе Николай уловил озабоченность и поспешно ответил:
— Нет, нет! Я ведь все время в общежитии и не представляю себе иной жизни.
Громким лаем их провожали собаки. Едва отставали одни, как сейчас же увязывались другие.
Дом, выбранный под редакцию, был знаком Николаю. Прежде здесь жил владелец паровой мельницы, старший сын которого служил в белой армии в чине подпоручика, а младший, на год раньше Ястребова, окончил педтехникум. У мельника всегда бывало в найме несколько работников из станичной бедноты.
Через день устанавливали печатную машину. Оказалось, что валики прислали не те.
— Вредительство!— возмущенно говорил Чинарин.— Наши валики, возможно, направили куда-нибудь в Сибирь, а от той машины — к нам.
Токари Суходольской машинно-тракторной станции, которая тоже только создавалась, потратили на подгонку валиков целый день. Но вот наконец все готово: машина налажена, кассы расставлены, шрифты разложены по кассам. Можно и газету выпускать.
Матери и Алексею Николай не писал, что живет так близко от них.
«Как им объяснить причину? — думал он. — Не поймут. Вот увижусь с ними, тогда все расскажу. Да и все равно я университета не брошу. Не затем поступал туда, чтобы за несколько месяцев до окончания бросать. А их, может, сейчас растревожит, что я не учусь».
— Отпусти меня на денек,— попросил Николай Чинарина.— Ну что тебе стоит?
— Не могу. Вот выйдет первый номер газеты, тогда пожалуйста, а сейчас не время разъезжать.
— Мне ведь немного времени надо: туда час и оттуда час, а в Грушках я только одну ночку переночую. Надо повидать мать, братьев. Я уже забыл, какие они.
— И не проси. Сейчас нам нужен материал для газеты.
— Так там тоже можно собрать его!
— В Грушках? Это идея. Но нет,— сказал он после непродолжительного раздумья.— Первый номер у нас уже спланирован, утвержден райкомом партии. Для второго мы можем и Грушки ввести в план, а сейчас лучше не проси: дружба дружбой, а служба службой.
По заданиям Чинарина Николай побывал на паровой мельнице, на элеваторе, ходил на колхозные сортировочные пункты зерна. Всюду он собирал материалы для первого номера газеты.
Как-то солнечным утром, проходя мимо товарного состава, Николай увидел в вагонах с открытыми дверьми и возле вагонов мужчин и женщин. Судя по одежде, это были местные жители — казаки и казачки. На лицах у всех было какое-то общее выражение озабоченности. Они о чем-то оживленно говорили, но, когда Николай проходил мимо, умолкали. Он пошел дальше, и позади снова возник негромкий разговор. Это его удивило. «Стесняются… Почему?» — подумал он. Вот высунулся из вагона человек в черном романовском полушубке, накинутом на широкие плечи. Его высокая фигура показалась Николаю знакомой. «Кто это?» — с интересом подумал он, вглядываясь в чуть ссутулившуюся спину. Видимо, чувствуя его взгляд, человек повернулся к Николаю лицом. Это был Семен Сазонович. Глаза их встретились. Лицо Бородина было очень постаревшим и необычно бледным. Он сделал вид, что не узнал Николая, и отвернулся. «Какой-то он сегодня, совсем на себя непохожий», —-подумал Николай.
— Что это за народ? — спросил Ястребов у милиционера, оказавшегося здесь же с винтовкой.— Переселенцы, что ли?
— Переселенцы.— Милиционер усмехнулся.— Раскулаченные…
На улице в тот же день Николай увидел двух мальчик шек лет по пяти. Один кричал:
— Ишь какой колхозник… Твой отец — дурак!
А другой отвечал ему с не меньшей яростью:
Позже Николаю рассказали как будто смешное: три брата комсомольца из самой что ни на есть бедняцкой семьи, чтобы быть похожими на интеллигентов, где-то раздобыли одну пару очков. Щеголяли в них попеременно. Один идет по улице в очках, ног под собой не чуя, а два других то и дело обгоняют его да выходят навстречу счастчливому обладателю очков. Уж очень интересно поглядеть на «антиллигента» — не какого-нибудь, а братца своего родного.
«Как хочется людям вырваться из векового мрака!» — думал Николай, слушая эту историю.
С того момента, как в вагоне среди раскулаченных увидел Семена Сазоновича Бородина, Николай понял: с прежней жизнью кончено. Он понимал: коллективом работать выгодней, в дальнейшем основную тяжесть труда люди переложат на плечи машин.
«А дальше что?» — задавал он себе вопрос.
«Богаче будем жить, но не в этом главное. О народе нужно думать, обо всем народе, чтобы каждый имел возможность учиться, как вот я учусь… Но, конечно, не впроголодь… Чтобы все народные таланты развернуть. Не только тех, кто вырвался вперед, а всего великого народа, разбуженного революцией».
За день до выхода первого номера газеты Николай и Чинарин решили выехать в один из ближайших колхозов.
— Может быть, все-таки поедем в Грушки,— предложил Николай.
— В Грушки незачем. Там дело налажено, артель работает не первый год. Поедем в новый колхоз.
Часов в двенадцать дня они приехали в артель «Светлый путь». До самого вечера ходили по хутору. Побывали на животноводческих фермах, в кузнице, в шорной мастерской, в полеводческих бригадах.
В этот день Николай только два раза вспомнил Таню. В первый раз, когда вошли в помещение молочнотоварной фермы и он увидел девушку-доярку, лицо которой чем-то отдаленно напоминало Таню; во второй раз — уже ночью, когда они с Чинариным и посыльным хуторского Совета шли на квартиру. В темноте, шагая наугад, он думал: «А что теперь Таня делает? Она, наверно, обо мне и не вспоминает… Что я для нее?»
Через хату, где при настольной лампе вечеряла семья хозяина, Чинарин, а за ним и Николай прошли в горницу. В этой просторной комнате горела висячая лампа, а перед иконами — фитилек лампадки. У одной из стен — большая кровать, покрытая лоскутным разноцветным одеялом. Мебель такая же, какую Николай видел не раз в казачьих куренях. Большая тень от круга, прикрепленного к лампеу лежала на потолке, тускло блестели в неярком свете цветы, нарисованные масляными красками.
Николай и Чинарин разделись и только сейчас почувствовали усталость, вспомнили, что не обедали. Им подали борщ, полную тарелку мяса, миску кислого молока и не меньше дюжины румяных пирожков с картошкой и луком.
Когда они заканчивали обед, в горницу вошел хозяин, казак лет пятидесяти шести, с широкой бородой и дружелюбным взглядом. Он сел на сундук, достал кисет, не торопясь закурил, молча поглядывая на Николая и Чинарина.
— Ну что, отец, колхозник? — дружелюбно спросил его Чинарин, отодвигая от себя тарелку с оставшимися пирожками.
— Да, в колхозе.
— Как дела?
— Да ничего.— Хозяин помолчал, подержал бороду в руке, затем проговорил: — Вот я, товарищи, хотел спросить у вас об одном дельце. Можно?
— А почему же неспросить? — сказал Чинарин.— Говорите.
— Вот турсучат меня за старое…
— За что?
— Да атаманом я был… Давнее это дело.
— Ну?
— А мне из-за него доверия нет. Небо с овчинку кажется…
— А когда вы были атаманом? — спросил Чинарин.
— Да еще в восемнадцатом… И атаманил-то, как во сне.
— Та-а-к, — задумчиво протянул Чинарин.— В восемнадцатом, говорите?
— Да, в восемнадцатом,— повторил хозяин.
Как будто ничего особенного в этом разговоре не было, но Николай почувствовал, что Чинарин сильно взволнован этим очень обыкновенным разговором.
Андрей как-то странно улыбнулся, и эта улыбка совсем не походила на ту обычную, добродушную, какую Николай привык видеть у него на лице.
«Что-то тут есть,— подумал Николай.— У добряка Чинарина даже шея кровью налилась…»
Потупив взор и явно сдерживая голос, Чинарин спросил хозяина:
— Это когда красновцы занимали ваш район?
— Да, да,— обрадованно подхватил бородач.— Меня и атаманить-то заставили насильно. Оно все и было-то, как во сне,— повторил он, видимо, понравившееся ему сравнение.— А теперь турсачат меня за это, покою не дают.
Чинарин вдруг решительно встал. Пунцовая краска от шеи распространилась на лице. Хозяин почувствовал что-то недоброе в этом движении, и в глазах его появился страх. Быетро затушив цигарку, он в замешательстве стал мять ее пальцами.
— Как ваше имя и отчество? — почти шепотом спросил Чинарин. Он как будто задыхался.
— Василий Федорович,— дрожащим голосом проговорил хозяин.
— А вы, Василий Федорович, не помните такого случая? К вам на хутор из шахтерского поселка пришли старик и подросток, чтобы обменять кое-какое барахлишко на продукты? Это было в восемнадцатом. Не помните?
Хозяин молчал, и лицо его темнело.
— Не помните? — уже громко повторил Чинарин.— А потом вы отобрали это последнее барахлишко у старика и подростка. Они плакали, а вы дали им по шеям да сказали еще полицейским, чтобы те добавили. И когда их, плачущих, повели полицейские, вы стояли на крыльце, смеялись да еще кричали: «Вот вам, краснопузые сволочи! Понаменяли?» Не помните?
Хозяин вдруг кулем повалился в ноги выходившему из-за стола Чинарину.
— Прости, прости Христа ради! — Он плакал, и слезы мешали ему видеть. Как слепой, он старался поймать ноги Чинарина, чтобы обнять их. А Чинарин, повернув разгоряченное лицо к Николаю, сказал:
— Мы с ним старые знакомые! Это он мне тогда давал по шее, у меня отнял барахлишко… А ну, Никола, пойдем к председателю Совета. Что это они нас с тобой вздумали поставить к врагу Советской власти!
В ту же ночь Василий Федорович был раскулачен, направлен на станцию Суходольская и попал в тот же поезд, в котором Николай видел Бородина.
В первом номере «Трактора» — так по решению бюро райкома назвали газету — была помещена корреспонденция Чинарина и Николая с резкой критикой руководства колхоза «Светлый путь». Николай, кроме того, написал небольшой очерк под названием «Старые знакомые», в котором рассказал, за что раскулачили Василия Федоровича. Автором передовой статьи был секретарь райкома Завьялов, к которому Николай с каждым днем проникался все большим уважением.
Николай был очень удивлен, когда Чинарин, составив макет первого номера газеты, вдруг сказал:
— Вот в этой статье не хватает семи строк. Допиши.
— То есть как это «допиши»? — изумился Николай. — Статья окончена. О чем же тут еще писать?
Чинарин терпеливо объяснил ему, что этого требует макет газеты, и добавил:
— А вот в этой заметке нужно четыре строки сократить.
— Сократить? — еще больше изумился Николай.— Как это «сократить»? Я еще понимаю — дописать, а как же сократить? Заметка после сокращения испортится!..
Чинарин усмехнулся, тут же искусно сократил заметку, и Николай увидел, что от этого она не только не испортилась, а даже выиграла.
— До сих пор ты был читателем, а теперь стал журналистом,— сказал Чинарин.— Учись делать газету!
Выход первого номера «Трактора» был событием не только для коллектива редакции. В райкоме партии, в райисполкоме, в МТС, на предприятиях, в учреждениях и в колхозах провели собрания, посвященные рождению своей газеты.
В тот же день Николай направился в Грушки.
Странное дело, как ни тяжело жилось ему в Грушках, как ни горько было вспоминать о годах батрачества, всякий раз, попадая сюда, он испытывал радость, что снова видит эти курени, сады, гумна, колодцы с длинными журавлями, крикливых черных грачей, скворечницу над сараем, спокойную степную речку с высокими крутыми берегами, закованную прозрачным льдом, и осыпанный снегом лес на берегу. Около одного из колодцев Николай увидел полную, с чуть вздернутым носом женщину. Она поила корову и телка-однолетка. Не выпуская ведра из рук, посмотрела на Николая, и он посмотрел на нее. Глаза их встретились, и женщина, уронив ведро, всплеснула руками:
— Батюшки, Миколай Петрович!
«Ну, Гулюшка узнала,— удовлетворенно подумал Николай. — Теперь и Самсону Кирилловичу и всему хутору будет известно».
А женщина заторопилась.
Напоив скотину, она так стала стегать ее хворостиной, что телок сломя голову влетел в хлев.
Женщина зашла в низенький курень, приоделась — мужа ее, Самсона Кирилловича, не было дома, — повернулась раза два перед зеркалом и пошла к соседке.
Едва она успела зайти к ней, сказать «здорово живете», едва успела присесть на край табурета, как полилась ее изумленная речь:
— Миколай-то Петрович Ястребов пришел на хутор. Пою сейчас комолую и летошника, а он, куманюшка, проходит мимо и кланяется мне. Я тоже поклонилась, да не узнала сначала, а потом… Так у меня ведро и вылетело из рук! Какая страсть-то, милая моя. А на нем фуфайка простенькая и сапожищи, наверно, дегтем намазал. И похудел, и вытянулся.
— Зачем это он? Ведь он учится в Ростове. Может, показалось тебе?
— Что ты, кума? С места не сойти, он. Чтоб мне сквозь землю провалиться, он! — женщина даже перекрестилась.
Весть быстро перекинулась с одного конца хутора на другой. Казаки сначала не верили. Мало ли что могло показаться Марфутке Гулюшке, не особенно-то ей доверяли… Но сейчас Марфутка Гулюшка так божилась, что нельзя было не поверить.
— Придется вечером в правление сходить. Новостей-то, наверное, там теперь много,— говорили казаки.
— А кто весть-то принес?
— Да Марфутка Гулюшка на хвосте.
— Ха-ха-ха-ха! Надо будет сходить вечером, узнать.
Николай вошел в родной курень. Мать хлопотала у печи, Степа собирал в сумку книжки. Мать и Степа кинулись к Николаю, стали обнимать и целовать его. При этом они говорили какие-то слова, но Николай не понимал их смысла, все глядел в родные лица, а сам смеялся, и, кажется, говорил что-то бестолковое, и обнимал мать и Степу.
— А где же Алексей? — спросил наконец он.
— В бригаду ушел,— успокоила Марья Ивановна.— Беги-ка, Степа, скажи ему.
Степа схватил теплый кафтанишко, шапку и метнулся в сени, одеваясь на ходу.
Алексей пришел так скоро, словно поджидал у ворот. В буденовке, в шинели, рослый, широкоплечий, с военной выправкой.
Обнялись на пороге. Долго от волнения ничего не могли сказать.
Марья Ивановна меж тем собрала обед, хотя семья недавно пообедала. Кто его знает, сын-то, может быть, голодный пришел? Как же не собрать на стол?
За стол сели все три брата.
— Четыре года не виделись,— торжественно выговорил Алексей.— Выпить, что ли, по русскому обычаю, а?
— Я не пью,— сказал Николай.
— Да и я не охотник, а тут, знаешь… Я, брат, секретарь партийной ячейки, и выпивать мне не положено. Воздерживаюсь. Ну а по такому случаю можно.
Марья Ивановна смотрела на старших сынов, на Степу и радовалась. Кажется, ничего большего она не желала, как только собрать их вместе и вот так порадоваться на них. Сколько она горя приняла, сколько нужды перетерпевала, а вырастила вот, в люди вывела! Старшие сыны похожи друг на друга, только Николай чуть потоньше, и лицо у него бледней, а у Алексея твердости больше в голосе и во взгляде.
Вскоре пришел Самсон Кириллович.
— А ведь Гулюшка-то меня не обманула.— Он был все такой же бравый, лицо свежее, румяное; усы на кончиках чуть посветлее; в глазах радостный блеск, а на бровях будто налет мельничной пыли.
— Полнеть начинаешь, Самсон Кириллович,— проговорил Николай.
— Это на него так бригадирство влияет,— сказал Алексей.
— Полнею,— смеясь, согласился Самсон Кириллович.— Пока первенство в колхозе держу со своей бригадой и никому не думаю уступать. Почему бы мне и не полнеть? — В голосе его послышались довольные нотки.— А ты, Коля, как попал сюда?
— В командировку. У нас почти всех студентов старших курсов рассылают по аулам да по станицам. Вам в помощь.
— В помощь!— Самсон Кириллович как-то неопределенно гмыкнул.— Тут один из ваших помогает…
— Кто? — спросил Николай.
— Никита Валков.
— Никита?!
— Он,— подтвердил Самсон Кириллович.— В моей бригаде двухчасовую речь закатил о мировой революции. Когда казаки расходились, то говорили: «Всем хлеб нужен. Всем есть надо. Вот и его, видно, за эти речи держат».
— А вообще много народу к нам без толку направляют,— сказал и Алексей.— Некоторые только и знают, что нажимать.
— Как нажимать?
— А очень просто… Вот со мной на днях городская барышня ехала на подводе. Разговорились, я спрашиваю: «Зачем вы к нам едете?» «Нажимать»,— отвечает она. «А вы понимаете что-нибудь в сельском хозяйстве?» «А что,— говорит,— в нем понимать? Нажимать нужно, чтобы лучше работали, вот и вся премудрость».— В голосе Алексея послышалась горечь.— Уполномоченные, как пташки залетные, промелькнули — и нет их, а дел наделают — не расхлебаешь! Вот, к примеру, один хлыщ приезжал, накричал на Василия Марковича. Тот поехал в район, чтобы убрали этого хлыща, и попал под кулацкую пулю…
— А кто был этот хлыщ-то? — спросил Николай.— Не узнали?
— Как не узнать? Михаил Андреянович документы проверил у него: уполномоченный окружкома Степанюк.
— Степанюк?! — удивился Николай.— Ну, тут, видать, что-нибудь посерьезнее.
Вечером Николай и Алексей направились в правление колхоза.
Молодой месяц ослепительно блестел; будто подожженные им, вспыхивали фосфорическим светом белые, медленно идущие к хутору облака.
Шли братья узенькой твердой тропкой. Чуть сверни с этой тропки, сейчас же попадешь в грязь, а здесь хуторяне уже успели притоптать землю за первые весенние дни.
Тропка вела к дому, который недавно принадлежал Бородину. Сквозь плотно закрытые ставни пробивалась узкая полоска яркого света. Сначала Николай не понял, в чем дело, только отчего-то сразу ухудшилось настроение. Когда же он огляделся, то вдруг сообразил, где находится. Этот дом не раз вставал кошмаром в памяти, давил, словно тяжелой глыбой. Он тот же… Кажется, не постарел, не изменился. Снаружи тут все, как и было. Почерневший от времени забор, бесшумно шевелящиеся скелеты голых деревьев палисадника…
Взгляд Николая сделался суровым. Говорить он старался спокойно:
— Видел я на станции Семена Сазоновича…
— Да, с ним мы расквитались. Жалко вот, Митюню упустили.
— Так и не нашли?
— Как, скажи, потонул!
Вот знакомые ворота, ступеньки высокого крыльца. Рука Николая безошибочно потянулась к железной скобе, будто только вчера он был здесь. Отворив дверь, Николай попятился — в глаза ударил яркий свет. Раньше здесь горела пятилинейная лампа, да и ту хозяйка старалась прикрутить, экономя на керосине. Бывало, Бородина кизяки жжет, чтобы не переводился огонь, но бережет спички. Как же, за них надо платить деньги! А теперь на столе лампа «молния»… С волнением Николай посмотрел на полати, где он спал два года, на русскую печь с печуркой, где, бывало, сушились чулки и варежки, оглядел комнату: ни икон, ни семейных портретов, ни старой картины с пожаром Москвы. Все тут новое. Портреты вождей, плакаты, стенная газета… На месте обеденного стола большой письменный стол. А главное, люди теперь здесь другие.
Раньше, живя у Бородина, Николай редко бывал в большой горнице. Для него это была «запретная зона». А в малой и совсем не бывал, только слышал, что есть такая у Бородиных. Сейчас он с удовольствием подумал, что может свободно войти куда угодно.
Алексей познакомил брата с председателем колхоза, крупным мужчиной средних лет. Его недавно райком прислал на хутор. Поговорили. Заметив на столе газеты «Правда» и «Трактор», Николай спросил:
— Вовремя доходят сюда? — И, не слушая ответа, без всякой связи с тем, что сказал, подумал: «Да, с батрачеством кончено. Никогда больше не будет батраков!»
Перед его мысленным взором возникали картины недавнего прошлого: как в этот дом они приходили с обыском, как он с винтовкой в руках осторожно пробирался на чердак, стрелял в бандита, втянувшего голову в плечи и загребавшего руками. И точно молния, вспыхнула мысль: «Так это же Никита Валков! Вот где мы встречались!» Николай взволнованно встал и сейчас же опять сел. «Откажется, как я докажу?»
А народ все прибывал и прибывал. Спрашивали о городе, о коллективизации, о том, что происходит за границей.
Николай глядел на знакомые лица чубатых хуторян, на их одежду и обувь: те же ватные поддевки и сапоги из юфты, тот же самосад и говорят так же. «Но нет,— тут же возразил он себе,— это колхозники. Никогда, никогда больше не будет батраков! А бандит Никита пробрался в вуз…»
Мимолетно встретив враждебный взгляд пожилого рябого казака, Николай подумал: «Да ведь это же брат Семена Сазоновича. Павел Сазонович, тоже вроде Никиты…»
Трофим Иванович Завьялов, плотный неутомимый человек, был в глазах Николая каким-то непогрешимым, кому незнакомы ни печали, ни ошибки. Николай не раз слышал его речи. Казалось, одного слова Завьялова достаточно, чтобы люди взялись за любое дело и выполнили его. Теперь Николаю частенько приходилось встречаться с Трофимом Ивановичем, и он понял, что хотя это человек незаурядный, но и у него есть свои слабости. Перегибов, например, он допустил не меньше, чем другие.
Однажды утром с московским поездом прибыла в Суходольскую газета «Правда» со статьей Сталина об искривлениях в колхозном движении. А часа через два Завьялов пришел в редакцию «Трактора».
— Вот в чем дело, товарищи,— сказал он журналистам.— Кое-кого мы в погоне за ста процентами заставляли насильно вступать в колхозы. Есть недовольные. Кулачество мы ликвидировали, а подкулачники и оппортунисты всех мастей еще остались. Они пользуются этим недовольством. Сейчас люди могут шарахнуться из одной крайности в другую. От имени бюро я прошу вас поехать в колхозы, прочитать эту статью и помочь местным коммунистам… чтобы разброда не было.
Николай поехал в Роднички.
Нужно было как можно скорее проехать семнадцать верст до хутора. А весна в этом году была ранняя, снег сошел несколько дней назад, и колеса вязли в непролазной грязи. Две сильные лошади с трудом тащили повозку. По краям дороги, будто увязнув, стояли телеграфные столбы и жалобно звенели проводами, словно призывали на помощь.
Возница, парень одних лет с Николаем, свирепо кричал на лошадей:
— Н-н-о-о-о!— и стегал кнутом то одну, то другую.
Жалея взмыленных лошадей, Николай соскочил с подводы и сразу же увяз в густой грязи. Сапоги сделались как гири, и он с трудом прошел метров пятьдесят-шестьдесят. Пришлось снова взобраться на повозку.
«Ах, черт!— огорченно думал Николай.— Ведь многие могут разбежаться из колхоза, если не разъяснить им, что надо!» Он наивно думал, что если он сейчас же не окажется в Родничках, то колхоз развалится, и все придется начинать заново.
Тяжело дыша, остановились лошади.
— Ведь и осталось-то немного. Вот от той яблоньки как раз четыре версты,— возница показал на одинокое разрогатившееся дерево.— Гора уже за хутором, а это мельница ихняя. Дворов не видать: они возле самой речки, в низине.
Николай и сам видел верхушку ветряной мельницы и за нею гору Родничкову всю в пестрых морщинах.
— Вот что, Митроша,— сказал Николай вознице.— Ты помаленьку добирайся до хутора, а я пойду… Мне скорей надо!
— Куда вы! Ног не вытащишь из грязи!
— Да ничего, ты о остановками, а я потихоньку, но без остановок. Понял? Итак, я пошел.— Николай соскочил с подводы.— Буду ждать тебя на хуторе,— кивнул он в сторону мельницы.
Подвода осталась позади. С огромным трудом выворачивая из грязи пудовые сапоги, Николай упрямо продвигался вперед. «Может быть, нам еще не одна такая дорога предстоит,— думал он. — Ничего, дойдем! Нас не испугаешь!»
Потом его стала беспокоить другая мысль: «Если я надолго останусь в Суходольской, то когда же встречусь с Таней? Написать ей? Ждать, как советует Андрей? Пожалуй, стоит ждать».
Степь дымилась, чернела. Кое-где пробивались первые, зеленя. Все это было близко сердцу Николая, радовало его, а идти все-таки было тяжело. Он остановился, отер ладонью пот со лба, вздохнул полной грудью, оглянулся назад. Лошади, возница и подвода слились теперь в какое-то единое серое пятно.
«Ого! — радостно подумал Николай. — Не меньше двух верст прошел. Теперь совсем близко до хутора — рукой подать». И снова пошел, приказывая себе: «Двигай, Николай, двигай! Иди и до самых Родничков не останавливайся». Еще некоторое время а трудом переставлял ноги.
«Когда же мы дороги-то сделаем настоящие!»
В правлении колхоза кричало разом десятка два мужских и женских голосов. При входе Николая все замолчали и смотрели на его мокрое лицо и волосы, на распахнутую грудь. Николай увидел Ивана Тимофеевича с очень оживленными глазами, старика Константина Васильевича с ухмылкой, прячущейся в бороде, и много других знакомых и незнакомых людей. Тяжело ступая, он подошел к столу.
— Здравствуйте. Кто из вас председатель?
Ему указали на низкорослого мужчину с черными усами. Познакомились. Председатель не скрывал радости — этот студент прибыл вовремя! А то попробуй разберись, что тут к чему.
Сквозь толпу к Николаю протискался красивый блондин. Кивая в его сторону, председатель сказал:
— Это наш новый секретарь партийной ячейки. Познакомьтесь.
И сейчас же началась жаркая беседа.
— Так что же вы надумали? — спросил Николай, обращаясь ко всем присутствующим. Он задержал взгляд на чисто выбритом лице Ивана Тимофеевича, на бородатом и хитроватом — Константина Васильевича.
— А ничего такого,— степенно ответил Константин Васильевич, поглаживая пышную бороду. — Тут Никита Валков тоже уполномоченным приехал. Шепнул вроде кое-кому, что Сталин приказал колхозы распустить. Ну, народ и заволновался.
— Никита? — переспросил Николай.
— Да ведь я же давно говорил тебе, помнишь? А опосля того тут его дружков раскулачили…— Константин Васильевич замялся.— А он теперь у нас уполномоченным, вроде бы власть…
— Ну, с этим мы разберемся,— пообещал Николай и стал разъяснять, что колхозы никто не распускает, наоборот, партия призывает к укреплению колхозов, так как артель — единственный путь для крестьянства. «Ну, на этот раз Никита от меня не уйдет!» — думал Ястребов.
— А вот если я хочу уйти из колхоза, вернут мне скот? — спросил Николая незнакомый пожилой, казак с крупной родинкой на щеке.
Николай не знал, как ответить. Думалось ему: следовало бы возвратить, но так ли это?
— А с землей как?
И он снова встал в тупик. В самом деле, как же быть с землей тех, кто вышел из колхоза?
«Я же приехал статью читать»,— думал он, собираясь с мыслями, и старался отвечать, руководствуясь примерами из жизни Грушек. Он часто обращался за советами к секретарю партийной ячейки, к председателям Совета и колхоза, но они тоже отвечали на вопросы, как им вздумается, и во многом противоречили друг другу.
«Вот тебе и уполномоченный приехал!— зло высмеивал себя Николай.— Тут и во враги народа попадешь и в перегибщики… Сам черт не разберет!»
Несколько раз он принимался зачитывать отдельные положения статьи «Головокружение от успехов». Но, казавшаяся по логике и доказательствам совершенно железной, она не отвечала и, вполне естественно, не могла ответить на все практические вопросы.
Эта необычная беседа затянулась почти до рассвета. Утром казаки снова пришли в хуторской Совет, и беседа продолжалась.
И на вторую ночь шел крупный разговор, домой никто не уходил. Среди ночи неожиданно вдруг раздались резкие, пьяные голоса:
— Чего тут гутарить с ними!
— Обманули!.. Распушай всех!
«Что случилось?» — с испугом подумал Николай.
Секретарь партийной ячейки поспешно встал, с трудом пробираясь сквозь толпу, направился в коридор. Когда он вышел, в горнице наступила тишина, зато там, в коридоре, послышались громкие голоса. Минут через пятнадцать секретарь вернулся и сел рядом с Николаем.
— Какой-то сукин сын два ведра самогона принес!— зашептал он на ухо Николаю.
Кто принес самогон, так и не удалось узнать, но зачем была затеяна эта попойка, Ястребову было совершенно ясно. Он по-прежнему старался разъяснить политику партии, уговаривал, а местные руководители кое-кому и угрожали. На следующий день все же двенадцать хозяев хутора Роднички подали заявление о выходе из колхоза. В полдень возле колхозной конюшни дело дошло до драки. Новые единоличники требовали обратно своих быков и лошадей, а колхозники не давали. Николаю с председателем Совета и председателем колхоза пришлось идти к конюшне и на месте разбирать, кто прав, кто виноват.
Хорошо понимая, насколько все это сложно, Николай старался убедить и ту и другую стороны, успокоить их, разобраться во всем по существу. Он знал, что еще немало обрезов припрятано у казаков и теперь они могут заговорить. Но он хорошо знал и другое: большинство населения, особенно молодежь, верит в Советскую власть и верит в колхозы.
— Надо убеждать людей,— пытался внушить он руководителям колхоза, Совета и партийной ячейки. Но самый нахрапистый из местных руководителей, председатель колхоза, совсем не считался с Николаем, да и других гнул на свою сторону.
— Никому ничего не возвращать! — говорил он. — Теперь это колхозные быки и лошади. Они уже числятся у нас на балансе!
Перед вечером Николай, наскоро пообедав у Ивана Тимофеевича, собирался в гости к Анюте — она еще вчера приглашала, но дядя задержал племянника. Он спрашивал совета: остаться в колхозе или выписываться.
— Ты мне по-свойски говори, начистую. Тут, парень, такие дела творятся…
Слушая дядю, Николай только ахал… Оказывается, незадолго до его приезда, небогатых казаков, упорно не вступающих в колхоз, сажали в тюрьму и при этом обвиняли, что они якобы «вредную агитацию пущают».
«Да знает ли обо всем этом Завьялов?!» — задавал себе вопрос Николай. Он мысленно начинал вести разговор о таких перегибах с секретарем партийной ячейки хутора Роднички.
«Приходится и через колено ломать, верхи требуют стопроцентной коллективизации»,— пожимая плечами, утверждал секретарь.
«Но сажать в тюрьму середняка!» — говорил Николай.
«Все вы умные со стороны. А как бы ты поступил на нашем месте? Одно дело — в стороне, а другое — в бороне…»
«Завтра же доложу обо всем этом Завьялову!— решил Николай.— Тут могут не только новых дров наломать, совсем завалить дело!»
— Старых друзей забываешь,— с укоризной встретила его Анюта.— Сколько раз приезжал на каникулы, был у Ивана Тимофеевича, а к нам и дорогу забыл…
Николай молчал.
На чисто выбеленных мелом с синькой стенах он увидел те же репродукции с картин, на окнах — те же занавески. Разве вот не было тогда этажерки с книгами да цветов на подоконниках.
Анюта была приветлива, как и тогда, и движения ее были так же плавны. Ее черные красивые глаза смущали Николая, и легкие подвижные морщинки, появляющиеся то на углах красных полных губ, то на белом высоком лбу, были так знакомы, что, казалось, он только вчера видел их. И когда он теперь видел глаза Анюты, то невольно думалось, что в каком-то уголке его души все еще живет память о ней, а возможно, даже больше, чем просто память.
Но теперь он говорил с ней свободно, не чувствовал себя скованным, да и Анюта ему казалась проще, будто она сошла с высоты на землю.
— Как живешь? — спросил Николай.
— Да что мне рассказывать? Жизнь у меня простая. С утра ухожу в школу, после обеда и по вечерам работаю с населением. И ликбез, и коллективизация, и займовая кампания — все проходит через нас, учителей. Раз в месяц езжу в Суходольскую за зарплатой — я же теперь начальство, заведующая школой. Каникулы проходят однообразно — приходится помогать маме по хозяйству.— Потом с горечью в голосе добавила:— Кое-кто из районных руководителей не прочь поухаживать за мной. Ужасно противно! — Анюта вздохнула.— Вот так и живу.
— А скажи откровенно, вы совсем разошлись с Кондратом?— спросил он.
— Совсем! — Анюта утвердительно кивнула головой. Николай при этом почему-то обратил внимание на ее новую прическу: черные волосы у нее были собраны в красивый тяжелый узел на затылке.
— Он оказался… — она не договорила. — Я в нем жестоко ошиблась…
— Вообще ты поторопилась с замужеством,— жестко упрекнул ее Николай.
— Я и сама не знаю, как все это произошло,— Анюта горько улыбнулась.— К сожалению, мы узнаем и себя и других людей только с годами.
Анюта принесла из соседней комнаты самовар, заварила чай, угощала Николая конфетами, свежими сливками, домашним печеньем. За чаем Анюта вернулась к прерванному разговору. На ее лице, которое Николай всегда знал спокойным, появилось новое, незнакомое ему оживление, глаза заблистали не по-обычному.
— Но я не особенно горюю. Все еще можно исправить. Вот у дяди твоего Ивана Тимофеевича во дворе стоит скворечница,— Анюта подняла на Николая красивые глаза.— Не заметил?
— Как же, помню,— настороженно сказал Николай, не понимая, к чему клонит Анюта.
А она, все так же глядя на Николая, понизив голос, проговорила:
— Эта скворечница наклонилась к сараю.
— Она уже давно наклонилась, несколько лет назад,— подтвердил Николай, чувствуя, что Анюта сейчас скажет о чем-то важном.
Анюта глядела теперь широко открытыми глазами:
— А ведь можно ее выпрямить?
— Да, конечно…
И вдруг ему стало жарко. Рядом с Анютой перед его мысленным взором возник облик Тани. Николай вспомнил ее ласковый взгляд, голос, белые руки, на которые он с такой любовью смотрел, когда в последний раз был с Афанасием в квартире Моисейченко и Таня разливала чай.
Николай встал из-за стола.
— Можно закурить? — спросил он.
Она разрешила.
С папироской Николай отошел к окну, открыл форточку. В комнату хлынул свежий сырой воздух, стали слышней шаги на улице, женские голоса, лай собак. Эти звука как будто отрезвили Николая, и он вернулся к столу спокойным. Он хорошо понимал, какого ответа ждет от него Анюта, и потому сказал, не глядя на нее:
— Я перед отъездом из Ростова слушал в концерте «Шехерезаду». Музыка вызвала такие картины Востока, что мне не хотелось видеть настоящий Восток. Может быть, тут я не прав. В другое время я, пожалуй, с удовольствием поеду посмотрю невыдуманный Восток. — Он пытался говорить иносказательно, но скоро понял, что надо не «философию» разводить, а отвечать на вопрос. Покраснев, он взглянул на Анюту. Его охватил страх, и вместе с тем появилась решительность, которой ему сначала недоставало.
— Скворечницу, конечно, можно поправить, это немудреное дело,— проговорил он.— Но если бы ты знала, как горько и обидно, что разговор этот происходит сейчас, а не три-четыре года назад.
Николай знал, что не такого ответа она ждет, а в мыслях рядом с Анютой все время стояла Таня, и он ни на одно мгновение не мог забыть о ней.
Возле калитки Анюта, задерживая в своей руке его руку, спросила:
— Зайдешь еще?
— Не знаю,— ответил он, понимая, что если придет сюда еще, то может навсегда связать свою судьбу с судьбой Анюты.
Николай возвращался к дому Ивана Тимофеевича медленными шагами. Хутор спал. Только кое-где желтели огоньки да изредка раздавался лай собак. Ночь была холодная, туманная, но Николай не чувствовал холода.
«Растревожил я ее,— думал он.— Сам завел разговор о Кондрате. Она, конечно, не виновата, что жизнь не удалась. Человек она хороший, искренний, и я, может быть, ухожу от своего счастья? Возможно, потом буду всю жизнь жалеть, что вот сейчас ухожу».
Но, упрекая себя, раздумывая, Николай в то же время твердо знал, что больше не пойдет к Анюте.
Возвращаясь с хутора Роднички в Суходольскую, Николай попросил подводчика завернуть в Грушки.
Он входил в родной курень, горестно думая, что в такие решающие для колхозов дни нет Василия Марковича. Но как только Николай увидел спокойные лица Алексея и матери, он понял, что на хуторе все в порядке.
— В Родничках,— сказал Николай,— налицо перегибы и полнейшая неразбериха. А тут у вас как будто все в порядке.
Алексей догадался, о чем его спрашивает брат. Закуривая папироску, ответил:
— Да нет, немножко и у нас пошумели. Родяня и Зиновей Апряткин вышли из колхоза. Но все это ненадолго. Подойдет сев — и Зиновей снова будет в колхозе. Что касается Родяни, то мы еще подумаем, принимать ли этого лодыря.
— А на хуторе Роднички такие страсти разгорелись…
— У нас здесь народ потверже…
Всего на несколько минут забежал Николай домой, но хотел он этого или не хотел, пришлось съесть яичницу и выпить с подводчиком по кружке холодного молока.
Алексей, накинув на плечи шинель, вышел проводить брата.
Широко шагая позади подпрыгивавшей на кочках телеги, братья разговаривали обо всем, что волновало их и о чем они могли говорить только наедине. Николай с чувством грусти рассказывал Алексею, как встретила его Анюта.
— Тянет меня к ней,— со вздохом заключил он.
— И меня к Паране тянет,— признался Алексей.— Вот хочу выбросить ее из сердца, а не могу.
— А в чем же дело? Может быть, людей стесняешься?
Алексей, нахмурив брови, глухо сказал:
— Люди ни при чем. Обида у меня… Гордость… Говорить об этом тяжело. — На лбу и под глазами старшего брага показались незнакомые Николаю морщинки. Николай подумал о том, как за годы их разлуки изменился Алексей.
— А как она к тебе относится?
— Не знаю. Встречался я раза два с ней, на ии о чем не говорили. Она какая-то теперь молчаливая стала, как все равно подменили ее. Вижу только одно: стыдится она на меня глаза подымать. Но хватит об этом. Сколько времени не виделись, и как будто у нас других речей нет.
— Женился бы ты на Паране,— серьезно посоветовал Николай.
— Нет, Митюни ей не прощу!— На широких скулах Алексея появился густой румянец.
— Смотри, тебе видней.
Шли некоторое время молча. У того кургана, возле которого много лет назад был убит Лекся Гущин, братья попрощались. Алексей пошел в Грушки, задумчиво свесив голову, Николай быстрее зашагал за подводой, спускавшейся в овраг.
Ястребов написал Углову подробное письмо о поведении Никиты Валкова и Степанюка, которых Суходольский райком партии досрочно откомандировал в университет.
Прошло после этого недели две, и Николая срочно вызвали в Ростов. Он так торопился, что перед отъездом даже не побывал в Грушках.
И вот он в вагоне. Опять его путь лежит в город, ставший теперь Николаю родным. Он знает, что через каких-нибудь три месяца будет сдан последний зачет и тогда новые дороги поведут его в большую жизнь.
«Ни о чем ты, Ростов, не грустишь»,— с волнением подумал Николай, представляя себе улицу Энгельса, высокое университетское здание, переносясь мысленно на Пушкинскую улицу, к Тане. Вот ее дом, и деревья в инее, какими он видел их тогда, после той счастливой ночи.
Изменился Ростов за эти годы, иным стал его облик. На просторных окраинах раскинулись новые заводы, построены новые кварталы и поселки. Когда-то Николай видел на Буденновском проспекте полуразрушенное многоэтажное здание, в котором находили пристанище беспризорники.
Тогда беспризорники встречались всюду. В холодное время года многие из них спали в еще не остывших котлах, где днем варился асфальт. Поэтому волосы, лица, лохмотья подростков, покрытые трудно смывающимся асфальтом, были черными.
Но за эти годы многоэтажное здание было отремонтировано, в нем теперь — гостиница. И беспризорные больше не встречаются. Одни из них живут, в детских домах, другие, повзрослей, работают на фабриках, заводах или учатся на рабфаках, в вузах, в техникумах. А на центральной улице, рядом с городским садом, над зданием, занимающим целый квартал, реет красное знамя. Здесь крайком партии и крайисполком. Здесь, в крайоно, четыре года назад Николай получил путевку в вуз. Здесь днями и ночами в кабинетах горят огни. Это революционный штаб большого края, не уступающего по величине многим европейским государствам.
…И опять перед глазами Николая — Таня и Редько.
«Наверно, у нас уже не будет таких дружеских отношений с Афанасием»,— подумал Николай.
«Так, так, так»,— будто отвечали его мыслям колеса вагона.
«Вот именно так. В дружбе, как и в любви, ничего не может быть наполовину. Друзья — это вроде как бы один человек. От себя-то ничего не скроешь! Когда за что-нибудь бывает совестно перед собой, от своей совести деться некуда. Так и в дружбе. Подумал о чем-нибудь товарищ — должен знать и я, о чем он подумал. И наоборот. Вот это дружба! А если тот или другой скрыли что-нибудь, тут уж нет дружбы».
Когда поезд остановился в Новочеркасске, Николай живо вспомнил, как он бродил по этому городу в надежде найти Таню. Анатолий говорил, что Николай тогда проявил малодушие, а он и сейчас не считает это малодушием и с удовольствием остался бы, если бы знал, что она здесь.
Вот и Ростов. Николай вышел из вагона. Шагая по улице, он невольно всматривался в лица молодых женщин и девушек: «Может быть, встречу Таню? Ведь она здесь живет!»
Первым из знакомых он увидел Анатолия. Тот откровенно обрадовался его приезду.
— Какого черта, в самом деле! Пропал и пропал…— Потом добавил уже другим тоном: — Тебя тут сегодня Углов спрашивал. Раза три заходил.
Николай тотчас же отправился в комитет комсомола.
А перед приездом Николая в Ростове произошли такие события.
Сергей Савин как-то в апрельский теплый вечер позже обычного возвращался домой от своего друга инженера Харитонова, который жил в пригородном заводском поселке. Навстречу ему — пьяные парни с песней:
Сергей посмотрел на разгоряченные лица певцов, на чернобрового, с высоко поднятой головой гармониста и вдруг изумленно остановился. Может ли быть — Дмитрий Бородин! Опомнившись, он бросился к Бородину и закричал:
— Стой! Ты как сюда попал?
Дмитрий перестал играть. Мельком взглянул на Сергея, повернулся к нему спиной. Песня оборвалась на полуслове. В ту же минуту три здоровенных парня с угрожающим видом направились к Сергею.
— Что пристаешь? — грозно спросил один из них.
— Это кулак,— запальчиво сказал Сергей парню,— понимаешь, кулак! Он спасается у вас. Это кулак Дмитрий Бородин!
— Бородин! — изумился подошедший и рассмеялся.— Это же Мишка Рыбаков, свой в доску! Зачем ты пристаешь к нему? Только музыку портишь.
— Да ты сам кто? — грозно спросил Сергея другой парень.— Может быть, ты сам кулак, а?!
— Я комсомолец, электрик с «Сельмаша», а вот Бородин — кулак!
— Сельмашевец? — обрадованно переспросил парень с могучими мышцами.— Наш, значит? Так пошли, выпьем ради знакомства! — он дружески хлопнул тяжелой рукой по плечу Сергея.— А на Рыбакова ты напрасно, это свой парень, из сборочного. Обознался ты…
— Эй, Миша, Рыбаков, иди сюда! Но «Рыбакова» и след простыл…
Все всполошились. Парни, которые только что защищали своего «Мишу», бросились вместе с Сергеем в погоню — на другую улицу, побежали в общежитие, где жил Дмитрий. Тут сказали: только что был, прихватил свои вещи и ушел. Гармонь вот только забыл… Один из парней тут же разбил ее об угол стола.
А Дмитрий уже был в квартире Карабачинского.
— Что случилось? — спросил его Степанюк.
— Засыпался,— и Дмитрий рассказал о встрече с земляком.
— Да, дело пахнет керосином,— мрачно сказал Степанюк.— Теперь тебе в Ростове нельзя оставаться.
— Да я и сам так думаю,— Дмитрий уже оправился от первого страха.— Пожалуй, придется в Среднюю Азию махнуть. Мне вот только документ бы теперь другой…
Степанюк согласился.
— Ну что ж, поживи денек-другой здесь, а там посмотрим.
Примерно в это же время вышла неприятность у профессора Благосклонова.
В Северо-Кавказский государственный университет Благосклонов попал в двадцать третьем году. До этого его дорога была извилистой. Иногда приходилось пробиваться еле заметной тропкой. Но всегда и везде он шел к одной цели. До семнадцатого года Благосклонов был преподавателем на историко-филологическом факультете Московского университета. В семнадцатом приехал на Дон в одну из крупнейших станиц верховья, в Суходольскую, и был назначен директором мужской гимназии. Гимназия была большая, обслуживала чуть ли не два казачьих округа. Значительная часть гимназистов — дети зажиточных казаков. Из учащихся старших классов Благосклонов вербовал нужные ему кадры. Через них он надеялся влиять на казачье население.
У Благосклонова были помощники. Учительница из обедневших дворян, полная дева лет сорока; средних лет нотариус, пьяница и бабник; два попа, преподававшие катехизис, закон божий и священную историю, и математик старших классов, тонкий и высокий, с офицерской выправкой.
Были и противники. Канищев, здоровенный, плечистый, учитель географии, второй математик, казак из станицы Великокняжеской, и его жена, учительница-москвичка.
С приездом Благосклонова началась напряженная борьба. Дело было, конечно, не только в его приезде, но и в изменявшейся обстановке на Дону. В марте восемнадцатого в станицу, как половодье, ворвался красногвардейский отряд, и Благосклонов спешно уехал в Новочеркасск.
С тех пор он будто в воду канул. Поговаривали, что в Новочеркасске Благосклонов принимал активное участие в «Деле спасения родины и зашиты цивилизации», писал статьи о «красном петухе», «об организации всех сил против врагов культуры».
После разгрома белых Благосклонов из Новочеркасска уехал на Украину и там попал к Махно. А когда Махно был разгромлен, «пострадавшего» профессора с почестями отправили в Харьков, и тут он стал преподавать в педагогическом институте. Украинское издательство печатало книги Благосклонова. Он поддерживал украинских националистов и быстро продвигался вперед. За первые изданные в Харькове работы Благосклонов получил звание доцента, а за последующие — профессора.
Накопив солидный «научный» багаж, Благосклонов в двадцать третьем году переехал в Ростов. Его продолжали еще печатать и в Харькове.
Авторитет профессора рос, хотя науке он давно уже не давал ничего. Его действительная научная работа окончилась в тот момент, когда он из Москвы уехал на Дон. С тех пор профессор Благосклонов был озабочен только видимостью научной работы. Умный и хорошо образованный, он скоро понял, что наибольший вред Советской власти может принести, примкнув к формальной школе в языкознании.
— Пусть будущие Ломоносовы разбираются сами!— с ненавистью говорил он о пролетарских студентах. — Они совершенно безграмотны.
— Не говорите, голубчик, при мне таких вещей,— просил его Валентин Евгеньевич.— Это цинизм. Понимаете — цинизм!
— Ах, бросьте, профессор, не защищайте их…
Для Благосклонова и для Канищева встреча на улице Энгельса была одинаково неожиданной.
Канищев очень удивился, когда увидел невысокую, плотную фигуру Благосклонова. В темно-синем бостоновом костюме, в свежей фетровой шляпе, с тяжелой палкой в руке, Благосклонов был все таким же джентльменом, каким его всегда знал Канищев.
— Виталий Владимирович, здравствуйте! — с напускной радостью приветствовал его Канищев.
— Степан Степанович! Вот не ожидал! Какими судьбами?
Они поздоровались, как старые друзья.
Канищев был на голову выше Благосклонова. Глядя на него сверху вниз, он дружеским тоном спросил:
— Что здесь делаете?
Благосклонов чуть замешкался с ответом, и Канищев подумал: «Ответ подыскивает, боится!» Но у профессора хватило ума не лгать.
— Преподаю в университете.
— И давно?
— Да порядочно… Уже несколько лет.
— Не знал, не знал… По старой памяти собрались бы, поговорили,— очень мило предложил Канищев.
От этой его любезности у Благосклонова похолодело в животе. Пересилив себя, он улыбнулся:
— Большой город! Можно прожить десять лет и не встретиться.
— Знаете что,— Канищев дружески подмигнул.— Приходите-ка ко мне с Валентиной Николаевной. Она, надеюсь, жива? Вспомним старых знакомых.— Как будто совсем не замечая неприязни Благосклонова, он взял его под локоть.— Я располагаю сейчас свободным временем. Могу проводить вас. Вы куда?
— В университет.
— Пойдемте вместе.
Они пошли рядом, разговаривая. Канищев прихрамывал на правую ногу.
— Что с вами случилось? Почему вы хромаете? — участливо спросил Благосклонов.
— Ничего особенного. Ранен был.
«Что же тебя совсем не убило!» — подумал Благосклонов.
— Так приходите, — сказал Канищев, останавливаясь возле университетских колонн.
— Обязательно придем, — заверил Благосклонов.
Они обменялись домашними адресами и расстались внешне приятелями. На самом деле Благосклонов не мог оправиться от охватившего его ужаса. «Надо бежать! Но куда?» — думал он, отдавая швейцару шляпу и палку. Кажется, я не сумел скрыть своего испуга». Он понимал, что Канищев теперь займется им.
Вспомнилась гимназия. «Нет, Канищев не пройдет мимо меня». Покой и уверенность, приобретенные в последние годы, покинули Благосклонова. Домой он пришел расстроенным. Обычно шумный, насмешливый, веселый дома, он сегодня рассеянно слушал свою супругу Валентину Николаевну. Не дослушав, прошел в кабинет. Не раздеваясь, лег на диван.
Нет, ничего не удавалось придумать. За ним могли прийти в любую минуту. Он хорошо понимал, что нельзя медлить.
По какой-то причуде воображения вспомнилась охота, на которой он был еще в студенческие годы в поместье деда. Между елками и кустами раскидистого орешника в засаду попала рыжая, как пламя, лиса…
В кабинет вошла Валентина Николаевна.
— Витя!
Он резко вздрогнул от неожиданности, диван скрипнул. Благосклонов встал, бледный и испуганный, подошел к жене:
— Что? Пришел кто-нибудь?
Она хотела было пожурить его за то, что он в костюме лег на диван, и теперь изумленно подняла черную, слегка подкрашенную бровь:
— Нет, никого нет. Почему ты такой расстроенный?
Он молчал. Стал слышен стук больших бронзовых часов.
— Что готовить на второе? — спросила Валентина Николаевна.
— Делай что знаешь, — с досадой отмахнулся Благосклонов.
— Нет, Витя, ты не капризничай.
— Ах, отстань, пожалуйста!
— Что, или опять неприятности со студентами?!
— Хуже.
— Что же такое?
— Знаешь, кого я встретил? Канищева.
— Степана Степановича? — спокойно спросила она.— Ну и что же здесь неприятного?
— Готовь все необходимое к отъезду, — вместо ответа сказал он.
— Глупости. Это давно забыто. Не придавай серьезного значения прошлому. Кто тогда был доволен большевиками? Лучше скажи, что готовить на обед?
Благосклонов повернул к ней усталое лицо и с закипающим гневом закричал:
— До обеда ли мне теперь!
Канишев тоже был взволнован этой встречей. Дома он прошел в небольшую комнатку, служившую ему и спальней и кабинетом, сел и стал размышлять. «Как это случилось, что я упустил его из виду? Может быть, он так же, как и значительная часть старых ученых, работает у нас, потому что заставляем? Возможно, изменил свои прежние взгляды? Арестовать его? А что, если подымешь напрасную шумиху?.. Он же — профессор. Оставить в покое? А если он ведет контрреволюционную работу, вредит нам? Профессор… При желании он может сделать много вреда».
Канищев начал ходить по комнате, прихрамывая, время от времени распрямляя широкие плечи.
В итоге долгих раздумий он решил ограничиться пока наведением справок у ректора, а завтра вечером пойти в гости к Благосклонову.
«Он лиса, но и я не промах», — уже веселей подумал Канищев.
В тот же день, вечером, он побывал у ректора университета. Предъявив свое прокурорское удостоверение, спросил:
— Благосклонов у вас давно работает?
— Благосклонов? — ректор был удивлен.— Да лет шесть или семь.
— Что он из себя представляет?
— Как вам сказать? Дворянин. Был у белых. Судя по документам, был ими мобилизован. Попал в плен к Махно. Там его хотели повесить. Последнее обстоятельство подтверждали пленные махновцы, о чем есть документы в личном деле Благосклонова.— И ректор рассказал о дальнейших этапах жизни Благосклонова.— Я, знаете ли, и сам заинтересовался этим профессором. Он у нас в университете, так сказать, наиболее податливый из «бывших». Охотно идет навстречу нашим мероприятиям. Но недавно приходил ко мне один студент, представитель профкома, и доказывал, что Благосклонов плохо преподает русский язык.
— Все, что вы сказали, очень интересно, — проговорил после продолжительной паузы Канищев.
— Я поручил декану Виктору Осиповичу проверить жалобу студента и доложить мне.
Поблагодарив ректора, Канищев, прихрамывая, вышел из кабинета. На Буденновском проспекте уличный шум уже стихал. Отдельные звуки были по-весеннему четки. Вспомнились навсегда отшумевшие весны. Было грустно, что столько уже прожито. «Хорошо бы остаться лет на тридцать в таком вот расцвете сил и здоровья, не стареть!» — подумал Канищев.
Он подошел к квартире Благосклонова, поднял вверх голову, окна третьего этажа светились. «Наверно, его квартира. Выглядит он таким же барином, каким был и прежде».
Поднялся по лестнице. На дверях восьмой квартиры, возле выпуклой пуговки электрического звонка, увидел: «В. В. Благосклонов — два звонка».
Рука невольно потянулась к белой пуговке. Канищев затормозил это рефлекторное движение: «Не сегодня. Отложим до завтра».
На следующий день Благосклонов уже знал, что Канищев им заинтересовался. Испуганный до смерти, он бросился к Виктору Осиповичу. Тот успокоил его, промямлив что-то о том, что Канищева скоро «уберут из города».
В тот же день Виктор Осипович дал группе Степанюка задание: убрать Канищева.
Степанюк задумался: кому из членов организации можно доверить такое дело? Он не сомневался, что справился бы и сам. Для этого у него хватило бы и мужества, и силы воли, и лютой ненависти к Советской власти. Но тогда это значило бы, что надо ликвидировать группу и бежать из Ростова. А ведь оставалось так немного до окончания университета! Да и, кроме того, стоило ли ему, Степанюку, рисковать всем своим будущим из-за какого-то Канищева? Он считал, что его ожидают дела большие, настоящие, а не какие-нибудь покушения на районного прокурора, пусть даже и очень вредного.
Но на кого можно возложить это? Больше других подходил Карабачинский. Но тогда нужно будет проститься с явочной квартирой, а она так удобна, к ней за эти годы привыкли… Пашин ненадежен. Он все время что-то ищет, копается в теоретической партийной литературе, хочет обосновать свое право на их фракционную работу. Может быть, Степанюк даже допустил ошибку, когда завербовал Пашина. Валков? Но Степанюк знал из достоверных источников, что когда тот был в банде, то предпочитал стрелять в безоружных или в спину. А Канищев хорошо вооружен, силен и осторожен. Гринберг? Но этого приводит в панику даже незаряженный пистолет. Почти каждый из них не прочь занять место Степанюка, быть руководителем, но что касается дела… Тут нужен смелый, рядовой исполнитель, много не рассуждающий. Где взять такого?
— Бородин! — вдруг воскликнул Степанюк и хлопнул себя по лбу.— Как это я раньше о нем не вспомнил! Податься ему некуда. Он хочет уезжать в Среднюю Азию. Можно пообещать ему эту возможность. Пусть сделает это дело и уезжает с глаз долой.
Дмитрий и Степанюк сидели в комнате Карабачинского возле стола и тихо разговаривали под громкий аккомпанемент радиоприемника. Спокойные голубые глаза Степанюка изучающе смотрели на Дмитрия. Он задавал вопросы, Дмитрий отвечал. Вопросы были самые безобидные: о доме, о детстве, о жизни хутора Грушки, о том, как там происходило раскулачивание, как Дмитрий добирался до города. На лице Степанюка было сочувствие. Он хорошо понимал, почему Дмитрий ненавидит Алексея Ястребова и тех хуторян, что приходили с Алексеем раскулачивать Бородиных. Он во всем сочувствовал Дмитрию, очень хорошо понимал и целиком разделял тоску Дмитрия по родным местам, от которых тот насильно оторван.
Два месяца прошло, как Дмитрий бежал из дому, и за все это время никто так откровенно не говорил, никто не принимал в нем такого участия, и поэтому он проникся чувством самой искренней благодарности к Степанюку.
А тот продолжал расспрашивать, входя во все подробности. Дмитрий и не подозревал, что собеседник готовит его к более серьезному разговору, прямо приступить к которому не решается. Не простое это дело — убить человека. Да и личной ненависти у Дмитрия к Канищеву нет. Значит, надо его как-то подготовить.
Степанюк очень естественно перевел разговор на то, что, несмотря на раскулачивание, и на Кубани, и в Ставрополе, и в Сальском округе, и в верховьях Дона сохранились вполне боеспособные группы надежных людей, ждущих только сигнала к восстанию. Свои люди есть и среди военных. Начнись завтра восстание, помощь окажут и иностранные государства, которые, конечно, не могут допустить — Степанюк это особо подчеркнул, — чтобы Советская власть становилась крепче. С Бородиным Степанюк был откровеннее, чем с другими своими единомышленниками. Он говорил голосом человека, глубоко убежденного во всем.
— Так что борьба не окончена. Мы выйдем из нее победителями. Но нам нужны смелые, решительные люди…
Сказав это, Степанюк долго молчал.
— Вот что,— проговорил он вдруг совсем другим тоном и пристально посмотрел в глаза Дмитрию.— Ты не трус?
— Нет,— ответил Дмитрий, и кровь бросилась ему в лицо.
— Мы тебе завтра дадим документы на две фамилии, купим билет до Ташкента и дадим достаточно денег. Ясно?
— Ясно.
— Но ты должен пойти на одно дело.
— На какое?
— Надо убрать Канищева.
— Степана Степановича?
— Ты его знаешь?
— Он был учителем в гимназии по географии.
— Вот как? И хороший преподаватель?
— Неплохой. Только уже тогда он был большевиком, еще до революции.
— А Канищев тебя знает?
— Думаю, что забыл. Ведь столько лет прошло! Я тогда был мальчишкой. Не думаю, чтобы узнал. А я его наверняка узнаю.
— Так вот, нужно свести счеты с этим давнишним коммунистом. Он мешает нам, и другого выхода, кроме как убрать его, у нас нет. Ты должен это сделать в благодарность за то, что мы тебя спасли и даем возможность уехать. А когда свершится переворот, мы не забудем этой услуги. Так вот, решай.
Дмитрий молчал.
— Оружие мы тебе дадим,— продолжал Степанюк после паузы.— На углу улицы, рядом с прокуратурой, будет стоять извозчик. Как только разделаешься с ним, сядешь в пролетку и — на вокзал. Билет до Ташкента будет уже у тебя в кармане. В вагоне получишь документы. Согласен?
Дмитрий мрачно смотрел на радиоприемник. Он старался не выдать своего волнения.
— Иначе живи как знаешь. Я думал, что ты на самом деле казак, а ты, оказывается, баба. Тебе только водку пить да по девкам ходить. На словах готов мстить всем на свете…
— Я согласен!— негромко сказал Дмитрий вставая. Лицо его было совершенно белым.
И вот наступил день, когда Дмитрий должен был сделать «дело» и уехать из Ростова.
Он вышел на улицу.
Утро было хорошее, тихое. Продавцы газет выкрикивали последние новости. Полная молочница медленно шагала с двумя раскачивающимися на коромысле бидонами и тянула:
— Молока! Молока! Кому молока?
Проехал дрогаль на тарахтящей телеге. Дмитрий шагал с задумчивым лицом. Казалось, во всем городе одного его не радовала весна и это погожее утро, и ласковый ветерок, и зелень, и воробьиное щебетанье. Не такое у него было настроение, чтобы радоваться да глядеть по сторонам веселыми глазами. Да и не нравилось ему в Ростове. То ли дело Грушки, родные поля! Там глаз радуют светло-зеленые сверкающие всходы озимых, широкие голубые просторы, синеющие дали. В эту пору в степи над головой звенит голос невидимого жаворонка, там теперь сеют пшеницу. А в мае начнут цвести сады. Вспомнилось Дмитрию, как он на целые ночи уходил с девушками в сады или на поля, как жил свободно, ни о чем не думая и никого не боясь. Всплыла в памяти Катина балка, возле которой он с Потапом убирал хлеб, а по ночам гулял в этой балке с Нюркой. Вспомнился смех Потапа, когда пришли раскулачивать Бородиных.
«Теперь и там жизнь не та,— со вздохом подумал он.— А что с отцом, с матерью? Я даже не знаю, куда их выслали». Ему вдруг стало обидно, что вот он забрал себе отцовские деньги, а может быть, ими и не придется воспользоваться. Сейчас они у него в потайных, искусно сделанных карманах, а все-таки эти деньги — только лишнее беспокойство. А ведь из-за них он потерял связь с отцом и с матерью! Вспомнил Параню, Нюру, трехлетнего сына. Жалко стало, что все это безвозвратно кончилось, и он теперь идет на такое «дело».
Вдруг Дмитрий подумал, что каждую минуту его может встретить Николай Ястребов или кто-нибудь из сельмашевцев. И хотя он шел самыми глухими переулками, где встреча со знакомыми была маловероятной, все же он невольно озирался по сторонам, тревожно оглядываясь и ускоряя шаг.
«Благополучно я выкрутился из всей этой каши,— думал он о встрече с Сергеем. — А как теперь? А что, если Канищев узнает меня? Ну, этого не может быть. Да если и узнает, то все равно». Дмитрию надоела эта жизнь в постоянной тревоге, в ожидании, что вот-вот могут забрать, хотелось какого-нибудь конца.
Вот и двухэтажное здание, в нижнем этаже которого находится прокуратура. На окнах лежали солнечные блики. «А выстрел, пожалуй, будет слышен в других комнатах… Да нет, у него в кабинете, сказывали, дверь обита плотно, а стены глухие».
Извозчик стоял за углом, где ему и было положено стоять. Дмитрий посмотрел на пролетку.
«А что, если обмануть их? Не стрелять, а сказать, что убил, забрать документы — и на поезд? Билет у меня в кармане. Но это трусость». Он опустил руку в карман и, вздрогнув, быстро вынул ее, только прикоснувшись к холодной стали пистолета.
У дверей прокуратуры никого не было. Дмитрий оглянулся. И поблизости безлюдно. Он примечал все. Видел цветы на подоконниках в домике напротив прокуратуры, слышал недалекий рев паровоза — до станции рукой подать. Мысленно представлял себе это расстояние. «Успею доехать,— подумал он, — не задержат».
Вот и надпись на двери кабинета: «Прокурор». Невольно съежившись, Дмитрий положил правую руку на пистолет в кармане, а левой приоткрыл дверь, спрашивая:
— Можно?
Дмитрий помнил, что Канищев был высок ростом. Но сейчас он показался ему гигантом, а стол, за которым он сидел,— игрушечным.
Прокурор поднял от бумаг крупную голову и ответил приветливо:
— Пожалуйста, заходите!
Дмитрий шагнул ближе к столу, и Канищев сразу же нахмурил лоб.
Бородин понял, что он плохо владеет своим лицом. «Дело наполовину испорчено,— подумал Дмитрий,— прокурор по моему лицу догадается». Стиснув зубы, он начал доставать пистолет. Это движение руки было слишком хорошо знакомо Канищеву, и он, едва увидав пистолет, не ожидая выстрела, нырнул под стол.
Может быть, все произошло бы иначе, если бы Дмитрий умел стрелять в людей, но он на какое-то мгновение растерялся, а Канищев вдруг мощным рывком дернул его за ногу. Бородин повалился, даже не сделав выстрела — пистолет дал осечку,— и в ту же минуту он ощутил страшный удар кулаком в голову. Дмитрий даже не мог потом вспомнить, когда и как скрутил ему Канищев руки за спиной.
— А ну, вставай! — услышал он строгий и вместе с тем насмешливый голос.
Шатаясь, поднялся. От удара невыносимо болела голова. Канищев поднял с пола пистолет, взглянул на него глазом знатока и с пренебрежением бросил оружие на стол:
— Хуже тебе не могли дать?
Дмитрий молчал.
— Но судить мы тебя будем не за то, что ты шел с пистолетом на своего старого учителя — я узнал тебя, а за то, что ты убил Кострова!
— Василия Марковича? — с ужасом спросил Дмитрий.
По возгласу и по выражению лица Бородина Канищев понял, что это для него новость.
До начала собрания Николаю не пришлось увидеть Таню. Когда избрали президиум и Углов огласил повестку дня, Николай нашел ее глазами, и это обрадовало его. Но все-таки не та у него была теперь радость, какая могла быть всего полчаса назад, хотя он заметил, что и Таню обрадовал его приезд.
Сразу же Углов предоставил слово Николаю для сообщения о Валкове.
Николай подошел к трибуне и начал с того, что ему всегда казалось, будто он где-то видел Валкова до университета.
— Теперь я вспоминаю, где мы встречались с ним. Я стрелял в него как в бандита, испортил три патрона, но, к сожалению, не попал. — И Николай рассказал, при каких обстоятельствах пришлось ему стрелять в Никиту. Потом он огласил свидетельские показания хуторян о пребывании Никиты Валкова в банде, о его высказываниях в Родничках против колхозного строя.
— Когда появилась известная статья об искривлениях в колхозном движении, Валков на хуторе Грушки в присутствии двух колхозников и комсомольца Тихона Кукушкина заявил, что колхозов больше не будет.
Дали слово Валкову. Он поднялся на трибуну. Казалось, нимало не смущаясь тем, что аудитория настроена к нему резко враждебно, он пространно заговорил о том, что ни в чем не виноват, что Ястребов, подбив группу хуторян, настроенных против колхозов, клевещет на него…
— Углов, а под его влиянием и Ястребов решили сделать меня жертвой. Я никогда не был в банде и могу это доказать! Точно так же не заявлял я ничего такого, о чем говорил тут Ястребов, ни на хуторе Грушки, ни в Родничках.
Самойлов, сидевший в первом ряду, спросил с места:
— Значит, ты не признаешь себя виновным?
— Не признаю,— ответил Никита, твердо встречая взгляд Самойлова своими маленькими глазками.
— А в двадцать второй комнате ты не высказывал своих кулацких взглядов? — спросил Самойлов.
— Нет.
— Как же нет, если это подтверждают товарищи Углов, Редько, Ястребов, Павленко и беспартийный студент Балахонов?
— Клевета! Вы мстите мне за критику, хотите нажить политический капитал! Но это вам не удастся, не на того напали!
— Кому это «вам»? — строго спросил Самойлов.
— Некоторым членам бюро партийной и комсомольской ячеек. Люди работают, а вы не умеете работать и стараетесь создать видимость работы, выискиваете врагов в среде своих и не замечаете, что кругом орудуют настоящие классовые враги. И вот нападаете на тех, кто не мирится с вашей бездеятельностью. Это расправа за критику.
— Хорошо. Пусть будет так! — Рябое лицо Самойлова покраснело, глаза заблестели.— А на Донской улице вы не собирались? — спросил он, сдерживая волнение.
— На какой это Донской? — с вызовом спросил Никита.
— Тебе известно на какой, у Карабачинского. Ну?
Никита замялся.
«Так вот кто его единомышленник!» — изумился Николай.
— Ну собирались, – неопределенно сказал Валков,— повеселиться, попеть, как это бывает у студентов…
— Хорошо. А кто приходил к нему кроме тебя? — продолжал спрашивать Самойлов.
— Что вы этим хотите сказать, товарищ Самойлов? — спросил Валков вместо ответа.
— А я ничего не хочу сказать, я тебя спрашиваю.
— Гринберг был, Пашин был,— назвал Валков.
— А Степанюк?
— Бывал ли Степанюк, я не помню. Приходили и еще ребята. Ну, как это всегда бывает — соберемся, повеселимся…
Николай взглянул на Пашина. Лицо его было задумчивым, глаза опущены. Нашел взглядом Карабчинского. Тот сидел сосредоточенный, склонив голову на массивное плечо. А вот и Степанюк — через одного человека от Николая. Он кажется совершенно спокойным. Равнодушными глазами смотрит он на президиум, на Самойлова, будто речь идет о делах, не имеющих к нему никакого отношения.
Самойлов шагнул к трибуне. Сурово взглянув на Валкова, он спросил:
— Декан педфака Виктор Осипович Осинский к вам заходил?
— Не помню. Кажется, один раз был.
«И декан!» — изумился Николай.
— Вели антисоветские разговоры?
— Нет.
— Даешь слово?
— Клянусь!— торжественно сказал Валков.
— Имей в виду, если ты не скажешь правды, то комсомол тебя строго накажет.
Валков отошел от края трибуны.
— Да что вы, товарищи! Неужели вы не понимаете? — Валков подошел к столу президиума, налил из графина в стакан воды. Руки его заметно дрожали. Несколько капель упало на красную лоснящуюся скатерть. Они были похожи на шарики дрожащей, тяжелой, с холодным блеском ртути.
Залпом выпив воду, Валков вернулся на трибуну. Все присутствующие молча смотрели на него. Не знай Ястребов подлинного лица Валкова и его убеждений, он мог бы подумать, что действительно напрасно нападают на парня. Но сейчас он понимал, что Никита хочет обмануть и разжалобить коммунистов и комсомольцев, и ни единому его слову нельзя верить.
Морщась, как от фальшиво взятой ноты, Самойлов настойчиво проговорил:
— А ты все-таки ответь мне!
— Я говорю правду,— хриплым голосом сказал Валков.— Я не обманываю партию и комсомол, которые воспитали меня в большевистском духе.— С обиженным видом он медленно сошел с трибуны и сел в третьем ряду на свое место.
— Давай, Степанюк, ты ответь, — попросил Самойлов. Степанюк встал и заговорил с места:
— Что-то сегодня не в меру расходился перед нами Валков! Танцует по всему актовому залу, сочувствия ищет. Зачем танцевать? Лучше бы рассказал товарищам правду, если он еще считает нас за своих товарищей. Зачем закатывать здесь истерику? Мы действительно собирались у студента Карабачинского, иногда немного выпивали. Но никаких антисоветских разговоров не было. А Валков — я теперь начинаю вспоминать — в двадцать второй комнате действительно что-то говорил в защиту кулачества. Если сопоставить его высказывания на хуторах Суходольского района — а в них я тоже теперь не сомневаюсь — с тем, что он говорил в двадцать второй комнате, то станет ясно: Никита Валков не наш человек. Ему не должно быть места в наших стальных рядах. Его нужно немедленно исключить из комсомола!
Николай с изумлением слушал речь Степанюка «Но позволь, позволь,— говорил он себе,— ведь тогда же Степанюк защищал Никиту! И всегда они были друзьями. В чем тут дело?» Ястребов и не подозревал, что Степанюк, зная о трусости Никиты, старается ошеломить Валкова и тем самым спасти себя.
Самойлов подозрительно посмотрел на Степанюка и спросил:
— Больше ты ничего не добавишь?
— Нет.
— А не было ли со стороны Валкова попытки прощупать настроения казаков-студентов, когда он так выступал в двадцать второй комнате?
— Не знаю.
— Именем Коммунистической партии большевиков,— Самойлов повысил голос,— требую от тебя честного ответа! Больше ничего не добавишь?
— Нет,— твердо сказал Степанюк,— я говорю только правду.
— А где твои родители?
— Не знаю. Я давно не живу с ними.
— Ты знаешь, что их раскулачили?
— Не знаю. У меня нет родителей. Я с ними все порвал еще в двадцать четвертом. У меня есть раздельный акт.
— Акты актами, а факты фактами. Каникулы ты всякий раз проводил у родителей?
— Это неправда. Вам наклеветали на меня.— Степанюк отвечал бесстрастным голосом, как будто все это его не волновало. Да, собственно говоря, он и действительно был спокоен. Он давно ожидал этих вопросов и хорошо знал, что у Самойлова нет никаких улик, а у него, Степанюка, отличные документы. Ему уже известно было и о провале Бородина. Но это произошло только позавчера, и не такой человек Дмитрий Бородин, чтобы выдать своих так скоро. Да и не так легко доказать причастность Степанюка к покушению на прокурора. О том, что Дмитрий Бородин выполнял его поручение, не знал никто из членов группы.
Валков нетвердым голосом снова попросил слова. Углов крикнул ему:
— Говори!
И тот заговорил с места:
— Я виноват перед вами, товарищи. На хуторах Роднички и Грушки я действительно высказывался так, как об этом сообщил Ястребов. В двадцать второй комнате я развивал ошибочные взгляды. За деревьями я не видел леса. За отдельными перегибами в деревне я не сумел разглядеть главного. В этом моя ошибка. Но я крестьянин по происхождению. Сами понимаете, почему я мог запутаться. Я виноват и честно признаю свою вину. Прошу оставить меня в комсомоле. Я постараюсь искупить свою вину самоотверженной работой. А что касается обвинения, возведенного на меня Ястребовым, оно ложно. Дело здесь в том, что мы с Ястребовым поссорились из-за девушки…
— Врешь! — не сдержался Николай.
— Не давайте ему больше слова!
— Хватит! — раздались возмущенные голоса.
Углов размахивал колокольчиком, но звона не было слышно.
«Что может подумать Таня? Да как он смеет!» — возмущался Николай.
Сигналом к признанию своей вины послужило для Валкова выступление Степанюка. Из слов Степанюка Никита понял, что ему не выкрутиться, если будет доказана его причастность к антипартийной группе. Но стоит отвести от себя обвинение Ястребова, все может пройти более или менее благополучно.
Шум и крики стихли.
— А в квартире Карабачинского никаких антисоветских разговоров у вас не было? — спросил опять Самойлов Валкова.
— Не было.
— И в двадцать второй комнате тебе не поручали выступать?
— Никто мне не поручал.
— Ты это утверждаешь?
— Да, утверждаю.
— Значит, ты еще не раскаялся. Ты только признал то, что уже доказано. Мы не верим тебе.
— Верьте моему слову!
— У меня вопрос к Карабачинскому, можно? — спросил Самойлов у президиума.
— Говори,— кивнул Углов.
— А что ты нам скажешь, товарищ Карабачинский?
Карабачинский, широко шагая, подошел к столу президиума и, рассекая ребром ладони воздух, энергично заговорил:
— Я удивляюсь подлости таких людей, как Валков. Типичнейший кулацкий агент! Кругом запутался, но пытается оправдаться, взывает к массам, ищет сочувствия. Исключить его немедленно и — баста!
— А что ты о себе скажешь? — спросил Самойлов.
— Что мне о себе говорить? Мне нечего говорить.
— А какие разговоры велись в твоей комнате?
— Самые обыкновенные — о девушках, о науке, о будущей работе.
— Больше ничего не добавишь?
— Нет.
— А что скажет нам Гринберг? — спросил Самойлов. Гринберг, с бледным, испуганным лицом, снял пенсне, близоруко щурясь, вышел на трибуну:
— Товарищи, я ни в чем не виноват!
— Твои родители до революции имели собственный завод?
— Нет, нет и нет!
— У тебя есть родственники в Германии и в Соединенных Штатах Америки?
— Никого!
— Я попрошу комсомольца Пашина ответить на мои вопросы,— сказал Самойлов и сел.
Смущенно, жалко улыбаясь рассеченной верхней губой, Пашин встал и, тяжело ступая, будто старик, подошел к трибуне.
— Я виноват,— сказал он.— Я не знал, что один неверный шаг не исправишь и сотней верных. И Валков, и Степанюк, и Гринберг, и Карабачинский ведут себя здесь нагло. Они пытаются обмануть товарищей коммунистов и комсомольцев. В квартире Карабачинского собиралась антипартийная группа. О деятельности ее я подробно рассказал товарищам Самойлову и Углову. Я мучился, тяготился, но я был связан подпиской.— И Пашин рассказал все: и о Степанюке, и о декане, назвал еще какого-то «товарища Льва», руководившего этой группой через Степанюка.
Самойлов снова обратился к Валкову:
— Это правда, о чем сейчас говорил Пашин?
— Клевета!
— А что ты, Степанюк, скажешь?
— Это камни, которыми хотят забросать нас,— с усмешкой проговорил Степанюк.— Но из этого ничего не выйдет, кроме конфуза для организаторов этой комедии.
— А что ты скажешь, Карабачинский?
— Клевета!
— А ты, Гринберг?
— Я не знаю…
Самойлов покачал головой и тихо сказал:
— Вы не знаете еще и того, что ваш единомышленник и подручный Бородин схвачен позавчера во время террористического акта!
Обвал, землетрясение — ничто не могло бы сравниться с тем впечатлением, какое произвели эти слова на присутствующих. Казалось, это был конец, гибель, позор…
Редько трудно переживал свой разрыв с Николаем. Ему очень недоставало этой дружбы, так скрашивавшей его трудную жизнь. И вместе с тем тяжелое чувство ревности не давало ему покоя. Раньше, когда он думал, что Таня никого не любит, у него еще могла быть слабая надежда, просто мечта. Но теперь он знал, что Моисейченко неравнодушна к Николаю.
Редько понимал, что должен побороть свое чувство к Тане и остаться верным товарищем Николаю, но страсть, пусть и безнадежная, заставляла его сопротивляться самой этой мысли, и он всю вину за разрыв перекладывал на Николая. Ведь это Николай, со свойственной ему решительностью, разрушил дружбу.
Прежде Редько казалось, что он уже привык к тому, какое впечатление производит он на людей. Но сейчас он с особой остротой чувствовал во взглядах жалость к себе и любопытство. «Да разве можно идти рядом со мной красивой женщине?» — думал теперь он. — Сейчас же скажут: «Как она, бедняжка, живет с ним?»
Вот идут навстречу молодые люди, мужчина и женщина. Они беззаботны, веселы. Женщина улыбается. Поравнявшись с Афанасием, женщина, случайно взглянув вниз, увидала его и, как показалось Редько, вздрогнула. Афанасию в ее изменившемся взоре почудилось выражение, близкое к ужасу и отвращению.
«Такие, как я, нищенствуют, — с болью подумал он. — Нищие и в жизни и в любви! Только во сне я бываю счастлив: никогда не вижу себя безногим».
Уже наступила настоящая весна с очень теплыми, даже жаркими днями. В трамваях никто не хотел садиться на солнечной стороне.
Таня после месячной поездки на Кубань в станицу Ново-Минскую возвратилась домой, испытывая острое желание увидеть Николая. Но едва она пришла в университет, как Углов сказал, что Ястребов еще не вернулся и, возможно, не скоро вернется.
«Хоть бы письмо написал!» — сердилась она, придя в свою комнату.
Прежде в эту пору года Таня думала о прогулках в степи, о катании на велосипеде или на лодке, о какой-нибудь экскурсии. Теперь она вместе с подругами выбирала место будущей работы. Девушкам хотелось попасть на Камчатку. По вечерам они склоняли головы над исчерченной карандашом картой,— красной линией был обозначен их предполагаемый путь.
Кружок студенток-подруг, составившийся еще на первом курсе, мало изменился. Правда, на третьем курсе некоторые девушки «откололись» — вышли замуж. А теперь и Таня в этом кружке чувствовала скуку.
Она плохо спала. Утром вставала с головной болью, долго ходила по комнате непричесанная. Когда кто-нибудь стучал в дверь, Таня вздрагивала: «Это он!»
Но приходил не Николай, а знакомые к отцу или ее подруги. Девушки начинали рассказывать университетские новости, спрашивали, почему ее нигде не видно.
— А у нас «Синяя блуза» выступала. Есть очень хорошие номера. А сегодня вечером пьесу ставим. Приходи.
Таня рассеянно давала обещание прийти, но хотелось ей одного: чтобы подруги поскорей ушли.
«Он приедет, — утешала она себя. — Приедет и сразу же — к нам».
Таня ходила на лекции, смеялась, разговаривала, но делала все это почти машинально. Ее спрашивали:
— Тебя записать в ячейку НОТ?* (* НОТ — научная организация труда)
Она отвечала:
— Запишите.
— Пойдешь в подшефную красноармейскую часть?
— Пойду.
Ее записывали в ячейку НОТ, и в ОДН, и в ОДД; онл ходила в подшефную красноармейскую часть; готовила препараты для микроскопа, слушала лекции. Со стороны казалось, что она все делает, как надо. Но если бы ей сказали: «Тебя не записывать в ячейку НОТ?» — она ответила бы «Не записывайте…»
Зачастую она шла с подругами, чтобы только не оставаться одной, говорила, лишь бы не молчать.
Николай вернулся. Встретились на собрании. После собрания разговора не получилось.
«Да любит ли он меня? — задавала Таня себе вопрос.— Может быть, мне это только показалось?»
В эти сумрачные, трудные для Тани дни и пришел Редько.
— Это вы? — удивленно сказала она.— Вы к папе?
— Нет, к вам.
— Пойдемте.
Громко стуча деревяшками по паркету, Редько прошел за хозяйкой в ее комнату.
— Садитесь,— Таня указала на стул и с болью смотрела, как Афанасий, подтягиваясь ка руках, садился. Таня знала, что не надо смотреть на него в это время, но не могла отвернуться.
Хотя Редько в ее комнате был впервые, он не обратил внимания ни на этажерку с книгами, ни на столик с микроскопом, ни на аквариум, в котором лениво плавали рыбки.
Он весь был сосредоточен на мысли: как начать разговор?
Он боялся смотреть в глаза Тане, но не мог смотреть и по сторонам.
— Можно закурить?
— Пожалуйста!
Он заторопился, достал папиросы, спички. Кое-как закурил и вдруг задал до крайности странный вопрос:
— Вы знаете, Таня, что Николай вас любит?
До этой минуты она не поднимала глаз, и он видел только ее бледный лоб, а сейчас она обрадованно взглянула на Редько, и все лицо ее разом вспыхнуло. Но тут же радость Тани и погасла, как спичка на ветру.
«Если он любит, то почему ничего не сказал мне об этом и почему мне об этом говорит Редько?» — подумала она. Таня подозрительно взглянула на собеседника и поразилась: более убитого горем человека она еще никогда не видала. На бледной коже Редько ярко выступали веснушки. Синие глаза были очень грустны и в то же время строги, губы мужественно сжаты.
Редько следил за ее лицом. Он старался угадать, что думает Таня.
«Что я? Обрубок!» — с болью думал он в тот момент, когда Таня взглянула на него.
— Нет, я этого не знаю,— сказала она.
Редько видел, как лихорадочно билась жилка на ее виске.
— А я знаю.
— Что же из этого?
— Видите ли…
И Редько, глядя на этажерку с книгами, начал с трудом подбкрать слова. С каждой минутой он говорил свободней. Афанасий рассказал о своей дружбе с Николаем, о вечере в Таниной квартире и о последующем разговоре, положившем конец их дружбе.
— Он обнажает всего себя, он весь на виду. Он ничего не скроет, да и не умеет скрыть. От него тоже нельзя ничего утаить. С ним надо быть откровенным до конца. Так мы с ним и жили, так и думали жить, но случилось другое… Вы любите его? — спросил он.
— Может быть.
— Я виноват перед вами и перед ним. Но я уже достаточно наказан. Я нехорошо поступил. Вы должны мне помочь.
— Что я могу сделать? — с готовностью спросила Таня, боясь взглянуть на Афанасия и опять увидеть его глаза.
— Вы должны помочь ему, ведь вы его любите. Обдумайте. До свидания. Я пошел.
Таня опять увидела, как он приподнялся на руках и осторожно спустился со стула на пол. Был он чуть повыше венского стула. Глядя на него, она чувствовала почти физическую боль.
Стуча деревяшками, он вышел из комнаты, а она все еще сидела на диване.
Со второго этажа Редько медленно сошел вниз. Постоял около парадных дверей, окинул взглядом вечерние пустынные улицы.
«Ну что ж, Николай парень хороший. А что делать мне? Уехать? Глупо… Надо работать. Но пойдет ли теперь работа?»
«И ты, Маруся, ламповая»,— вспомнил он вдруг шахтерскую песню. О чем тосковать? Я же знал, что она меня никогда не полюбит. Кто я? Безногий калека. Какое я имею право?»
Он зашел в пивную, но сразу же почувствовал, что делать ему здесь нечего. На него пахнуло пьяным угаром. Громко спорили и смеялись какие-то люди с возбужденными лицами, с надрывом жаловалась скрипка. Редько остановился у свободного мраморного столика, постоял с минуту и вышел. Тяжело ступая, пошел по глухому переулку.
После ухода Редько Таня долго сидела как каменная. Потом начала плакать. Ей было жаль Афанасия. Она только сейчас поняла, сколько мучений и страданий переживает этот сильный и честный человек. Она вспомнила его растерянное и в то же время мужественное лицо, сдвинутые брови, синие грустные глаза. Таня и прежде догадывалась о его любви, интересовалась им. Но будь он на «своих ногах»,— признавалась себе Таня,— она бы, по всей вероятности, уделяла ему внимания не больше, чем другим.
Николая Ястребова Таня представляла одиноким. Чувствовала, что ему нужна ее забота, что он сейчас почти так же беспомощен, как и Редько. Она упрекала себя в эгоизме, упрекала и в том, что в порыве любви к Николаю ничем не постаралась утешить Редько. Ей жаль было и себя. Образ матери возник неясно, как в тумане, и Таня заплакала еще сильней. Было больно, что матери нет и некому посоветовать, что делать дальше, как дальше жить… Отец хороший, умный, но с ним не поговоришь так, как можно было бы поговорить с мамой.
«Какая я несчастная,— думала Таня.— Но он меня любит! Какая я счастливая!»
Вдруг Таня живо. представила свою ссору с Добровольским. И ей стало ясно: ссора произошла в тот вечер именно потому, что Добровольский оскорбительно отозвался о Николае. А Таня, оказывается, не подозревая того, уже тогда любила Ястребова. А как хорошо запомнились Тане и дорога из Ленинграда в Новочеркасск, и поющий Николай, и все-все, о чем он рассказывал. А его первый приход к ним в дом и последний визит с Афанасием Редько, когда Николай смотрел на нее такими влюбленными глазами. Как она тогда чувствовала его взгляд!
Слезы радости, счастья и страха блестели на ее глазах.
Она вошла в кабинет отца, остановилась у дверей. Михаил Васильевич сидел в кресле и писал.
— Это ты, Таня? — спросил он, не оборачиваясь.
— Да, папа – Слова ее прозвучали торжественно и решительно. Михаил Васильевич долгим, пристальным взглядом посмотрел на дочь. В последние два месяца он усиленно работал — заканчивал книгу.
Таня привыкла видеть его за письменным столом. Сидя в кресле, он быстро писал, потом вставал, подходил к тому или другому шкафу, находил нужную книгу и снова садился к столу. Когда уставал, ложился на кушетку, обтянутую толстым синим бархатом.
В работе над книгой Моисейченко был очень пунктуален. Она чередовалась у него с лекциями, не нарушая обычного распорядка дня. Ужинал он и пил вечерний чай по-прежнему вместе с Таней и тетей Лушей. Если он был оживлен и весел, Таня знала, что работа идет хорошо. Тогда Михаил Васильевич и Таня подшучивали друг над другом, рассказывали новости, делились мыслями. В остальное время дня отец и дочь не встречались. Но он внимательно наблюдал за настроениями Тани и ее знакомствами, стараясь ни в чем не мешать ей.
Когда в прошлом году Таня впервые уехала на практику, Михаил Васильевич очень скучал. И в этом году, во время месячного пребывания дочери в станице Ново-Минской, он с нетерпением ждал от нее писем.
В последнее время Таня стала занимать его еше больше. Михаил Васильевич заметил, что она похудела и похорошела, глаза стали ярче. Это его беспокоило, хотя он и ни в чем не мог упрекнуть свою дочь. Она была внимательна к нему, хорошо училась.
Сейчас ее неожиданный приход, решительный, торжественный вид и голос смутили его.
— Папа, мне хотелось поговорить с тобой.
— Я сам с тобой хотел поговорить…— И, отложив в сторону недописанный лист, Михаил Васильевич передвинул кресло, чтобы сидеть лицом к дочери.
В движениях отца, всегда быстрых, плавных и точных, Таня сейчас заметила неспокойную торопливость.
— Я хочу, папа, поговорить с тобой откровенно. Но должна сказать наперед, что могу и не согласиться с твоим мнением.
Михаил Васильевич хотел сказать, что в этом случае, может, не стоит и говорить, но Таня уже продолжала так же стремительно, как и начала:
— Я вольна поступать, как мне хочется. Но ты, папа, самый близкий мне человек, и, не посоветовавшись с тобой, я ничего не хочу решать…
Она перевела дыхание. Ей трудно было произнести главное. Михаил Васильевич, жалея дочь, поспешил помочь ей:
— Ты о Ястребове?
— Да.
— Не знаю… Тебе видней… Он сделал тебе предложение?
— Нет, папа, совсем наоборот…
Михаил Васильевич вздохнул:
— Как это «наоборот»?
Она не ответила, и он, подождав немного, продолжал:
— А ты хорошо его знаешь? В людях легко ошибиться. Мне будет очень тяжело, если твоя семейная жизнь сложится неудачно… Но я ничего не имею против… человек он энергичный, br /способный. Какая у него семья?
Таня рассказала то, что знала о семье Николая.
— Что ж, — тихо сказал Михаил Васильевич,— смотри сама. Тебе с ним жить. Спасибо, что пришла посоветоваться. Нынче многие и этого не делают.
Таня ушла, недовольная отцом. Она ничего даже не сказала на прощание.
Михаил Васильевич долго ходил по кабинету, потом остановился у стола. Взгляд его упал на семейную фотографию. Там сидели вместе он, жена и впереди, с двумя светлыми косичками, Таня. На голове у Тани — белая панамка. Вспомнив случай с этой панамкой, Михаил Васильевич улыбнулся.
Давно это было. Они всей семьей жили в Петрограде. Однажды Таня ехала в трамвае. Ей было лет семь. Трамвай шел быстро. Таня стояла у самого входа. Резкий морской ветер, усиленный движением трамвая, сорвал с ее головы панамку, и Таня, недолго думая, на ходу спрыгнула с трамвая, упала, ушиблась, но панамка была «спасена».
«Решительность у нее есть,— думал Михаил Васильевич.— А как выросла! Если бы теперь посмотрела на нее Дина». И он с грустью стал думать о жене, о том, что недалеко время, когда и Тани не будет в квартире, и ему придется остаться одному. А давно ли он сам был юношей!
Михаил Васильевич стал убирать книги со стола, укладывать их в шкафы. Он понимал, что сегодня уже больше не сможет работать.
«Может быть, еще ничего и не будет»,— успокаивал себя Михаил Васильевич. Все-таки в душе он был против Ястребова. «Но у Тани своя жизнь, свои цели… А давно ли я смеялся над Александром Игнатьевичем?» Михаил Васильевич невольно улыбнулся.
Александр Игнатьевич, профессор по кафедре древнерусской литературы, очень стар. Читая любимое «Слово о полку Игореве», он захлебывается от радости. Многие страницы текста говорит наизусть. Каждая фраза у него с восклицательным знаком. Хороший товарищ. Но все знают, что он «под башмаком» у своей неумной и скупой жены. Если он покупает книги, то боится принести домой все сразу и начинает просить кого-нибудь из коллег:
— Вам не помешают мои книжечки? На некоторое время…
Потом в течение месяца по одной, по две переносит их домой. Идет жалкий, щуплый, смотрит сквозь очки, улыбаясь каким-то своим думам, совсем не связанным с тем, что его окружает.
Михаил Васильевич, защищая свою холостяцкую жизнь, не раз приводил в пример неудачное супружество Александра Игнатьевича: надо же было на что-то ссылаться! А сейчас он почувствовал страх перед возможным одиночеством. За Ястребова или за кого-то другого, но дочь скоро выйдет замуж, хочет он этого или нет. Совет, за которым она только что приходила, ей, пожалуй, даже не нужен.
На другой день вечером Таня пришла в двадцать вторую комнату.
И Николая и Редько поразила бледность ее лица, на котором особенно ярко выделялись блестящие черные глаза.
Николай встретил ее взгляд и тревожно подумал: «Что с ней?»
— Здравствуйте,— сказала она и решительно пожала руки Редько, Анатолию и — после всех — Николаю.
Редько охватило смешанное чувство грусти и радости. Он видел, что Таня потеряна навсегда, но дружба с Николаем будет восстановлена.
Надо ли говорить, как обрадовался Николай приходу Тани!
— Как живете? — обратилась Таня к Редько.
— Ничего…
— А как ты? — спросила, она Николая.
— Так себе.— Он посмотрел в глаза Тани и вдруг, забыв о присутствующих, подошел к ней почти вплотную.
Редько, посапывая, быстро надел кожанку и кивнул Анатолию.
— Вы куда? — испугалась Таня.
— Я скоро приду,— пробормотал Редько и вместе с Балахоновым вышел из комнаты.
Николай и Таня прислушивались до тех пор, пока в коридоре не заглох стук протезов.
— Коля, видишь, я пришла.
— Ко мне?
— К тебе.
Он улыбнулся, не зная, что сказать. За эти несколько мгновений счастья он словно сошел с ума. Наконец опомнился, усадил Таню на табуретку. Только сейчас Николай увидел, как похудела за это время Таня.
«Какой я дурак, какой дурак! Зачем я ее мучил?» Молча посидели в комнате, потом ушли на самую глухую улицу города. Сторожами стояли одинокие фонари. С железной дороги, с далеких окраин Ростова доносились приглушенные голоса гудков. Тихая ночь лежала над городом.
Луна и звезды. Было тепло так, как бывает только в южных городах — накануне Первого мая.
Когда Таня и Николай немного пришли в себя, девушка спросила:
— Почему ты не пришел к нам? Почему не писал? Почему?
Ее настойчивость и возрастающее с каждым словом волнение смутило Николая. Он не мог говорить неправду, но чувствовал вместе с тем, что его ответ еще больше взволнует Таню.
— Знаешь, Таня,— искренне сказал Николай,— мне показалось, что ты не хочешь даже выслушать меня, что я совсем-совсем недостоин тебя.
— Недостоин?
— Да. А что же мне оставалось думать? Заговорю я с тобой, а ты и слушать меня не хочешь. Унижаться? Но я неспособен на это.
— Но, живя в разлуке с тобой,— продолжал Николай,— я совершенно убедился, что не могу жить без тебя.
— А ты хоть раз подумал обо мне? Не о себе, а обо мне? Ушел — и ни слова! Ведь я из-за этого ночей не спала.
Николай растерянно смотрел на нее. Такого гневного выражения на лице Тани он еще не видел.
«А в самом деле, как же я не подумал о ней?» — задал он себе вопрос. Николай готов был сейчас принять на себя какую угодно вину.
Потом они долго сидели, прислушиваясь к гудкам далеких паровозов, глядя на пешеходов, торопливо проходивших мимо.
— За твой эгоизм надо бы наказать тебя, но…— она вздохнула и улыбнулась.
По ее словам, вздоху, по внезапно изменившемуся голосу и по улыбке Николай понял, что она больше не сердится на него. Он обрадовался этой перемене, но, боясь опять вызвать ее гнев, лишь украдкой взглянул на нее и, сдерживая голос, тихо сказал:
— Прости меня.— Николай весь потянулся к ней, и она подалась в его сторону.
…Засыпая, Николай чувствовал, что лицо его горит. Он несколько раз просыпался ночью. Все еще чудились на губах первые доверчивые поцелуи Тани.
Машинально перелистывая журнал, Валентин Евгеньевич сидел за столом в своем университетском кабинете. «Как они мыслят проводить чистку? — думал он.— Может быть, хотят избавиться от нас? На старости лет трудно во всем этом разобраться. Нигде ничего нет твердого и определенного».
В дверь постучали. Валентин Евгеньевич отложил в сторону журнал.
Стараясь ступать бесшумно, вошел Редько.
Валентин Евгеньевич снял темно-синие очки, вынул из кармана жилета большой носовой платок и стал протирать стекла.
Редько остановился у стола и, подняв глаза на профессора, тихо сказал:
— Валентин Евгеньевич, можно с вами поговорить по душам?
— Пожалуйста,— ответил профессор. Он указал на свободный стул: — Садитесь.
Редько сел и, тщательно подбирая слова, тихо проговорил:
— Я изучаю русский язык…
— Вы — хороший студент,— подтвердил профессор.
— Но дело не в этом,— еще тише сказал Редько.— Дело в том, что в университете нам преподносят, боюсь, не то, что следует…
— То е-есть?.. Кхе… Кхе…— Валентин Евгеньевич поспешно надел очки, сунул носовой платок в первый попавшийся карман и внимательно посмотрел на Редько.
Редько левой рукой теребил украшения на конце кавказского пояса, лицо его побледнело, но взгляд был тверд.
— Видите ли,— продолжал Редько,— я не берусь критиковать всей работы профессоров, на это я не имею права, да и познания мои в сравнении с их знаниями так же скудны, как тощий словарик рядом с энциклопедией…
Валентин Евгеньевич видел внимательные, умные глаза Редько и удивлялся: «Неужели он станет говорить о том же, о чем я только что думал?».
— …Но нам,— громче сказал Редько,— придется идти преподавателями в школы второй ступени, в техникумы, на рабфаки. Какие же из нас будут преподаватели русского языка, если мы не изучали правил орфографии и пунктуации? О чем нам рассказывали на протяжении трех с половиной лет? Примерно о следующем: Петерсон — крайний формалист, Пешковский — умеренный; в большом труде Буслаева наречие «вдаль» написано в два слова…— Редько теперь говорил спокойно, уверенно, как всегда выступал на партийных и комсомольских собраниях.
Валентин Евгеньевич слушал и удивлялся, насколько выросли студенты. Все-таки он не представлял себе такого роста.
— Мы тратим время на изучение крайне формалистических взглядов,— говорил Редько,— но это ничего не дает студентам. Надо заново учиться. В школы мы пойдем неподготовленными. На уроках во время практики бывает стыдно за себя и товарищей. Над нами открыто смеются педагоги и учащиеся. Заведующие школами не допускают нас на уроки, так как несогласны с формулировками, которые мы затвердили здесь. А разве мы виноваты? Но это еще цветики, ягодки — впереди. Ягодки будут тогда, когда мы приступим к повседневной работе в школе.
— Но позвольте,— сказал Валентин Евгеньевич,— а вы что же, хотели получить ровно столько знаний, сколько вам их надо для работы в средней школе?
В мыслях Валентин Евгеньевич был согласен, что русский язык в университете преподают плохо, но не считал возможным сказать об этом студенту. Во-первых, потому, что тогда надо идти против своих коллег; во-вторых — Валентин Евгеньевич мог это легко доказать,— сам Наркомпрос путал и не давал твердого стабильного плана. Именно Наркомпрос допускал как формальную, так и логическую грамматику. Пусть сами и распутывают, как знают, а он, заведующий отделением, здесь ни при чем. Да, кроме всего прочего, его, старого профессора, еще собираются чистить, то есть подвергать какой-то страшно унизительной процедуре. А что сделала Советская власть с его многочисленными трудами? А теперь, наверно, собирается отстранить от работы в университете и его самого!
Но он видел глаза Редько и понимал, что такой студент и в дореволюционное время сделал бы честь университету. Преподносить ему суррогат — преступление. За это преступление, безусловно, кто-то должен ответить. Валентин Евгеньевич ставил высоко свою личную честь и не хотел быть соучастником в грязном деле. Конечно, можно всегда оправдаться перед начальством, но перед своей совестью не оправдаешься. И, однако, корпоративное чувство не позволяло ему сказать правды.
Валентин Евгеньевич с ненавистью встретил приход большевиков к власти. Он и до сих пор терпеть не мог коммунистов. Но, хотел он этого или не хотел, советская действительность воспитывала его. Она заявляла о себе каждым жизненным фактом, каждой газетной заметкой, каждой новой книгой.
И он, зачастую не подозревая об этом, начинал смотреть на то или другое явление глазами советского гражданина. Профессор Филиппов привлекал его своим обаянием, честностью и прямотой. Валентин Евгеньевич как-то однажды, после беседы с Иннокентием Тимофеевичем, подумал: «Если бы он не был коммунистом, я ни в чем не мог бы его упрекнуть».
Сейчас Валентин Евгеньевич возражал, лишь бы не выразить студенту свое согласие. Он боялся дать пищу различным толкам: дескать, заведующий отделением сам понимает, а сделать ничего не хочет…
— Нет, я не думаю, что университет дает мне все,— ответил Редько на возражение Валентина Евгеньевича,— но беда в том, что многие студенты не знают элементарной грамматики или имеют о ней, мягко выражаясь, очень своеобразное представление. Чулимов, например, был на практике и написал на доске слово «черный» через «о». Ученики подняли его на смех. А он, как вы знаете, хороший студент. Но в грамматике Благосклонова «черный» написано через «о». Дело в конце концов не в этом слове, а в путанице и неразберихе, в отсутствии у студентов-лингвистов,— Редько насмешливо и горько оттенил слово «лингвистов»,— твердых знаний орфографии и пунктуации…
— Вы сказали,— Валентин Евгеньевич сделал нетерпеливый жест, и Редько умолк,— что многие студенты не знают элементарной грамматики. Так я вас понимаю?
— Так.
— Но в этом нельзя винить нас. Виновата средняя школа!
Редько пытливо взглянул на желтый, сухой, почти обнаженный череп профессора, на его лоб, исчерченный крупными синими жилками и глубокими морщинами, на седую старческую бороду и, опустив глаза, тихо проговорил:
— Пусть будет так. Но в средней школе мы изучали грамматику, где слово «читанный», например, было причастием, а у нас здесь оно — имя прилагательное. Придем во вторую ступень, и слово «читанный» снова будет причастием. Вот в чем дело.
Профессор больше не возражал.
— Это ваше личное мнение? — спросил он Редько, когда тот замолчал.
— Нет, это мнение большинства студентов.
— Хорошо,— сказал Валентин Евгеньевич,— этим вопросом я займусь лично… Кхе… Кхе…
Редько спустился со стула и начал извиняться за беспокойство. Профессор прервал его:
— Что вы, что вы! Я как заведующий… Я рад, благодарю вас.— Он величественно кивнул на прощание.
Редько ушел, и Валентин Евгеньевич опять сгорбился у стола. Долго сидел без движения, потом встал и, тяжело ступая, старчески волоча ноги, зашаркал по кабинету, положив руки на большой живот.
И вдруг он представил себе свежее лицо Благосклонова, его карие глаза, ровные, белые, здоровые зубы.
«Что, голубчик, доигрался? — со злорадством подумал Валентин Евгеньевич о своем коллеге.— Я же несколько раз говорил тебе по-дружески. А ты заладил: «Вы отстаете от жизни, не следите за успехами науки». Вот тебе и успехи! Люди понимать начинают, подросли!»
Благосклонов сидел в квартире Валентина Евгеньевича на кушетке, сам хозяин — в удобном кресле. На лицо Валентина Евгеньевича падал зеленоватый свет настольной лампы.
— Вы ничего нового не слышали о пресловутой чистке? — спросил Благосклонов.
— Нет, а что?
— Негодяи! — сказал приглушенно Благосклонов и, понизив голос, начал рассказывать распространившиеся среди части профессуры сплетни о том, что Советская власть предполагает выгнать из вузов всех старых ученых и оставить одних коммунистов.
Когда Благосклонов повышал голос, Валентин Евгеньевич просил:
— Тише, голубчик, тише. Нас могут слышать. У меня соседка — скандальная баба, а у нее брат — коммунист.— Валентин Евгеньевич забыл, что говорит об этом своему собеседнику, по крайней мере, в десятый раз, и все прислушивался, не слышно ли там, за дверью, заставленной мебелью, подозрительного шороха.
Валентин Евгеньевич был невысокого мнения о Благосклонове и его трудах. Он видел, что и Благосклонов поддерживает с ним дружескую связь лишь потому, что нет другого общества и, может быть, еще потому, что связь с заведующим отделением ему выгодна.
Сейчас, разговаривая с Благосклоновым, Валентин Евгеньевич чувствовал, что коллега пришел опять неспроста и снова станет о чем-нибудь просить. После разговора с Редько эти просьбы Благосклонова казались особенно оскорбительными. Они были неприятны тем более, что Благосклонов всякий раз начинал издалека. Сначала он с тонкой иронической усмешкой рассказывал сплетни — университетские и политические, потом вдруг в середине разговора или в конце, как бы между прочим, будто о пустяках, говорил о цели своего прихода. Всякий раз Благосклонов старался создать впечатление, что пришел совсем не по делу, а просто проведать коллегу. Валентина Евгеньевича возмущала эта дипломатия. Однако в просьбе он не отказывал, потому что было неловко отказать.
«Мне стыдно. Зачем вы лжете?» — думал Валентин Евгеньевич.
Благосклонов читал эти мысли в его глазах и смотрел с обворожительной улыбкой, ничуть не смущаясь. Он тонко льстил, умел понять ход мыслей собеседника. И Калганов неизменно поддавался лести.
И сегодня, едва Валентин Евгеньевич заговорил о чистке, как Благосклонов вполне искренне стал ему сочувствовать, скрывая свою собственную тревогу. Благосклонов не знал, что Валентина Евгеньевича задел за живое Редько — дал толчок мыслям, растревожил совесть.
— Да,— проговорил Валентин Евгеньевич и вздохнул.— Жил и я когда-то счастливо. Еще в университете написал философскую работу «О системе трансцендентального идеализма Шеллинга». Профессор Богомолов помог мне, и я, батенька мой, стал неплохим ученым.
Калганов говорил медленно. После каждой фразы останавливался.
— Я написал десятки книг по логике, философии, психологии и литературе. Имел собственную школу из молодых профессоров и научных работников. Революция уничтожила все мои создания.
Что же осталось? Ничего. Нужно ли быть профессором? Меня будут чистить. Кто? Мальчишки. Меня, первоклассного ученого,— желторотые. Прошлое — известность на весь ученый мир. А сейчас — чистка. О болтуны! О пустомели!
— Что вы так расстраиваетесь, Валентин Евгеньевич? Жизнь сметет их, как ураганом…
Валентин Евгеньевич недоверчиво усмехнулся:
— Не так это просто… Вы знаете студента Редько? Безногий, а какая упорная воля, какой ясный ум!
Старик замолчал и начал просматривать альбом репродукций. Почему-то Валентину Евгеньевичу больше не хотелось делиться с Благосклоновым мыслями о Редько. Он чувствовал, что есть что-то связывающее его с этим талантливым студентом, чего не надо знать собеседнику.
— Что Редько? — спросил Благосклонов.— Таких,как Редько, единицы. Да ему можно и не дать ходу.— Он заговорил тихо, нагнувшись всем корпусом к Валентину Евгеньевичу: — Они нас,— Благосклонов взял себя короткими белыми пальцами широкой холеной руки за горло, при этом блеснул длинный ноготь его мизинца.— А мы их.— Благосклонов выпрямился и пытливо посмотрел на коллегу.
Валентин Евгеньевич захлопнул альбом и с шумом отодвинул его на другой конец письменного стола.
— Ну, знаете,— сказал он,— я хочу быть подальше от этого. Я лучше подам заявление, чтобы меня освободили от беспокойной должности заведующего отделением.
Благосклонов поморщился, потом, улыбнувшись, сказал:
— Что вы, что вы! Вы меня не так поняли. Это просто недоразумение… Уверяю вас. И с заведованием… Кто же, кроме вас, сможет быть заведующим? Даже слушать неприятно… — На Валентина Евгеньевича очень преданно смотрели карие глаза его собеседника.— Между прочим…— Благосклонов опустил взор и с насмешливой улыбкой, показывающей, что неприятный разговор он считает оконченным, шутливо сказал: — Пока вы еще заведующий, напишите мне, пожалуйста, коротенькую характеристику.— Он улыбнулся с хитрецой и добродушием. Эта улыбка означала: «Я убежден, что вы всегда будете заведующим». Заметив на лице Валентина Евгеньевича тень неудовольствия, он извиняющимся тоном добавил:
— Вы простите меня, я вас постоянно утруждаю. К сожалению, у вас может создаться впечатление, будто я ваше доброе расположение ко мне стараюсь использовать в личных целях. Мне так неудобно сейчас просить об одолжении. Но, Валентин Евгеньевич, обстоятельства требуют.— Благосклонов вздохнул.— Начинаю налаживать старые связи,— он насмешливо наморщил черную широкую бровь,— с прежними университетскими товарищами. Работают в научно-«Он приедет, — утешала она себя. — Приедет и сразу же — к нам».исследовательском институте. Хочется стать сотрудником этого института. Характеристика нужна больше для формальности.
Втянув в широкие ноздри воздух, Валентин Евгеньевич с досадой крякнул и сухо сказал:
— Хорошо, я напишу.
— Будьте добры… Мне надо завтра послать документы,— очень тихо сказал Благосклонов, удивляясь, что сделалось со «старым грибом», почему он сегодня такой неподатливый.
Наступило неприятное молчание. Никогда за все время знакомства Валентин Евгеньевич так не тяготился присутствием Благосклонова. Виталий Владимирович это чувствовал.
В дверь кто-то осторожно постучал.
Валентин Евгеньевич встал, запахнул теплый полосатый халат, мягко шаркая домашними туфлями со стоптанными задниками, прошел по комнате и, открыв одну половину двери, высунул наружу лысую голову.
— А-а, голубчик! Здравствуйте, здравствуйте,— радостно сказал он.— Заходите…
В комнату вошел Добровольский.
Легкий и стройный, с особенно бледным, усталым лицом и грустным выражением желтых глаз, он остановился у дверей, почтительно поклонился Благосклонову.
— Я не помешал вам?
— Нет, не помешали,— сказал Благосклонов, с удовольствием глядя на симпатичного студента и радуясь, что приход Добровольского разрядил неприятное чувство, которое осталось у него после только что окончившегося разговора. Добровольский сел в стороне от стола, подчеркивая, что он еще слишком незначительная личность, чтобы сидеть рядом со своими учителями.
Валентин Евгеньевич, привалившись к мягкой спинке кресла, сочувственно смотрел на студента. Он знал, что Добровольскому в недалеком будущем предстоит ехать в деревню. Там придется работать в школе второй ступени. Сумеет ли Добровольский вырваться оттуда, сумеет ли осуществить свои честолюбивые замыслы? «Для такого юноши,— думал Валентин Евгеньевич,— большую трагедию представляет само «отлучение» от города. Ведь Добровольский всегда был уверен, что останется работать при университете. Да и какой смысл посылать в деревню, и может быть навсегда, такого способного человека!»
— Я хотел предупредить вас, Виталий Владимирович,— сказал Добровольский профессору Благосклонову: — Редько что-то очень внимательно читает ваши работы и делает много выписок. Очевидно, он готовится к выступлению. Ястребов сказал о вас: «Посмотрим на чистке». Но Редько не дал ему договорить. Что-то у них есть.
— А в связи с чем говорил обо мне Ястребов? — быстро спросил Благосклонов.
— Был разговор о вашем толковании грамматических терминов.
— Ну, ну? — торопил Благосклонов.
— Потом они упомянули какого-то Канищева…
— Редько и обо мне что-нибудь говорил? — спросил Валентин Евгеньевич.
— О вас Редько очень хорошего мнения,— сказал Добровольский.
Валентин Евгеньевич повеселел. Похвала действует на всех людей. Тем более радовала старика похвала Редько.
— Что же, он неглупый, я его уважаю,— проговорил старик.
Добровольский стал подробно передавать все, что он слышал в студенческих кругах о недавнем разгроме группы Степанюка, о предстоящей чистке профессуры, и опять назвал имя Канищева. А Благосклонов сидел с мертвенно-бледным лицом и думал: «Неужели они открыли мою связь с Виктором Осиповичем? Но ведь я ничего не знал о покушении на Канищева». А услужливая память подсказывала: «Знал, знал, сам просил избавить от Канищева. Думай, думай, ищи выход, иначе они до тебя доберутся!» И тут же Благосклонов решил, что больше ему ждать нечего, надо уезжать в Сибирь или в Среднюю Азию. Там немало его единомышленников, место в институте всегда найдут.
Он взял характеристику у Валентина Евгеньевича и на другой же день уехал из Ростова.
Когда пришла весна, Анатолий открыл дверь на балкон и сказал Редько:
— Теперь можно курить в комнате. Весна принесла освобождение от одного из ваших дурацких правил.— Он с удовольствием подчеркнул слово «дурацких». Анатолий лег на койку, положив ноги в черных, до блеска начищенных ботинках на табуретку.
Комната наполнилась шумом. Под балконом цокали копыта и стучали колеса. На Дону пронзительно завывала сирена ледокола «Фанагория». Во дворе бондарной мастерской — она за балконом на той стороне улицы — выбивали дробь молотки и молоточки.
Вместе с многоголосым шумом в комнату ворвался сырой весенний запах земли.
Глядя на балкон, подставив лицо свежему ветру, Редько сказал Анатолию:
— Не скоморошничай.
— А-а, брось, академик,— возразил Анатолий.— Не переделаете вы меня: черного кобеля не вымоешь до бела, горбатого могила исправит.
Редько повернул к нему лицо, ставшее хмурым:
— Но ведь ты же не на курорт приехал? Тебе дают государственную стипендию… Ты — позор для университета!
— Ничего, лишь бы университет не был для меня позором,— спокойно ответил Анатолий и закурил вторую папироску.
— Вызываем тебя на студпрофком, даешь слово исправиться, а все остается по-старому.
— Надо же вам чем-нибудь заниматься в студпрофкоме, почему не вызвать студента Анатолия Балахонова? Тем более, что можно ему выговор закатить, а то и «строгача» дать. Вас же медом не корми, только предоставь возможность давать кому-либо «строгача»,— Анатолий весело засмеялся.
Вечером Анатолий ушел и вернулся на рассвете.
Студенческий коллектив на Старо-Почтовой занимал весь второй этаж. Дежурные вставали в шесть часов утра. В половине восьмого они созывали звонком студентов ка завтрак, а через полчаса все уходили на лекции.
Анатолий дежурил вместе с Настей Кучеренко. Восемнадцатилетняя девушка, первокурсница, доверчиво отнеслась к старшему товарищу. Выразительные глаза Анатолия невольно подчиняли ее. Когда Анатолий смеялся, смеялась и Настя. Если он задумывался, она тоже начинала задумываться. Остроумный и непринужденный, Балахонов с ней был неизменно ласков. Ей он старался понравиться, хотя был равнодушен ко всем Девушкам на свете.
«Ничего,— решил он,— курносенькая, но свежая».
Коллектив скоро узнал о том, что Анатолий «ухаживает» за Настей Кучеренко. По поручению коллектива Настина подруга должна была предупредить Кучеренко о грозящей ей опасности. Но, выслушав подругу, Настя возмутилась:
— У нас без глупостей не обойдутся!
— Но у него очень дурная репутация, он плохо относится к девушкам,— сказала подруга.
— Бросьте!— раздраженно ответила Настя.
— Смотри, предупреждаю тебя.
— Обо мне не беспокойтесь.
Результаты разговора «по душам» были совсем не такими, каких ждал председатель коллектива Павленко. Предостережение подруги только подлило масла в огонь. Теперь Насте казалось, что она любит Анатолия, да и он к ней неравнодушен.
Однажды Анатолий пришел в комнату для занятий. Там сидела Настя. Анатолий нежно взглянул на нее, она смутилась. После этого девушка сама искала нечаянных встреч с Анатолием, все чаще ловила себя на мыслях о нем. Она стала приглядываться к Балахонову. Настя не находила в нем ничего страшного. Ей было приятно его внимание.
Как-то Павленко встретил Анатолия на лестнице.
— Слушай, Толик, ты это брось,— сказал он.
— Что бросить? — Анатолий сделал вид, будто не понимает смысла слов Павленко.
— Старые привычки надо оставить. Хочешь загубить девушку?
— Я? Загубить?
— Ты ухаживаешь за ней? — спросил Павленко.
— С чего ты взял?
— Толик, ты хорошо знаешь… Я прошу тебя оставить девушку в покое.
— Это мое личное дело.
— Нет, это не только твое личное дело.
— Я здесь не виноват.
— Это верно? — Павленко остановил на нем пристальный взгляд.
— Странный ты человек,— серьезно, даже с болью в голосе сказал Анатолий.— Неужели ты думаешь, мне не надоели всё эти истории?
Убежденный не столько доводами Анатолия, сколько его искренним тоном, Павленко успокоился.
— Ну ладно, не обижайся.— Павленко пошел вниз по лестнице, не слыша иронических слов Балахонова:
— Спасибо, что заботишься о моей чести.
В читальне коллектива, просторной светлой комнате, организовали вечер. Николай пригласил своих друзей: Аркадия, пианиста Алешу, художника Ведерникова.
Саша Углов вызвал Павленко из читальни. Они прошли в небольшую комнату Углова, которую Саша занимал вместе с женой и двухлетним сыном, и остановились у стола, застеленного белой скатертью.
Углов был чем-то встревожен. Глядя на Павленко, он полушепотом спросил:
— Говорил? — Он имел в виду разговор с Анатолием.
«Что с Сашей?» — подумал Павленко. На вопрос Углова он ответил тоже полушепотом:
— Говорил.
— Случайно в книге обнаружили письмо без подписи. На, читай,— сказал Углов, сдвинув густые брови. Он вынул из кармана свернутый вчетверо тетрадочный лист и подал его Павленко. Павленко стал читать. Он сразу нахмурился.
«Здорово, братан!
Я живу в студенческом коллективе. Скучно здесь. Плохо живу. Ни тебе выпить, ни за девочками поухаживать, ни выругаться. Устроили какой-то монастырь, а я в монахи попал. Но сам знаешь, какой из меня монах… Одна дурочка сейчас влипла, овечка…»
Павленко до конца пробежал глазами текст, перевернул лист и, еще более нахмурившись, стал читать сначала.
— Балахонов писал? — спросил Саша.
— Балахонов.
Понизив голос, Углов спросил:
— Правда ли все то, что он пишет? — Саша пристально глядел на Павленко.
— Думаю, что нет. Ты же его знаешь, он любит похвастаться.
— Но какая подлость, я же говорил с ним!..
Из читальни доносилась игра на скрипке и пианино, потом аплодисменты и крики:
— Просим!
Анатолия, наверно, предупредили. Он зашел в комнату Углова без стука. Увидав свое письмо на столе, он подчеркнуто твердым шагом подошел к Углову и Павленко.
— Дурную привычку имеют некоторые люди: читать чужие письма.— Он криво усмехнулся.— Дай сюда письмо!
Углов сунул листок в карман.
— Потом получишь. Это ты писал?
— Я.
— Ты это о Насте Кучеренко так расписываешь? — понижая голос, спросил Углов. Его лицо покраснело, над правым глазом вздрогнул живчик.
В читальне кричали:
— Браво! Бис!
Анатолий, не отвечая, взял со стола стакан, налил в него воды из графина и стал пить большими глотками. Павленко и Углов смотрели, как движется кадык Анатолия. Балахонов, поставив стакан на стол, ответил Углову:
— А ты, собственно говоря, кто такой? Секретарь комсомольской ячейки? Так я уже не комсомолец. Выбыл.
— Я тебя серьезно спрашиваю.
— Ах, какие вы все серьезные… Если хотите от меня получить официальный ответ, напишите заявление.— Глаза Анатолия блестели больше обычного. Он казался веселым.
— Толик, ты же мне говорил! Ты помнишь, что ты мне говорил? — спросил Павленко.
Анатолий язвительно улыбнулся, затем, показывая на Павленко пальцем, сказал:
— Ха, видал? Политический капиталец на мне хочет заработать. А тоже товарищем был прежде.
— Его надо гнать из вуза. Это моральное разложение!— возмущенно сказал Углов.— Почему мы до сих пор терпим его?
— Кого из вуза гнать?— тихо спросил Анатолий, блеснув глазами.— Где разложение? — Анатолий усмехнулся.— А это не разложение — своего парня из вуза гнать?
— Какой ты свой парень? — спросил Углов.— Пошляк, лодырь! Выгоним с треском, так и знай.
— Меня? — Анатолий, смеясь, запрокинул голову. Мелкие завитки его черных волос откинулись назад, открывая белый красивый лоб.— Уморил,— с трудом произнес он.
И Павленко, и Углов лишь сейчас увидели, что он нетвердо держится на ногах.
— Уже успел напиться,— удивился Павленко. Анатолий выпрямился, вцепился в стол руками и, со злостью глядя в лицо Павленко, сказал, блестя глазами:
— Да, я успел напиться с Бориком, с моим корешком. Борик и Толик — два сапога пара. Такова жизнь. Почему вы против меня? Он ведь тоже пьет и ходит со мной к бабам? А вы — против меня. Борик с гордостью говорит, что в его жилах течет дворянская кровь.— Анатолий покачнулся, нелепо взмахнул руками, но удержался за угол стола.— Я, может, потому и пью, что рядом со мной дворянин учится.— Анатолий снова засмеялся.
— На кого ты похож? Перестань кривляться,— с горечью сказал Павленко.
— Не перестану… Э-э, да что с вами говорить? Даром тратить красноречие! — Анатолий тяжело опустился на стул.— Это непроизводительная трата.— Он положил рядом с графином свою кудрявую голову.
— Толик,— сказал Павленко после минутной паузы.— Никто более искренне не жалеет о твоем поступке, чем я. Правда, мы разошлись с тобой, но в этом ты сам виноват. Я считал, что тебя можно вернуть на путь истинный. Ведь и я не всегда был таким, как теперь. Было время, когда воровал. Родители погибли в гражданскую войну. Я был беспризорным. Что оставалось делать? А потом попал в колонию, стал учиться… Ни от кого я не таил своего прошлого. Однажды в общежитии рабфаковцев пропало барахло. Смотрю — косятся на меня. Я чуть было не сбежал. Хорошо, что барахло нашлось.
— Зачем ты все это говоришь ему? — спросил Углов.— Он уже спит. С ним пора кончать. Сколько возились! Сколько обещаний давал! Клялся, ораторствовал…
Анатолий в самом деле спал, привалившись к столу головой и грудью.
Через два дня Балахонов оформил документы для перевода в Саратовский государственный университет. Его друг, Борик Чугунов, был исключен из вуза, как дворянин, скрывший свое социальное происхождение. В приказе ректора так и написано было:
«Морально разложившийся, чужак Б. Чугунов оказал тлетворное влияние на студента Анатолия Балахонова». Если принять во внимание дух времени, в приказе ректора не было ничего необычного.
С Николаем и Редько Анатолий простился холодно.
— Хотели мы, дедушка, с тобой перевоспитать его, а не получилось,— с грустью проговорил Николай, глядя на опустевшую койку.
— Да скажем прямо: не справились. А жаль, он человек неглупый.
— Может, еще выправится,— сказал Николай.
— Время покажет.
В молодости о смерти всерьез не думают. Может, потому забавное видят даже в мрачном. Без анекдотов студенты и часу не могут прожить. Для них все — повод к байке. Родная мамочка с каникул провожала в город, со слезой в голосе наказывала: «Ты уж, Петя, посмотри за моим сынком, как бы он под поезд не попал»,— уже анекдот. О ближайшем друге студент никогда не расскажет просто, а непременно представит его в карикатурном виде. И, слушая, не поймешь: правду он говорит или байку точит.
Вот рассказывает студент, что было после лекции о Гаргантюа и Пантагрюэле, умевших пожить в свое удовольствие. Хлопцы не выдержали. Стипендию накануне получили… Во втором часу ночи их уже не пускали ни в один ресторан. И тут окарикатуренный друг-приятель будто стал слезно просить вышибалу, размахивая книжечкой: «Почему не пускаете?! Мы же студенты-стипендиаты, вот и удостоверение мое».
Увели от вышибалы — в тупике к извозчику пристал, что дремал на облучке красивой пролетки со скучающим картинным жеребцом в оглоблях. «Извозчик, свободен?!» — «Свободен!» — с готовностью ответил тот, выпрямляясь и натягивая вожжи.— «Пой «Во саду ли, в огороде».
Увели от извозчика — друг с вывески пытался снять гигантские очки, уверяя бесшабашную компанию, что свои оставил дома, хотя они были у него на носу. Было это или не было? А кто его знает? Может, и случилось что-нибудь подобное.
У парня великолепная рыжая шевелюра — тоже повод для байки. Начинают рассказывать, что, когда обладатель этой шевелюры был еще на первом курсе, он как-то шел по Большой Садовой босиком — обуться-то не во что было… Встретилась солидная, шикарно одетая дама. Лорнет к глазам: «Фи-и, и здесь футуристы!»
Студент и о себе байку расскажет: хочешь — верь, а хочешь — не верь.
— Готовился я к зачету. Ну сидел, разумеется, до темноты в глазах. Обалдевши, выхожу на улицу. Соседская собачонка встретилась, хвостом виляет. Я решил: знакомый приветствует. Снял кепку и — «Здравствуйте!»
Даже песню поют, непременно переиначивая на свой лад:
Но наибольшее количество анекдотов и всяких баек придумано, конечно, о профессорах. Из почтенных ученых мужей, пожалуй, никто не миновал этой участи: что-нибудь да попало в университетский, никем не записываемый фольклор. Рассказывали, например, о феноменальной сверхрассеянности старика математика. Будто бы однажды, уходя из дому, он на дверях своей квартиры оставил записку: «Профессор Дмитрий Дмитриевич (дальше шла его двойная фамилия) будет дома в 6 часов вечера».
Домой он вернулся раньше. Но, прочитав собственную записку и взглянув на часы, шаркая башмаками, засеменил от дверей вниз по лестнице.
О Валентине Евгеньевиче Калганове не надо было сочинять анекдотов: о нем рассказывай правду — и все будут принимать ее за веселую байку. Сегодня Калганов принимал зачеты. Возле дверей его кабинета ходили и стояли студенты. Спиной к стене, слева от двери, прижалась Таня Моисейченко. Она поджидала Николая.
Договорились, что если сегодня будет сдан зачет, то поедут трамваем до последней остановки — в Нахичевань — и отправятся пешком в Аксай на биологическую станцию университета, километрах в двадцати от Ростова. Оттуда можно было вернуться ночью на рабочем поезде.
Таня боялась этой предстоящей прогулки вдвоем, и вместе с тем ей очень хотелось пойти именно вдвоем.
Вольно или невольно зачетам всегда сопутствует волнение. Оно и понятно: при самом объективном подходе экзаменатора неизбежны ошибки. В какой-то мере зачет — та же лотерея. Можешь выиграть, а можешь и проиграть.
А Валентин Евгеньевич к тому же был своеволен, капризен и порой чрезмерно придирчив. Он особенно не любил студенток и всячески подчеркивал свою нелюбовь.
Как только дверь в кабинет открывалась, разговор стихал. Никто не спрашивал выходивших, сдан зачет или не сдан. Если у порога появлялся низенький старичок в темно-синих очках, с большой окладистой бородой и с большим животом и любезно говорил, выпуская из кабинета экзаменующего: «Следующий!», все знали, что зачет не сдан. Если же студент или студентка выходили без сопровождения, значит, все благополучно.
Николай пришел сдавать зачет во второй раз. В первый раз профессор «завалил» его на второстепенных вопросах. С досады Николай начал подумывать, что Валентин Евгеньевич сделал это в отместку за ту давнишнюю историю с анекдотом о Лермонтове.
— Что с тобой? — спрашивал Углов.— Мы же тебя собирались продвигать на научную работу по русской литературе.
— На научную работу я не пойду. А тут, может быть, старые счеты.
— При чем здесь старые счеты!— усомнился Углов.
И вот теперь Николай отвечал второй раз. Сидя против профессора, он говорил ровным, уверенным голосом, знал, что отвечает правильно, и думал: «Неужели опять «завалит»? Это уже будет издевательство».
Валентин Евгеньевич сидел с закрытыми глазами. Он знал, что Ястребов один из самых подготовленных студентов, но слушать ему не хотелось. Он думал о своем.
— Реализм был основным течением русской литературы тридцатых и сороковых годов девятнадцатого столетия…— Николай замолчал, и тишина вернула профессора к действительности.
— Довольно,— сказал он,— давайте зачетку.
Николай развернул зачетную книжку и положил ее перед Валентином Евгеньевичем. Профессор что-то написал в зачетке.
Студент встал, встал и профессор. Николай был гораздо выше ростом, и Валентин Евгеньевич с завистью смотрел на его атлетическую фигуру. Под голубой футболкой четко вырисовывались большие, крепкие мускулы и широкая, выпуклая грудь. Лицо студента было загорелым, коротко подстриженные волосы вздыблены, в больших голубых глазах твердое, уверенное выражение.
«Молодость»,— подумал профессор, подавляя вздох.
— Ну вот, голубчик, вы теперь хорошо знаете русскую литературу. За ваши знания мне никогда не придется краснеть. Да и вам, надеюсь, не будет стыдно.
Слова Валентина Евгеньевича, а главное, его голос, в котором звучало что-то хорошее, человеческое, смутили Николая.
«Странный он сегодня»,— подумал Николай и, поклонившись, молча вышел из кабинета, держа зачетную книжку в руке.
В коридоре его обступили.
— Ну как?
— О чем спрашивал?
— Здорово парил?
Николай не знал, кому отвечать. Таня тихо взяла его левую руку, в которой была зачетная книжка. К ладони Николая прикоснулась Танина ладонь. Еще не видя девушки, он уже знал, что это она. Он это знал по тому, как охватило его чувство счастья, по приливу глубокой нежности и благодарности.
«Она ждала меня. Она здесь!— подумал он.— И какой сегодня Валентин Евгеньевич особенный». Но тут же Николай забыл и о зачете, и о профессоре, и о всех окружающих. Сейчас он пойдет с Таней!
Еще в тот вечер, когда Таня пришла в двадцать вторую комнату, они договорились, что в день окончания университета зарегистрируются. С тех пор их всюду можно было видеть вместе — и в университете, и в РАППе, и на вечерах у Аркадия, и в театре, и на краевой выставке художников, где Ведерников занял одно из первых мест и где Николай к некоторым работам, с точки зрения Тани, очень уж придирался. Он сравнивал эти картины с теми, что видел в Москве и в Ленинграде.
— Плохо!— говорил он.— Ну что это? Какой-то серый тон. А люди? Вот у этих троих одинаковые жесты. Это же неверно. Каждый должен по-своему переживать новость. Вот тут-то и должны сказаться знание жизни и мастерство.
— Совсем неплохо,— возражала Таня,— посмотри, какой натюрморт.
Не соглашаясь друг с другом, они все же не ссорились, а с выставки уходили мирно — впереди Таня, чуть приотстав — Николай.
Единственно к чему ревновала его Таня — это к стихам да рассказам, которые он продолжал писать. Как-то ночью, когда они несколько раз провожали друг друга, Таня спросила:
— Чем ты занимался сегодня утром, писал?
— Писал. Как будто неплохо получилось! — И Николай горячо заговорил о своей утренней работе.
Таня терпеливо слушала, потом не выдержала:
— Свои стихи ты любишь больше, чем меня.
— Но я, кроме тебя, никого не люблю,— оправдывался Николай.— И в стихах и в рассказах я хочу выразить то, что связано с тобой и со мной.
Некоторое время они шли молча, но вот Николай тихо обнял девушку, и она невольно подалась к нему:
— Не надо так, Таня…
Но, несмотря на эти размолвки, близость их с каждым днем крепла. Таня боялась и его и себя. Она избегала встреч с Николаем наедине и вместе с тем хотела встречаться именно наедине…
— Сдал? — тихо, одними губами спросила Таня.
— Сдал,— также тихо ответил он, невольно приноравливаясь к ее голосу.
От кабинета Валентина Евгеньевича по длинному полутемному коридору они шли под руку. Когда завернули за угол, на мгновение прильнули друг к другу. Счастливые и взволнованные, быстро опустились по лестнице, почти бегом пробежали мимо витрины студенческих писем и старика швейцара и лишь на улице остановились.
— Может быть, отложим нашу прогулку до завтра? — спросила Таня. При этом она быстро взглянула на Николая своими черными глазами, и во взгляде ее угадывались нерешительность и ласка.
Николай понимал, что пугает Таню. Стараясь сдержать счастливую улыбку, он сказал:
— Но почему же до завтра? Посмотри, на небе — ни облачка! Самое лучшее время!
Она плоха слушала доводы Николая и, не вникая в их существо, сказала:
— Поедем…
Они пошли к трамвайной остановке.
Николай никого и ничего не видел, кроме Тани, ее милого шелкового платья, шляпы. Когда он наклонялся к ней, то чувствовал тонкий, волнующий запах духов — любимых Таниных, которые теперь так нравились и Николаю, — близко видел красивое, слегка тронутое загаром лицо, узкие черные брови, еле заметный пушок над верхней губой.
Народу в трамвае было немного. Таня села у открытого окна, Николай — рядом. Они тихо разговаривали, чувствуя себя и в присутствии людей наедине. Говорили о только что сданном зачете, строили планы на будущее, подмечали что-нибудь необычное в людях, особенное — в зданиях и в том, что делается на улице.
Им не мешал веселый грохот трамвая, звонки, не мешали выкрики вагоновожатой на остановках: «Большой!», «Багатяновский!», «Граница!». Они понимали друг друга с полуслова и радовались этому, как дети. Достаточно было Тане повести бровью или улыбнуться, Николай уже догадывался, о чем она подумала, и редко ошибался. Впервые так близко перед ним раскрывался внутренний мир другого человека. И каждый день, каждый час, каждую минуту Николай открывал в этом таинственном для него женском мире все новые и новые черты, изумляясь и восхищаясь.
Его удивляли и внутреннее богатство Тани и новизна открытий. Это сказывалось даже как будто в мелочах. Для него, например, существовали просто бабочки, жучки, стрекозы, живостью и красотой которых он любовался. У Тани для каждой бабочки было свое название. Николаю зонтик цикуты ни о чем не говорил, для нее цикута с ее зонтиком — замечательный экземпляр. Но если он встречал чабрец, то вспоминал родную степь; ковыль переносил его воображение к тем временам, когда по степям бродили бандуристы, а кони вытаптывали тропинки в девственных травах. С полынью он связывал горькую жизнь осиротевших детей и вдов.
Николай подшучивал над Таней, говоря, что она готова всю живую и неживую природу перетащить в свою квартиру, или в школу, где проходят практические занятия, или в кабинеты университета. Но он полностью разделял взгляд Тани на будущее. Она хотела стать настоящим педагогом, таким же, каким была ее первая учительница Марья Николаевна, лучше, умней и красивей которой она никого не встречала.
Как только он полюбил Таню, жизнь его наполнилась радостью. Для него теперь дни и ночи сливались в один большой, бесконечно продолжающийся праздник. Когда Николай оставался один, он не мог вспомнить, о чем они только что говорили. Знал только одно, что это было счастье.
Бывали случаи, когда Таня задерживалась на занятиях, а он освобождался раньше. Тогда ему казалось, что часовая стрелка на больших университетских часах движется очень уж медленно. Он ходил по коридору, спускался на первый этаж, бродил по тротуару возле мраморных колонн. Как трудно было ждать! Но вот открывались двери аудитории, и он никого и ничего не видел, кроме Тани, ее радостной улыбки, он словно пьянел от счастья…
Мимо бегут дома и домики Нахичевани. Чем дальше от центра, тем они больше и больше напоминают станичные и хуторские.
Теперь Николай и Таня молчали.
«Кто эта девушка? — думал он.— Как я счастлив, что приехал в Ростов и встретил ее! Какой скучной была моя жизнь без нее! А странно: я родился за сотни верст от Ростова, никогда не подозревал о ее существовании, и вот встретились, полюбили… Как я мог раньше проходить мимо нее? Неужели я был слепым? А теперь для меня во всем свете нет человека ближе».
Он посмотрел на Таню. Она сидела с опущенными длинными черными ресницами. Николай близко от себя видел нежную щеку. Вдруг Таня открыла глаза, и он увидел ее любящий взгляд.
Таня улыбнулась ему, и он по этой счастливой улыбке, смешно наморщившей ее губы, видел, что она догадывается, о чем он думает. И конечно, она догадывалась. Она знала, что Николай сейчас думает о ней. В этом можно было не сомневаться.
В последнее время они стали так близки друг к другу, как могут быть близки только влюбленные, неиспорченные люди. Такая близость далеко не всегда сохраняется надолго. И там, где она сохраняется, бывает настоящее счастье.
Девушка первой вышла из трамвая.
Было что-то тревожащее в тонкой пряди светлых волос, выбившихся из-под шляпы. Таня подала Николаю красивую небольшую руку, и они пошли над глубоким яром, мимо кирпично-силикатного завода, две высоких трубы которого хорошо запомнились Николаю с тех времен, когда он работал тут землекопом. Шли по неровной, очень зеленой местности. Вот шоссейная дорога Ростов—Новочеркасск… В двадцать шестом году ее только что начинали прокладывать, а теперь здесь идут автомашины, катятся подводы.
Спустились к Дону и пошли по-над рекой. Под ногами хрустели раковины, совсем близко плескались волны, переливаясь нежными оттенками красок, с криками носились чайки, где-то вдали буйствовали жаворонки. На песке от ног Николая и Тани оставались следы.
Набравшись решимости, он обнял девушку. Она остановилась и робко взглянула на него. Тогда он тихо поцеловал ее в теплые губы. Она ответила ему поцелуем. Близко от себя он увидел ее глаза и начал целовать их. Она слышала его порывистое дыхание.
— Коля, не надо, не сейчас,— попросила она, мягко отстраняясь.
Николай видел ее черные глаза, влюбленные и бесконечно нежные, длинные ресницы и опять целовал и целовал.
— Не сейчас,— тихо сказала она и, слабея, уронила голову на его плечо.
…Они вышли на вершину кургана и обнялись.
Километрах в двух столпились дома и домики Нахичевани, и среди них — высокие трубы завода. По Дону шел пассажирский пароход, направляясь на Аксай. С палубы что-то кричали Николаю и Тане, махали платочками. За Доном, на самом горизонте, синела станица.
— Вот смотри,— говорил Николай,— идешь по ровному полю и, кажется, видишь на сто верст, а взойдешь на курган и еще дальше видишь.
Он хотел выразить свою взволнованность и радость, но чувствовал, что говорит не так и не то. Долго стояли молча.
— Таня, ты помнишь нашу экскурсию, дорогу, Воронеж?
— Помню.
— И снежные комья?
— Помню,— тихо ответила Таня.
— Я тоже никогда не забуду, — так же тихо проговорил и Николай.
— Таня,— сказал он немного погодя,— ты не жалеешь?
— Нет! — Потом добавила: — Я на днях вспомнила о тебе и так мне стало хорошо… — Она улыбнулась, и Николай увидел ее лицо, родное, ставшее вдруг трогательно детским.
— Девочка ты моя! — взволнованно сказал он.
Знакомый двухэтажный дом с балконом, на котором летом двадцать шестого года Николай не раз ночевал. В это вешнее утро у дома, свежеокрашенного в голубой цвет, веселый праздничный вид. Вот и парадная дверь. Здесь квартира Сергея. Николай непременно хочет сказать Сергею, что вчера он зарегистрировался с Таней. Он вспоминает, как они вошли в комнату райисполкома, как пожилая женщина с грустными глазами записывала их имена в книгу, как торжественно и серьезно сказала:
— Поздравляю вас с законным браком. Желаю счастья! Николай в этот момент взглянул на Таню, лицо у нее было задумчивое, взгляд такой, словно она пыталась разглядеть все свое будущее.
«Да, как-то она сложится, жизнь! — Думал Николай.— «Брак» — какое некрасивое слово, оно здесь совсем не подходит!»
Николай вошел в большую, просторную комнату, вее так же, как и три с половиной года назад, разделенную ситцевой занавеской.
— Чертенок полосатый! — увидав Николая, радостно закричала Лукинична.— Ты что же это к нам и глаз не показываешь?
— Да все некогда…— Он сел на стул.
Из-за занавески вышла Нина и ее муж.
— Появился! — чуть ли не в один голос воскликнули они.
— Больше месяца пробыл в станице в командировке,— оправдывался Николай.— А где же Сергей?
— Сейчас придет. Мать за хлебом послала.
«У них в семье не меняются отношения», — подумал Николай и опять представил себе, что у него теперь своя семья, кроме матери и братьев — Таня, жена…
— В полгода раз приходишь, — сказала с укором Лукинична.— Не иначе, чертенок полосатый, кралю завел.
Николай, смущенно улыбаясь, ответил:
— Женился!
Послышались восклицания, поздравления, вопросы: кто она, сколько ей лет, брюнетка или блондинка. Николай слушал, и улыбался, и мычал что-то невразумительное.
С буханкой хлеба, завернутой в газету, вошел Сергей. Услышав новость, он расцвел в улыбке.
Николай начал рассказывать о том, что арестована контрреволюционная группа.
— И представь себе,— он улыбнулся Сергею,— это все те люди, которые требовали тогда моего исключения из комсомола!
— А я и не сомневался, что они вражьим духом дышат.
— И Бородина арестовали, — сказал Николай.
— Митюню?! — Сергей тут же рассказал, как он встретил Дмитрия Бородина возле завода «Сельмаш» и как тот скрылся от него, хотя об этом он уже говорил Николаю и прежде, только теперь добавлял некоторые подробности.
Немного погодя друзья отправились в сарай, расположенный в глубине двора. Этот сарай еще четыре года назад был превращен Сергеем в мастерскую. Здесь у них велись самые задушевные разговоры.
Много раз Николай был в мастерской Сергея и всегда находил в ней что-нибудь новое. На стенах, столах и верстаке стояли какие-то приборы, о назначении которых Николай порой и догадаться не мог.
Он пришел, чтобы пригласить Сергея к Тане, познакомить его с ней, подробно рассказать о своей женитьбе. А Сергей сразу же принялся рассказывать о своих изобретательских делах, о заводе.
— Ты знаешь, — возбужденно говорил он, — у нас на «Ростсельмаше» все механизировано, все интересно, а сердце всего — электричество!
Николай знал, что Сергей влюблен в свою электрическую специальность, но ему сейчас хотелось говорить не об электричестве, а о Тане, друг же не замечал этого.
— …Тут любому инженеру и нашему брату, технически грамотному рабочему, есть где приложить силы, — восторженно продолжал Сергей.— Вот посмотри на эти чертежи… Это мы с инженером Харитоновым… Не знаешь его? Мировой парень, этот Харитонов.
Николай смотрел на чертеж, слушал Сергея и ничего не видел и не понимал.
— А я к тебе по делу зашел, — улучив момент, сказал, наконец Николай.
— По делу?
Николай весело засмеялся.
— Приглашаем тебя в гости… Оба — я и Таня — вместе приглашаем.
— Приду, обязательно приду! Как же не прийти! — Отвлекшись от чертежей, Сергей с грустью подумал: «Не будет теперь прежней дружбы. Жена, детишки, пеленки… А ведь какой друг был!»
— А я надолго холостяком останусь,— проговорил Сергей.
— Почему?
— Да начал готовиться на рабфак. И вообще… Инженер Харитонов сказал, что человек должен отдаться технике целиком.— Сергей поднял глаза и добавил: — Да и ты не поспешил ли? Берешься за писательское дело, и — на, женился! Сам же не раз говорил, что ради этой работы надо от всего отрешиться. Выходит, память у тебя короткая.— Сергей укоризненно покачал головой.— С женой твоей я буду еще раз знакомиться. Три с половиной года назад она меня спрашивала: «Кто такой Ястребов? Что он собой представляет? А теперь я начну ее спрашивать: «А скажите, кто такой Ястребов? А скажите, что он собой представляет?» Она мне нравится, а женился ты все-таки зря.
Уже второй час идут прения. «Чистят» заведующего отделением языка и литературы Валентина Евгеньевича.
На трибуне Павленко. Лицо его разгорячено, брови лоснятся.
— О чем говорить? Вот вам пример: Валентин Евгеньевич провалил товарища Ястребова на зачете. А за что? Только за то, что тот еще на первом курсе не выдержал его грубых анекдотов о великих русских писателях. Спросите студентов, что Валентин Евгеньевич дает им кроме анекдотов. И прошлое: дворянин, книги его реакционны. Всегда он был реакционером. Я интересовался его прежней деятельностью еще варшавского периода. Я читал его работы. Субъективист, сторонник Ницше в одних случаях, неокантианец или гегельянец — в других, кто его разберет. Одно ясно — противник материализма. Валентин Евгеньевич выступал против Маркса и Энгельса. Показателен и тот факт, что после революции ни одна его работа не оказалась годной. А что он делал на отделении как заведующий? Здесь вредили, а он скрывал вредителей. Накануне «чистки» бежал в неизвестном направлении профессор Благосклонов, а ведь он его ближайший друг! Не ясна ли буржуазно-дворянская физиономия этого профессора? За последние годы он стал пользоваться другими методами. От крайнего субъективизма перешел к крайнему объективизму. Но это для нас, товарищи, понятно: голый субъективизм слеп, а голый объективизм безрук. Наши ученые пользуются иным методом, методом диалектического материализма…
Валентин Евгеньевич сидит, понурив голову. Он не поглаживает бороду, не крякает, не бросает уверенных взглядов на аудиторию. Он прячет глаза. Изредка из слабой, старческой груди вырывается подавленный вздох. На лбу — пот, и Валентин Евгеньевич все время держит в руке носовой батистовый платок с голубыми каемками. Он уже не думает, что «чистка» — это «лягушатник», как он прежде презрительно говорил о ней. Он чувствует, что люди требуют правильного, честного ответа и честной, настоящей работы на благо общества. Волнения последних дней, неожиданное бегство Благосклонова, беседа с Афанасием Редько и в довершение всего — этот огромный зал, полный людей, требующих ответа.
«Все пропало! Теперь все пропало!» — думает он.
На смену Павленко вышел Добровольский. Его глаза с желтизной зло блестят. Он поднимает высоко над головой руку, сжимающуюся в кулачок.
— Валентин Евгеньевич — старейший профессор на нашем отделении. Двадцать три его ученика работают профессорами в наших вузах. Валентин Евгеньевич читает литературу на всех языках Европы…
— А почему он такие анекдоты рассказывал на лекциях? — спрашивают из зала.
Дряблая кожа на лице Валентина Евгеньевича приобрела бледно-зеленоватый оттенок. Он чувствует себя как пассажир, впервые пустившийся в плаванье и вдруг увидевший, что океан свирепствует, мачты сорваны, в трюме течь. Он считает, что выступление Добровольского, которого так не любят студенты, ничего не изменит. «Лучше бы не выступал, голубчик», — ласково думает он о Добровольском.
Снова протирает очки и глядит в зал. Стекла быстро затуманиваются. Словно в горячем тумане, он видит тысячную аудиторию. Он ждет выступления Редько. Валентин Евгеньевич боится, что Редько выступит так же, как другие студенты, не поймет старика. Океан наступает с новой силой. Могучие волны хлещут через борт…
С трибуны говорит еще один студент, он считает, что Валентина Евгеньевича надо перевести на пенсию.
— Довольно, поработал, почудил…
«Кончить работу, — думает Валентин Евгеньевич, — почувствовать себя неспособным, нахлебником? Ужасно!»
Редько не на шутку волновался перед своим выступлением. Он слушал довольно путаную, но с претензиями речь Павленко и старался понять ее основной смысл. Слушал Добровольского, и закрадывалось сомнение: «А что, если я ошибаюсь? А что, если они одного поля ягоды с Благосклоновым? Характеристику Благосклонову дал он!»
Афанасий снова и снова перебирает в памяти все четыре года своей студенческой жизни, стараясь припомнить роль Валентина Евгеньевича на всем протяжении этого пути.
Редько понимал, что враги пока еще занимают крепкие позиции. Их можно найти почти в любом слое общества. Конечно, много их в высших учебных заведениях. И он старался разобраться: враг или не враг Валентин Евгеньевич?
«Может, тоже вредитель? — задавал он себе вопрос.— Партия призывает к бдительности, а мы в университете были недостаточно бдительны, это факт. Только поэтому Благосклоновы действовали как хотели. Но Валентин Евгеньевич? Кто он?
Нет, он не Благосклонов. С ним можно работать, эрудиция у него действительно исключительная. На нашем отделении он самый крупный ученый. А такая вот головомойка очистит его от толстого слоя скверны. Недаром Моисейченко сказал: «В один вечер за всю жизнь приходится отчитываться».
Жаль было старого профессора и доценту Моисейченко. Хотя старик частенько прижимал его на заседаниях и в работе не терпел никаких замечаний, все же Михаил Васильевич хотел помочь профессору Калганову, с которым прожил бок о бок десять лет, опыт и знания которого ценил и помощью которого пользовался. Он выступил. Но речь его была малоубедительна потому, видимо, что и сам он не пришел к определенным выводам.
Николай тоже никак не мог примирить в своем сознании двух разных Валентинов Евгеньевичей: прежнего, злого и насмешливого, и вот этого старика, так душевно говорившего с ним после зачета. Потому он и не выступил.
Слово попросил Редько.
Валентин Евгеньевич заволновался, крякнул, снял очки, надел их и снова снял.
Некоторое время Редько не был виден профессору. Но вот он встал рядом с трибуной.
— Я внимательно слушал все обвинения, предъявленные Валентину Евгеньевичу, и защитительные речи…
— Тише, товарищи! — попросил, вставая рядом с Афанасием Редько, председатель комиссии по чистке.
Гул голосов начал стихать. Председатель комиссии кивнул Редько, чтобы тот продолжал.
— Валентина Евгеньевича безусловно надо оставить в университете — вот мой основной тезис. Прав ли был в своем выступлении товарищ Павленко? Нет, он слишком субъективно подошел к вопросу. Ты,— обратился он к Павленко,— возмутился тем, что Валентин Евгеньевич рассказывает анекдоты. Но я помню лекцию, которую ты сегодня привел в пример как отрицательную. И вижу, что ты не прав. Валентин Евгеньевич, говоря о Лермонтове, сообщил тогда нам замечательные вещи об эпохе Ивана Грозного, о Николае Первом. Согласен?
— Согласен, — сказал Павленко с места.
— А сколько ценного узнали мы от него о жизни Толстого, Достоевского, Писарева, Пушкина? Согласен? — снова спросил Редько.
— Согласен.
— Как думаешь, важны ли для нас, пролетарских студентов, знания, которые он давал?
— Важны.
— Зачем же тогда настаивать на его снятии с работы? Зачем ты говорил о нем, как о неспособном работать для пролетариата? К чему приводил мудреные слова о субъективизме и объективизме?
Надо понять,— Редько заговорил спокойней, понижая голос, — сейчас решается вопрос: наш человек Валентин Евгеньевич или не наш? Это вопрос жизни и смерти для него и его ученой деятельности, — Редько повернул лицо в сторону старого профессора.— Это нужно понять и вам, дорогой Валентин Евгеньевич, — твердо сказал он, подкрепляя свои слова решительным взмахом руки.— Если вы сделаете в сторону еще шаг, то, как бы ни была тяжела потеря, революция сметет вас, как сор. Если вы повернете в нашу сторону, то революция поможет вам выбраться на светлую, полную творческих возможностей дорогу.
Поймите,— сказал после короткой паузы Редько,— в буржуазном обществе наука сейчас вырождается. У нас она получила все возможности для расцвета. Тут говорили, что Валентин Евгеньевич дворянин. Но старые профессора в большинстве были из господствующих классов. Говорит же Луначарский, что, возможно, многие, кто сейчас занимает профессорскую кафедру, были бы ассенизаторами, а профессорами были бы ассенизаторы, если бы поставить людей в одинаковые материальные и правовые условия… Валентин Евгеньевич, я думаю, вы будете честно работать с нами.
На последние слова Редько зал отозвался аплодисментами.
Потом выступил Валентин Евгеньевич. Он поспешно одел очки, взволнованно подошел к трибуне.
— Товарищи!
Это слово он произнес, пожалуй, впервые, за всю свою жизнь с такой, совершенно новой для него интонацией. Голос его дрогнул, в горле что-то заклокотало. Председатель комиссии поспешно налил в стакан воды и подал в дрожащие руки.
Валентин Евгеньевич начал пить, мелко стуча зубами о край граненого стакана. В тысячной аудитории было так тихо, что в ближайших к трибуне рядах слышался этот стув зубов.
— Товарищи!..
В голосе появилось новое выражение.
— Я не могу больше быть заведующим. Есть люди более достойные. Я не могу…— Слово остановилось у него в горле. Валентин Евгеньевич взялся за стакан.— Я глубоко виноват. Но я хочу работой искупить…
Дальше Валентин Евгеньевич говорил спокойней. Era прерывали аплодисментами, на которые студенты обычно скуповаты.
Ректор университета, декан, партийная ячейка, профком и новый заведующий отделением Моисейченко предлагали Редько вести со студентами работу по русскому языку.
Редько долго и упорно отказывался от предложенной ему должности, но нынче пришел в общежитие веселый и довольный. Было страшно браться, а все-таки льстило, что ему предлагают работать в университете.
Подошел к зеркалу, посмотрел на себя и сердито сказал:
— Преподаватель, а дурак! — Потом засмеялся.
Николай тоже засмеялся. Затем спросил:
— Согласился?
— Дуракам везет, — вместо ответа сказал Редько.— Но больше некому работать, понял? — добавил он, как бы защищаясь.
Назначение Редько преподавателем университета вызвало много разговоров.
— Подумаешь, преподаватель университета. Даже ученой степени не имеет.
— А что такое ученая степень?! — с наступательным задором спрашивал Николай.— Я не стану хвалить Редько — он в этом не нуждается. А ученая степень — дело условное. Возьмите Белинского, Писарева, Добролюбова. Они не имели ученых степеней, а все ученые их в пример ставят. Да уж если на то пошло, Афанасию нетрудно будет получить ученую степень…
Редько пришел к Валентину Евгеньевичу за помощью.
— Ну, рассказывайте, коллега.
Афанасий стал жаловаться на трудности, на отсутствие опыта, на недостаток знаний. Старый профессор долго слушал его, не перебивая, потом сказал:
— Вы напрасно говорите так, Афанасий Тимофеевич. У вас есть основное: целеустремленность. А вот мне ее не хватает.
— Наоборот, вас очень ценят.
Речь нового преподавателя была громкой, уверенной. Валентин Евгеньевич впервые за все годы после революции услышал в своей квартире такой смелый голос. Ему все хотелось остановить Редько. Чудилось, что их подслушивают, хотелось сказать об этом. Но Валентин Евгеньевич тут же подумал:
«Впрочем, Афанасию Тимофеевичу бояться нечего. Он говорит то, что может сказать в любом месте. Он — хозяин жизни. А я — работник? Нет, я не батрак. Так что же уводит меня в сторону? Прошлое? Да, прошлое… Вот я говорю с Редько, а две недели назад на этой самой кушетке сидел Виталий Владимирович… А с какой неприязнью, как на изменника, посмотрел на меня на «чистке» Добровольский. Может быть, я и есть изменник? Хорошо таким, как Редько. У него твердые убеждения… Но что сделала революция с моими работами?»
Он провел сморщенной рукой по лбу, крякнул. Редько, как бы угадав его мысли, сказал:
— Вы еще многое можете сделать для науки, Валентин Евгеньевич.
— Вряд ли…— Печально глянули на Афанасия старческие глаза, горькая улыбка пробежала по бледным губам.
— Почему? — спросил Редько.
— Надо все пересматривать, а годы уже не те.
— Это, Валентин Евгеньевич, конечно, трудный процесс. Но ничего невозможного здесь нет. Нужно прямо сказать, на нашем отделении плохо готовили педагогов. Теперь надо перестроить работу.
— Я уже устарел, голубчик.
— Вы поможете нам. У вас большой опыт.
— Опять все перекраивать? — Валентин Евгеньевич вздохнул, встал и заходил по кабинету.
— Переделывать будем только то, что нуждается в переделке, а все разумное оставим, — сказал Редько.
— А Наркомпрос? Там, батенька мой, столько пустомель и прожектеров.
— За разумное будем драться! Отстаивать!
Они разговаривали еще некоторое время, потом Валентин Евгеньевич проводил Редько до дверей и сказал на прощанье:
— Заходите, голубчик, всегда с удовольствием проведу с вами время. Заходите, если вам не скучно будет со мной стариком.
— Буду заходить, спасибо…
Редько стучал деревяшками за дверями.
«Безногий, — прислушиваясь, думал о нем Валентин Евгеньевич,— а какая энергия!.. А кто же я, в конце концов? Ученый или филистер?»
Лекцию Валентин Евгеньевич начал без подъема. Правда, когда речь зашла о Белинском, оживился. Что-то общее почувствовал профессор в исканиях великого критика со своими собственными исканиями. Ему было хорошо понятно, как и почему метался Виссарион Григорьевич. О переходе Белинского от идеализма к материализму он говорил так, как будто речь шла о нем самом.
Вечером профессор вернулся домой с твердым решением: внимательно перечитать свои прежние работы. «Больше сорока лет работать,— думал он, — и вдруг прийти к выводу, что для других твои работы ничего не стоят… Страшно. Но еще страшней делать вид, что ничего не произошло».
При мысли о том, что ему, старику, надо все пересматривать, заново переосмысливать, он приходил в ужас. Жить без интенсивной умственной деятельности он не мог и не мог повседневно, повсечасно не анализировать, не приходить к тем или иным выводам. Когда он говорил Афанасию, что его время ушло, он думал о том, что в жизни многих людей были крушения, однако эти люди находили силы для возрождения. И сейчас, листая свои книги, выходу которых прежде так радовался, он приходил к выводу, что книги эти в значительной мере устарели.
«Перепевы тегельянцев, — констатировал он с грустью.— А зачем я столько писал о Шеллинге и кантианцах? Как мало собственных мыслей: ну где же, где мое? Да, если говорить честно, то самое интересное в моих книгах — это комментарии».
Уже не раз Валентин Евгеньевич ловил себя на мысли: «Лучшие русские люди шли в ногу с народом, были передовыми. А я? Ведь я же восхищаюсь Белинским, его мужеством, почему же сам не проявляю этого мужества? Ведь я тоже русский человек».
В марте на полях еще лежит снег, по утрам и ночам держатся морозы. Но днем уже пригревает солнце, его лучи подготавливают освобождение земли от ледяных оков. Вот так же Валентин Евгеньевич в глубине души начинал свое духовное возрождение, мучительное и трудное.
Больше всего удивляло старого профессора, что Моисейченко и особенно Редько заметили в нем перемену и искренне радовались ей. И Валентин Евгеньевич стал думать, что эти люди могут стать его опорой. Не личные интересы, как это было у Благосклонова, привлекали их к Валентину Евгеньевичу. Они ценили его энциклопедические знания, его ум и способности. Они хотели, чтобы эти знания и способности были отданы на служение народу или, как говорил Редько, рабочему классу. Они по-человечески, гуманно относились к старому профессору. А это было,для него очень важно. Ведь еще сегодня один из коллег мило подшутил над Валентином Евгеньевичем:
— Говорят, коллега, вы в члены месткома собираетесь пройти? В профсоюзные деятели, так сказать, метите?
А часть профессуры и студенчества расценивала его выступление на «чистке» как неискреннее, демагогическое высказывание хитрого старика приспособленца.
— Неплохо славировал. Не растерялся.
И в условиях этой неприязни помощь Моисейченко и Редько, дружба с ними давали ему силу, которая нужна была для жизни и борьбы за новое будущее.
Преподавательская работа в университете, подготовка к лекциям, к сдаче последних зачетов занимали все время Афанасия.
«Ну что ж, — думал он, — пусть я калека, но голова-то у меня здоровая. Я в состоянии переключить асе свои силы на одно: на науку. Здесь я буду развивать свои возможности. Не каждый в моем положении мог бы избежать нытья, а я смогу и должен избежать. Вот добился же я, стал преподавателем университета, добьюсь и большего. Профессор Богораз тоже безногий, а лучшего хирурга нет во всем Северо-Кавказском крае. Почему бы мне не брать с него пример? Ведь, в конечном счете, в моих делах не ноги решают, я не балерина. Понял ты, старик?» — говорил он себе, чувствуя прилив сил.
Николай теперь словно поменялся ролями с Редько. Прежде Афанасий чувствовал себя несколько виноватым перед Ястребовым, теперь, наоборот, Николай испытывал угрызения совести. Ему почему-то было стыдно перед Афанасием за свое большое счастье. И он уже определенно считал себя виноватым в том, что, когда Афанасий признавался в своих чувствах к Тане, он не так понял Редько, заподозрил его в измене их дружбе, на которую тот неспособен.
Хорошо зная характер Афанасия, Николай первым увидел его возрождение. Он только старался избегать разговоров о Тане и даже о женитьбе своей не сразу сказал другу — Редько узнал о ней от Углова.
Прежние отношения восстанавливались. Потребность поговорить, открыть друг другу душу так же, как они делали это прежде, росла не по дням, а по часам.
— Галстук вот нацепил, — смущенно говорил Николай.— Беда, дедушка, веревку в калмыцкий узел умею завязывать, а галстук и в простой не умею.
— Выучишься, — с усмешкой обнадеживал Редько.
Николай знал, что Афанасия по-прежнему интересует жизнь хутора Грушки.
— А я письмо сегодня получил от Алексея.
— Ну что там у вас?
— Почитай вот, — и он передал Афанасию письмо, свернутое треугольником (по армейской привычке Алексей все еще присылал письма без конвертов).
— Значит, — взволнованно говорил Редько, прочитав письмо, — колхоз имени Кострова? Интересно!
После смерти Василия Марковича партячейка на хуторе Грушки не распалась. Приехал коммунист Андрей Васильевич Ивахненко, которого райком партии рекомендовал общему колхозному собранию в председатели сельхозартели. Кандидатом в члены партии приняли Самсона Кирилловича.
Это был человек, во внешности которого не было ничего особенно примечательного. Он не был на редкость силен или остроумен, не был красив или безобразен. А товарищ и сосед был хороший. Семья у него дружная, трудолюбивая. Алексей хорошо знал, что самая яркая черта в характере Самсона Кирилловича — любовь к крестьянской работе. А так как на хуторе народ жил трудолюбивый (за исключением Хватышова да Родяни), то и эта черта Самсона Кирилловича никому не бросалась в глаза.
С самой организации колхоза Самсон Кириллович был бригадиром полеводческой бригады. Хозяином он оказался дельным. Его бригада все время занимала первое место. Он первый стал вносить на поля минеральные удобрения — до этого здесь, как ни странно, даже не унавоживали землю. Его бригада первой в районе занялась отбором семян для посева. Покойный Василий Маркович во всем его поддерживал. Теперь, после смерти Кострова, Самсон Кириллович стал искать поддержки у Алексея Ястребова, нового секретаря партийной ячейки.
В конце февраля все чаще стали перепадать солнечные, теплые деньки. С соломенных и камышовых крыш звонко падали капели. Снег на дорогах потемнел, а в полях побелел, и нога проваливалась до самой земли. Днем на хуторе слышался рев истосковавшихся по зеленям коров. Иногда со двора выбегал теленок и мчался сломя голову, высоко подняв хвост. За ним с криком бежали мальчишки. На улицах подымался собачий лай.
Зима еще держалась, но в реве истосковавшейся по воле скотины, в петушиных криках, в собачьем лае, в звонких ребячьих голосах, в дружной капели, падающей с потемневших крыш, в многочисленных ледяных сосульках, свисающих с кровель, в обмякшем снеге, в пригревающем ласковом солнце — во всем чувствовалось начало весны. От навозных куч, на которых лежали снежные сугробы, через проталины поднимался белый, легкий пар.
Самсон Кириллович только в глухую полночь приходил домой. Пощипывая аккуратно подстриженные светловатые кончики усов, он с утра появлялся у колхозных амбаров. Здесь молодежь сортировала зерно. Перебрасывались шутками, пели песни. Самсон Кириллович проверял, не попадает ли вместе с полноценным зерном щуплое, много ли просачивается сквозь сита овсюга и других сорняков. Ломал голову над тем, как бы получить чистые семена без всякой примеси, помогал налаживать и регулировать сортировки. От амбаров шел к кузнице. До сева остался какой-нибудь месяц-полтора, а в колхозе еще не все плуги и бороны были отремонтированы, а за сеялки совсем еще не брались. У горна с горящим древесным углем Самсон Кириллович некоторое время смотрел, как старик кузнец Ардалион, опуская молот, придавал красной полосе железа нужную форму, потом стал упрекать его и помощника в том, что они работают спустя рукава. Те возмутились, подняли шум, после которого, уже в спокойном разговоре, выяснилось, что задержка в работе происходит из-за недостачи угля. Самсон Кириллович, покурив с Ардалионом и его помощником, зашагал в правление колхоза сказать председателю, что с кузницей дела плохи.
Из правления Самсон Кириллович направился в свой бригадный двор, расположенный в бывшем хозяйстве Афонички Красноглазого.
Под соломенными навесами, в глубине двора, пожилые казаки и старики ремонтировали телеги и арбы. Самсон Кириллович посмотрел, как они работают, остановился возле Хватышова, тесавшего ось, укоризненно покачал головой, но ничего не сказал.
Затем он направился на скотный двор, где на открытом базу стояло около сотни быков, громко сопящих, отфыркивающихся, пережевывающих серку.
— Не дерутся? – спросил он у скотника.
— Да ничего. Драться не даем.
— Многие исхудали. На таких не пахота будет, а наказанье. Надо их поправить за это время.
— Да что ты, Самсон Кириллович, разве это худые?
— Не по-хозяйски кормите. Смотрите, сколько сена они затоптали в навоз. Вы, наверно, бросите им, швырнете как попало, и с базу долой. А знаешь, жена любит ласку, винтовка — смазку, а скотина — хороший уход. Надо не отходить от нее.
Под вечер встретился с Алексеем Ястребовым.
— Ну что с семенами? — спросил Самсон Кириллович. Алексей тяжело вздохнул, и этот вздох красноречивее всяких слов говорил, что дела идут плохо.
— Давай, Алеша, что-нибудь делать. Весна не за горами, и как бы нам с тобой не пришлось плакать горькими слезами.
На другой день Алексей шагал рядом с учительницей Зинаидой Степановной и Самсоном Кирилловичем. Зинаида Степановна всегда с удовольствием разговаривала с Алексеем. Сейчас она расспрашивала его о Николае. Самсон Кириллович изредка вставлял два-три слова, а больше улыбался в усы и молчал. Прошли дворов двадцать, зашли к Донсковым.
В жарко натопленной хате агитгруппа застала самого Федора Петровича, Агафью Кондратьевну, Параню и ее младшего братишку, парня лет тринадцати. Федор Петрович курил. Он с удивлением взглянул на вошедших. При виде Алексея Параня вспыхнула, а Агафья Кондратьевна даже испугалась.
Хозяин усадил прибывших на скамейку. На его смуглом морщинистом лице, с черной жидкой монгольской бородкой, кое-где перевитой сединками, появилось серьезное выражение. Он внимательно слушает, что говорит Алексей. От Федора Петровича не ускользнуло смущение дочери. Он думал и о том, что Алексей, может быть, еще зятем станет. Вспомнил, с какой неохотой выходила Параня замуж за Дмитрия и как тогда хотелось ему и жене пристроить дочь в дом самого богатого на хуторе казака.
«За богатством гнались, а оно и не нужно совсем. И теперь, чего ради хлебец-то придерживать?»
К удивлению Алексея и Самсона Кирилловича, Донсков сразу записал на семена двенадцать пудов пшеницы.
— Ну, спасибо,— сказал, вставая, Алексей.— Сейчас придет подвода. Так уж вы, пожалуйста, тут помогите подводчикам.
— Хорошо, Алексей Петрович, не беспокойтесь. Сам помогу, и Параня вот поможет: ей тоже делать нечего.
Марья Ивановна Ястребова была в другой агитгруппе, возглавляемой Михаилом Андреяновичем. Они ходили по заеричной части хутора. Чаще всего первой начинала разговор Марья Ивановна. Так было и в доме ее бывшей подруги Натальи.
— Здравствуйте,— сказала Марья Ивановна.— Мы вот пришли к вам от правления…
Худощавое лицо Натальи Артемовны было довольным. Вежливо пригласив пришедших садиться, она сразу же обратилась к Ястребовой:
— Пришла все-таки к нам.
— Ну а как же? — ответила Марья Ивановна.— Подходит весна, нужно сеять, а семян, сама знаешь, нехватка.
— Значит, не обошлось без меня? — с подковыркой спросила Наталья Артемовна. — А помнишь, ругались у колодца?
— Хорошо помню… Мало ли что наговорили тогда. Все это, подружка дорогая, надо забыть. Теперь ведь и ты колхозницей стала, делить нам с тобой нечего.
— Это верно,— согласилась хозяйка. Ей, видно, охота была снова сцепиться с Марьей Ивановной, но, сдержав себя, она пожевала губами и сказала мужу:— Ну что ж, Иваныч, с мешок пшенички мы найдем или как?
Марья Ивановна посмотрела на подругу с уважением и подумала: «Ну, уж если Наталья так, то семян соберем».
Вечером Самсон Кириллович говорил Алексею:
— А смотрю я, смотрю, нравишься ты нашей учительше Зинаиде Степановне. Вот женился бы, хорошая девка!
— Нет, Самсон Кириллович, это не к той шубе рукав. Она ученая, а я малограмотный. Я ей не пара. Надо по себе дерево рубить.
— Да ведь и ты не рядовой колхозник! И секретарь, и бригадир. Жизнь-то, она, парень, изменчива.
— Нет, я ей не пара.
Но, оставшись один, он невольно задумался над словами Самсона Кирилловича. И тут же вспомнилась Параня, ее вдруг вспыхнувшее лицо. «Нет,— подумал он,— если что, поеду на курсы трактористов, потом женюсь. Подберу девушку по себе».
Сев в колхозе прошел благополучно, первым окончила его бригада Самсона Кирилловича. Потом в мае выпало два дождя, а в начале июня — еще один. В колхозе все чаще стали говорить:
— Дожди прошли, и у всех хлеб. Самсон Кириллович удобрял землю и сеял только машиной, а Алексей Петрович нет. Тот два раза бороновал землю, а Ястребов — только раз. И все-таки у Алексея Петровича урожай будет лучше. Кому какое счастье, а этим Ястребовым во всем везет!
Как-то приехал секретарь райкома партии Завьялов с главным агрономом райколхозсоюза. Приближалась уборка. Самсон Кириллович только что вернулся с поля. Он смотрел, как вызревают хлеба.
— Ну что, Самсон Кириллович,— сказал Завьялов,— молодой-то бригадир обставлять тебя начинает?
— Не обставит. Вот поеду сам, похожу по всем участкам, тогда свое слово скажу.
— Да и говорить нечего, уже все известно,— на свежевыбритом лице Завьялова появилась насмешливая улыбка. Секретарь потрогал седеющую бородку.
— У меня урожай будет лучше,— серьезно сказал Самсон Кириллович.
— Хочешь поспорим? — спросил Завьялов.
— Ладно,— Самсон Кириллович подал ему свою широкую ладонь.
К подводам, на которых приехал секретарь райкома и главный агроном, подошли Алексей Ястребов и Михаил Андреянович.
— А что тут спорить без толку? — сказал Михаил Андреянович.— Поедемте в поле да посмотрим, у кого хлеб лучше.
Предложение приняли, запрягли еще одну подводу. Секретарь райкома сел на рессорку рядом с Самсоном Кирилловичем.
Блеснула полоска ерика. Еще несколько минут — и Завьялова с Самсоном Кирилловичем обдало брызгами. Колесный стук рессорки сразу обмяк, зато отчетливей стали слышны остальные подводы. Самсона Кирилловича и Завьялова охватило прохладой. Но вот речушка вильнула в сторону, и опять вокруг такой же устойчиво жаркий воздух и скороговорка колес.
По обе стороны от дороги начинались поля бригады Ястребова. Самсон Кириллович натянул вожжи, лошадь пошла шагом.
Справа зеленая с позолотой пшеница, она чуть-чуть шевелит колосьями. Слева — овес. Рядом с литыми колосьями пшеницы его метелки казались легкими, воздушными.
— Посмотрим! — не то вопросительно, не то утвердительно окликнул их со своей рессорки Михаил Андреянович.
— Хороша,— серьезно ответил Самсон Кириллович, на минуту задерживая на ладони недоспевший, длинный, полный колос.— Очень хорошая.
Теперь они останавливались через каждые пятьдесят—сто метров. Пшеница и овес были все такие же чистые, ровные, полновесные.
Михаил Андреянович продолжал подтрунивать над Самсоном Кирилловичем:
— Видишь! У тебя такого хлеба не будет!
Алексей радовался молча.
А Самсон Кириллович заметно волновался. Он, всю жизнь проведший на полях, любовно смотрел на этот хлеб и не мог це радоваться, но в то же время он боялся, что бригада Алексея обогнала его бригаду. «Да, пожалуй, кое-где с посевом пшеницы я задержался,— думал Самсон Кириллович.— Но разве у меня овес хуже?»
— Нет,— твердо сказал он, обращаясь к Завьялову.— Овес у меня особенный, отменный.
И чем больше разворачивались перед ними поля бригады Алексея, тем чаще Самсон Кириллович принимался хвалить свой овес.
Но вот подводы повернули вправо, к широко разросшимся кустам терновника. Дальше начинался большой участок пшеничного поля бригады Самсона Кирилловича. Все медленно пошли в гущу хлебов. Самсон Кириллович смотрел на свое поле так, словно видел его впервые. Алексей, Михаил Андреянович, Завьялов и главный агроном тоже внимательно глядели на пшеницу. И каждому становилось понятно, что здесь урожай лучше. Не выдерживая непомерной тяжести зерна, пшеница наклонилась и, казалось, кое-где совсем легла. Упругий стебель ее сделался жестким, как проволока.
— Ну как? — спросил Самсон Кириллович Михаила Андреяновича. Он стоял с посветлевшим лицом, стараясь не подать виду, что доволен.— Пудов семьдесят с гектара будет? — шутя спрашивал он.
— Семьдесят? — переспросил главный агроном, не понявший шутки.— Да тут верных полтораста! Уж я-то это дело знаю!
— Откуда полтораста? — изумился Самсон Кириллович.— Пшеничка колосом мелкая, не набористая.
— Колос шестигранный, зерен по девяносто в каждом. Я сочувствую тебе,— сказал Алексей Самсону Кирилловичу.— Тяжело придется, тесно, копны негде ставить. Трудно разворачиваться с уборкой.— Алексей был искренне доволен, что Самсон Кириллович обогнал его. Он и сам понимал, что у сына старого колдуна был лучше уход за посевами. Сорвав несколько колосьев, он перевязал их в пучок и сказал Завьялову: — А вы спор проиграли.
— А тебе и не жалко? — спросил секретарь райкома.
— Нет. Я ведь еще только учусь,— хитро ответил Алексей.— Вы на будущий год приезжайте!
Все засмеялись. Между тем жар сменился прохладой, по небу пошли облака. Над Булавинским лесом глухо и протяжно прогрохотал гром, оттуда стали наплывать тучи. Вот сверкнул клинок молнии, и снова гром, уже ближе, мощней.
— Давайте поторопимся,— сказал главный агроном.— А то выкупает за милую душу.
Первые капли дождя настигли их уже возле дверей полевого стана. Все бросились в большую комнату с деревянными койками, столом и несколькими скамейками.
Дождь дружно стучал о крышу. Сквозь стекла окон ничего не стало видно, кроме мозаики растекавшихся дождинок. Михаил Андреянович распахнул окна настежь. В комнату сразу ворвалась прохлада, водяная пыль и запахи поспевающей пшеницы, овса и подсолнечника.
Михаил Андреянович и Самсон Кириллович сидели у стола и считали зерна в колосьях, сорванных на участке Самсона Кирилловича.
— Калачи в этом году хорошие будут! — похвалил Михаил Андреянович.
— А как там в третьей бригаде? — спросил Самсон Кириллович.
— Там послабей, особенно ячменек подкачал. У тебя, Кириллыч, не было такого случая, когда на одном стебле два колоска вырастает?
— Были, парень. Я отобрал такую пшеничку, завязал ее в узелок и куда-то запропастил. Хотел отдельно посеять. Любопытно, что получилось бы из этого.
У Алексея с секретарем райкома между тем разговор принял другое направление.
— Плохо наше дело,— сказал Алексей.
— Ты о чем?
— Насчет нашего председателя. Как что — в район. Работать не работает, только бы ему красоваться на коне да водочку хлестать.
— А он на тебя жалуется… Плохо, дескать, ты его поддерживаешь.
Алексей пожал плечами:
— Водку, что ль, с ним не пью?
— Что тебе сказать? Работать вам надо вместе. Никто председателем колхоза и секретарем партийной ячейки не родился. Почаще народ собирайте. Ты должен быть душой колхоза.
— Не раз пожалеешь о Василии Марковиче.
— О Василии Марковиче что теперь толковать. Не уберегли мы его… Но вот колхоз остался. Теперь уж берегите хоть память о Кострове.
Дождь кончился. Поехали снова. На юге от синеющих туч до самой земли протянулись гигантские изогнутые полосы дождя. Севернее и восточнее все еще стояли плотные отряды туч. Почти со всех сторон грозно сверкали молнии. Их росчерк был виден и по вертикали и по горизонтали.
Над головами все время плыли облака. Порой опять хлестал дождь, но все уже промокли и теперь были равнодушны к этому.
Было настолько тихо, что тяжелый колос пшеницы стоял не шелохнувшись, только более легкий и гибкий овес пошевеливал метелкой, и казалось, что от него струится прохлада.
Теперь глаза Самсона Кирилловича светились радостью. Они будто так же повлажнели и заблестели, как все вокруг.
— Уж если это не овес, тогда не знаю что,— сказал он.— Смотри, смотри, весь стоит как один! А я боялся. Всего боялся. Засухи боялся. Два дождя прошли в мае, а на июнь было мало надежды. Ан вот дождички стали и тут перепадать. Теперь уж этому овсу ничто не повредит! Пятниться начинает. Тускнеет. Дней через пять убирать.
— Да, хорош,— задумчиво глядя на Самсона Кирилловича, сказал Завьялов.— Придется к тебе сюда весь район тащить, чтобы учились, как нужна работать. Сколько соберешь с гектара?
— Думаю, что вкруговую пудиков по сто.
— Скромничаешь?
— Зачем скромничать?
— А перепугался было, когда ехали сюда, — пошутил Михаил Андреянович.— Боялся, что обгонит тебя Алексей Петрович.
— Да я сам-то еще туда-сюда,— проговорил Самсон Кириллович.— Народ у меня в бригаде волнуется. Как ни говори, труда мы положили больше, обидно было бы отстать от других. Да и за науку было бы стыдно.
— Правильно! — сказал агроном.
— А я не сомневался в твоем урожае,— сказал Завьялов.— С наукой у тебя, Самсон Кириллович, всегда будет надежный урожай. Но надо и другим передавать свой опыт.
— Да я не против.
Они подъехали к грани, отделяющей поля Самсона Кирилловича от земель соседнего колхоза. Здесь картина резко менялась, хотя была тоже посеяна пшеница. Не сразу это можно было установить. Обильные густые травы обогнали пшеницу в росте и заглушили ее. Травы были скорее похожи на кустарник. Даже под ногами не гнулись, а с треском ломались.
— А почему у них такой хлеб? — спросил Завьялов своих спутников.
— А вот послушайте побаску,— сказал вместо ответа Самсон Кириллович, тронув кончики усов.— Жили две соседки-кумы, Марья и Дарья. Одна пироги пекла хорошие, а другая — плохие. Вот и стала просить кума Марья куму Дарью: «Научи меня пироги хорошие печь». «Ну что же,— сказала кума Дарья,— научу. Когда месишь тесто, то меси до тех пор, пока вся… вспотеешь».
Все дружно засмеялись, и громче других смеялся сам Самсон Кириллович, по-детски запрокинув голову… — Вот тут уж нет надежды,— отсмеявшись, показал он на плохую пшеницу. — Пашут — абы черно было. Так и сеют. Так оно у них и получается. В такой год, на такой земле не получить урожая! Бить надо и плакать не велеть.
— Да, вот соберем бригадиров со всего района,— сказал Завьялов,— ты им насчет кумы Марьи и кумы Дарьи непременно расскажи. Поучительная побасенка.
Подошло время убирать хлеб, а тут зарядил дождь. Он шел уже полторы недели подряд и окончательно испортил настроение колхозников. Хотя Алексей старался использовать свободное время для партийной работы, но все равно не терпелось — хлеб надо было убирать. Ведь может и так случиться, что урожай хороший, а не уберешь вовремя — и без хлеба останешься.
Дождь нудно долбил в стекла окон. Алексей сидел за столом и читал газету. Он в последнее время стал частенько засиживаться с газетами и книгами, особенно по ночам. Тех знаний, какие он получил в комсомоле, в армии и под руководством Василия Марковича, оказалось мало. Положение секретаря партийной ячейки обязывало его знать многое из того, без чего он прежде обходился. Жизнь колхозного хутора каждый день ставила неожиданные вопросы, требующие неотложного решения. Да и Завьялов подгонял, заставлял учиться.
— Вот я по специальности преподаватель математики,— говорил о себе Завьялов.— Много лет проработал в школе, а теперь приходится изучать вопросы политические и сельскохозяйственные, вникать в жизнь транспорта. И тебе необходимо учиться.
В курене Ястребовых этажерка для книг, которой прежде пользовался Николай, теперь оказалась тесной, потому что Алексей часто привозил книги и брошюры из районов, да, кроме того, выписывал две газеты. Только успевай читать. И он каждую свободную минуту старался использовать для чтения.
Работа над собой начинала сказываться. Алексей многое стал понимать лучше своих земляков, глубже заглядывать в жизнь. Теперь, например, было ясно ему, что в самые бурные для колхоза дни у многих хуторян настроение было совсем иным, чем в последние месяцы, когда порадовал урожай. Словно люди на ступеньку поднялись выше. Но и сейчас еще много таилось опасного для колхоза, его роста, движения вперед. Алексей отлично понимал, что миновало то времячко, когда о их артели заботились райком и райисполком. Теперь — на каждом хуторе колхоз: иное положение, иные требования.
Сегодня дождь нагнал на Алексея такую тоску, что он не смог ни на чем сосредоточиться и пошел к Самсону Кирилловичу. Тот сидел в горнице на сундуке и подшивал чирик. Усаживаясь на лавку, Алексей сказал:
— Недаром твоего отца на хуторе колдуном считали.
— А ты помнишь?
— Ну как же? Мы, детвора, боялись его. У других хлеб годом родится, а у него всегда урожай. Вот и шли про него всякие страшные разговоры. Теперь-то я понимаю: с головой был человек. И ты весь в него, потому и привозили к тебе бригадиров со всего района поучиться.
— Нет, Алеша, на отцовском капитале далеко по нынешним годам не уедешь. Я от агрономов больше стараюсь перенять.
В соседней комнате послышались женские голоса и смех. На скулах Алексея выступил густой румянец, в глазах — тревога и радость. Один из голосов был слишком хорошо знаком Алексею. Это смеялась Параня.
Самсан Кириллович, отложив чирик, с доброй усмешкой посмотрел на Алексея, но ничего не сказал. В комнату вошла жена Самсона Кирилловича, Гулюшка.
— Бродить пойдешь? — спросила она мужа.— А то бабы за бреднем зашли.
— Я пойду,— с внезапной для себя решительностью сказал Алексей, проворно вставая с лавки.
Через несколько минут, обрядившись в старую одежонку Самсона Кирилловича, которая была ему тесна, он уже был в комнате, где разговаривали хозяйка, Параня и ее подруга, рослая, крупная жалмерка Даша.
— Примете в компанию? — шутливо спросил Алексей. Он весь был сейчас во власти непреодолимого желания видеть Параню, слышать ее голос.
— Примем! Мы всех принимаем! — сказала Даша и засмеялась безудержным смехом.
Из кладовой вынесли бредень.
Дождь скупо и однообразно моросил на осклизшую землю. Сильнее пахло чабрецом и полынью. Светлые стояли травы. По небу низко ползли кудлатые тучи. Но вот часть неба прояснилась, открылось солнце, дождь перестал. И сразу же бросилась ввысь маленькая серенькая птичка.
— Ишь ты!— радостно сказал Алексей. Казачки засмеялись.
— Ты что это на птичку-то заглядываешься? Примечай что-нибудь покрупней,— сказала Даша.
Алексей мельком взглянул на Параню. В ее темных глазах — усмешка, на молодом лице — знакомое ему по далеким дням выражение радости. Долго сдерживаемые чувства захватили его.
«Что со мной сегодня? — подумал Алексей.— Почему это я решил бродить? Ведь я не хотел с ней даже словом перемолвиться и вдруг иду. Теперь на хуторе опять разговоры будут. Ну и черт с ними, пусть посплетничают!»
Снова тучи закрыли солнце. Только край одного облака странно горел негреющим землю огнем. Потускнели травы и от сырого, внезапно налетевшего ветра тоскливо зашумели. Беспокойные осины махали мохнатыми головами. Птичка, замеченная Алексеем, замолчала, стушевалась в мутно-сизой дали.
— От тополя начнем? — спрашивала Даша.
— Можно от тополя, а можно и от осинок,— очень натуральным голосом сказал Алексей.
— Давай от осинок,— предложила Параня, быстро взглянув на Алексея. Он встретил ее взгляд.
«Понимает ли она, что со мной? Я и сам-то не знаю, что это. Никогда ничего подобного не было». Он вздохнул и словно начал трезветь, появилось недовольство собой, этой нелепой вспышкой.
Вода была теплая, на ней пузырились круги от дождинок.
— Ну, начнем,— улыбнулась Параня.
Алексей зашел от глуби, она от берега.
— Осока! — сказала Параня и ласково посмотрела в его сторону. Видя, что он нахмурился, спросила: — Ты что? Воды боишься?
Он, чувствуя, что в разговоре с ним Параня опять может взять верх, как это бывало и прежде, дерзко ответил:
— Лучше гляди под бредень.
— А я на тебя хочу глядеть.
— Я не картина, чтобы меня разглядывать.
— А что ее, картину-то? Глядеть надо на живого.
— Мне и глядеть-то ни на кого не хочется,— угрюмо сказал Алексей.
— Так уж и не хочется?
Уловив в ее вопросе насмешку, он серьезно ответил:
— Не хочется.
— А чего же ты на меня каждый раз глаза пялишь?
Алексей смутился:
— На тебя?
— Да. Думаешь, не вижу. Я ведь не слепая. Как ни таись, а я вижу. Эх, Алешенька…— Она вздохнула, и над переносьем у нее появилась знакомая ему складка.— Люди мы темные! Если бы я знала, где упасть, там бы и соломки подстелила.
— На кого же ты обижаешься?
— На свою жизнь. Мне бы сейчас жить да жить, а я — ни богу свечка, ни черту кочерга. Одним словом, соломенная вдова. Вот смеюсь над тобой, а у самой на душе кошки скребут.
— Сама виновата,— со вздохом сказал Алексей.
— В чем?
— Зачем выходила? На сладкие кусы потянуло?
Она нахмурилась и ничего не ответила.
Между тем Даша зашла в водоросли и начала что есть силы шлепать палкой по воде. Летели брызги, гнулся камыш, разрывались водоросли, мутнела вода, а Даша все шлепала и шлепала палкой. Вынырнула лягушка. Даша размахнулась и ударила, стараясь попасть в нее. Но лягушка скрылась под водой и немного погодя, очутилась рядом. Даша шлепнула по воде еще раз: лягушка перевернулась вверх белым брюхом и вытянула вздрагивающие ноги.
— Алексей Петрович, идите сюда, сазана убила!
— Тише ты, оглашенная! — сказал Алексей.
Он занят был своими думами, осторожно ступал на скользкую твердую глину. Бредень блестел радужными мелкими ячейками. Видна была волочащаяся сзади матка с водорослями и травой.
Приближалось время выхода на берег.
— Смотри, Параня, вон там будем выбродить,— кивнул Алексей на отлогую удобную пристань, и хотя он больше ничего не добавил, она поняла, что парень раскаивается в своей резкости.
«Кажется, ногу обрезал»,— подумал он и без слов продолжал идти по твердому, теперь уже песчаному дну. Недалеко от пристани они попали в ил и быстро выскочили на берег. Даша, идущая позади, ловко выбросила матку бредня.
— Какая мелюзга-а! — удивленным голосом сказала Параня, разворачивая водоросли.
В ее голосе промелькнуло что-то девичье, родное, и Алексей вдруг почувствовал к ней особенную нежность. «Что это я укорять ее начал? Ну ошиблась. Со всяким человеком может случиться. Да ежели разобраться, что я без нее?»
Опять забрели в воду. Дождь усилился. На зеленовато-темную поверхность воды непрерывно падали дождинки, выдалбливая ямки с горошину величиной. «Как оспа»,— мельком подумал Алексей. В нем все еще продолжали бороться два чувства: гордость и неодолимое желание — видеть ее глаза, улыбку, слышать голос.
— Вот раздождилось,— сказала Параня.— Алексей Петрович,— смеясь и заглядывая ему в глаза, продолжала она, видя, что Даша со своей палкой стоит в камышах.— Почему это вас нигде не видно? Или наши деревенские дуры неинтересны?
— При чем тут дуры?
— Да ведь не слепая я. Видела, как к тебе льнет Зинаида Степановна. Она, конечно, учительша, деньги получает, благородная, не нам чета…
— Пустое ты говоришь.
— А может, там в армии по городам и не таких видал?
— Только для того и в армию берут,— зло сказал Алексей.— Я там сколько раз, может, смерть в глаза видел, а она со своими глупостями. Это ты тут замуж поспешила.
— Виновата я, не сумела настоять на своем, мать-отца послушала. Но виноват и ты.
— С больной головы на здоровую! В чем же я виноват?
— Обещал присылать письма каждый день, а вспомни-ка, сколько написал?
— Ты же замуж выходила,- чего же мне тебе было нежности расписывать? Мне со всех сторон письма сыпались, что ты просваталась, я с ума сходил…
— А я? Мне-то каково было? Митюня слух рапустил, что я выхожу за него замуж, дома житья не стало, а от тебя писем нет. Может, думаю, ему некогда там? Нет, смотрю, матери присылаешь и Миколаю Петровичу тоже… Я все знала. Как пришлешь, бывало, письмо матери, а мне нету, я и зальюсь слезами. Из-за этого назло тебе и замуж вышла.
— Назло?
— Конечно, назло. Виноват, а теперь злишься. На отца моего напустился… Думаешь, я ничего не понимаю? Я все понимаю.— Она переменила голос — У нас тут одна бабочка хочет с тобой познакомиться.— В слово «познакомиться» на хуторах вкладывали особый смысл.
— Некогда мне.
— Все бригадирством своим да секретарством занимаешься?
— Да разное,— неопределенно ответил Алексей.
— Какой ты занятый! — Она заговорила тише: — Пришел бы, хоть старое бы вспомнили.— И, не дав ему ничего сказать, громко крикнула: — Даша, кончать будем?!
— Вон туда добредем и кончим…
Небо покрылось свинцовыми тучами. Река тоже изменила свою окраску под цвет неба. Дно реки было усеяно мелкими заклеклыми кусочками камня, похожего на мел.
Вечером Алексею не сиделось в курене. Он прошел в сад.
Небо прояснилось. Немо вспыхивали зарницы. Сад дрожал в ознобе. От зарниц мгновение светились холодные капли дождя на чисто вымытых листьях яблонь и вишен. Когда же зарница потухала, то листва, казалось, пряталась.
«Ну что ж, надо пойти. На этот раз обо всем поговорить с ней»,— решил Алексей.
На улице встретил Хватышова.
— Прогуляться вышли? — вежливо спросил «старый революционер».
— Прогуляться.
— Нынче у нас очень великолепный воздух!
— Воздух хороший.
— Хотите, я вас с дамами познакомлю.
— Нет, спасибо.
— А то у нас тут есть хорошие дамочки.— Хватышов обжег Алексея наглым, выразительным взглядом и тихо проговорил: — Говорят, вы с Прасковьей Федоровной рыбу ловили?
— А тебе что? — с угрозой в голосе спросил Алексей.
— Мне ничего… Дело молодое, понятное…
— Что тебе понятно? — с гневом спросил Алексей.— Сплетни! Ведь тебе уже полсотни лет!
— Да я ничего, я так… Народ у нас, знаете…
— Народ? При чем тут народ?
…А на другой день Марье Ивановне уже говорили:
— Алешка-то опять спутался с Паранькой. Идет нынче утром Сидорка мимо ихнего двора… Почудился ему разговор и смех. Он подошел ближе, а она и говорит: «Ты, «Алешенька, ненаглядный. Твои завлекательные глазки не дают мне покою».
Марья Ивановна, улучив момент, спросила Алексея:
— Опять со своей кралей связался?
Тот сразу помрачнел:
— Вот что, мать. Ты что хочешь, то и делай, но я без нее жить не могу. Засну, только глаза сведу — она снится мне каждую ночь. Пойду куда-нибудь, из дум не выходит. Никто мне не мил, кроме нее.
— Околдовала она тебя.
— Глупости.
— Чую сердцем, пропадешь ты с ней.
Алексей сморщился, как от зубной боли, и отвернулся.
Свадьбы со свечками, рукобитием и венчанием не было. В курене Ястребовых собрали родных и кое-кого из близких знакомых. Гармониста привез с хутора Роднички Иван Тимофеевич.
Гости уселись за двумя столами. Когда выпили по несколько рюмок водки и самогона, разговоры оживились. Только Марья Ивановна и Агафья Кондратьевна держали себя друг с другом сдержанно.
— Как мать ни билась, а двоих детей довела до дела, — громко говорил захмелевший Самсон Кириллович. — Миколай Петрович кончает обучение, агромадную науку прошел человек. Алексей Петрович тоже парень башковитый. Совсем молодой, а уже бригадир. Прежде от всех отставала вторая бригада, а зараз обогнала третью и нашей на пятки наступает. И секретарем у нас теперь. Степа и тот четвертые классы кончил. Тоже, гутарят, дюже здорово учится.
— Наука им шибко дается, — подтвердил и Михаил Андреянович.
— А зятек мой, твой дорогой племянничек, — обратился Федор Петрович к Ивану Тимофеевичу, — перец настоящий. Намедни пришел на конюшню и давай меня распекать: почему порядка нет? То да се… Хомуты ему грязными показались… Уж он меня!
— Это он по-свойски, — утешил свата Иван Тимофеевич, взглянув светлыми глазами на Алексея.
— Да, по-свойски… Я уж не хотел было за него и дочку отдавать. Но ведь нынче они по своей воле живут. Им нынче не больно укажешь. Захотелось — от Митрия ушла. Сама решила — вот за этого идет. Она у нас своевольная.
— Это верно, времена другие, — Иван Тимофеевич посмотрел на Параню. Ее темные с желтизной глаза радостно блестели.
За столом кричали:
— Горько!
— Горько!
И молодые с удовольствием целовались.
По обыкновению, центром среди молодежи был Тихон Кукушкин. Сначала он рассказывал какие-то диковинные истории из своей жизни, потом пошел плясать казачка. Кукушкин надел на голову платок, на худые плечи накинул старенький сюртучишко. Его серьезное веснущатое лицо, кудри, выбившиеся из-под платка, этот сюртучишко и нарочито неловкие движения ног все вызывало дружный хохот. После того как прошел круга три, сдернул с головы платок и, размахивая им, выкрикивал, притопывая, копируя старика:
— Без венчанья обошлись, — между тем обиженно говорил захмелевший Федор Петрович своему соседу.— Дочку родную отдаю, да разве это свадьба? Так, одно измыванье.
Кукушкин остановился перед Федором Петровичем.
— Оно, конешно, венчанье, бог и прочие другие причиндалы… На хуторе Безлесном у Ивана Амельяновича кобыла пропала. Пошел он в церковь — свечу поставил и просит бога: «Господи, верни ты мне кобылу. Продам ее — все деньги на церковь пожертвую…» Приходит домой — кобыла во дворе. Что делать? Надо обет выполнять. Поехал на скотскую ярмарку, повел продавать кобылу, а в мешке повез — кошку.
Гармонист перестал играть, все слушали, а Кукушкин самым серьезным тоном продолжал:
— На базаре люди спрашивают: «Сколько стоит кобыла?» — «Продаю вместе с кошкой: лошадь стоит рубль, а кошка семьдесят».— «Да на кой ляд мне сдалась твоя кошка? Кобылу продай».— «Отдельно не продается». Нашелся покупатель. Иван Амельянович рубль положил в один карман, а за семьдесят купил себе хорошего коня. Выходит дело, самого господа-бога обманул. И все вы такие, на одну колодку,— начал укорять Кукушкин Федора Петровича.— «Церковь», «венчать», — голосом Донскова закончил он уже под общий смех.
В самый разгар веселья в курень вошел Хватышов.
— Мир честной компании! — весело сказал он, останавливаясь у порога.
— Спасибо, — ответила ему Марья Ивановна.— Проходите, Савелий Андреевич, садитесь с нами.
Хватышов не стал ждать вторичного приглашения. Он повесил на гвоздь фуражку, расправил усы и сел рядом с Самсоном Кирилловичем.
— Значит, рыбку ловили? — подмигнул он Алексею.
Алексей не ответил. Он вполголоса говорил что-то веселое Паране, и они оба смеялись. Но Хватышов не смутился тем, что Алексей ничего не сказал на его слова, и добавил:
— А поймали себе жинку.
— Оно завсегда так, — проговорил Кукушкин, — я потому и стараюсь нигде не ходить и ничего не говорить, вроде глухонемого… Того и гляди — женят.
— За этим дело не станет.
Марья Ивановна смотрела на веселые лица Алексея и Парани и думала: «А ведь любят друг друга».
После женитьбы Алексея Марья Ивановна стала готовиться к тому, чтобы поехать в гости к Николаю. Теперь она чаще говорила о предстоящей поездке Алексею и Паране. Ей хотелось посмотреть, как устроился ее второй сын, какая у него жена. Марья Ивановна не думала о том, что совсем уедет с хутора. Она даже представить себе не могла, как это покинуть свой родной дом и жить в чужом углу, среди незнакомых людей. Ей, привыкшей с детства видеть эти места, родных и близких людей, невозможно было расстаться с насиженным гнездом.
«Поеду посмотрю, как они там живут. Степу оставлю у них, пусть учится. Скучно мне будет без него, но ничего не поделаешь».
Сегодня Марья Ивановна вместе с колхозницами своей бригады вяжет пшеницу. Переступая небольшими, еще сильными ногами, она перехватывает горсть колосьев и связывает заранее заготовленными свяслами.
Марья Ивановна почти не разгибает спины, только порой посмотрит на безоблачное небо — высоко ли солнышко — да бросит взгляд на соседок, работающих так же быстро, как и она.
На участке стрекочет шесть бригадных косилок, слышатся звонкие голоса подростков-погонычей:
— Н-но! Трогай! Ишь стали!
— Шевелись, милые!..
Над конями, людьми и косилками — белая сухая пыль. Ветра нет. Пыль держится в воздухе, долго не оседая на землю. На небольшой высоте кружится стрепет. Его тень бесшумно скользит по стерне, по нескошенному пшеничному полю. Он высматривает: нет ли где потревоженного косовицей выводка мышей. И вдруг камнем падает в пшеничную чащобу со свистом, как снаряд, рассекая воздух.
Односум Марьи Ивановны, равномерно водя вилами, будто лодочник веслом, сбрасывает на свежую золотистую стерню тяжелые, низко срезанные охапки колосьев пшеницы. На его лице — маска пыли. Чуб мокрый, но, поравнявшись с Марьей Ивановной и ее соседками, он весело кричит:
— Не отставать, бабыньки, не отставать!
— Смотри, куманек, сам не отстань! — звонко отвечает ему Наталья Артемовна. Она ловко подхватывает связанный сноп отставляет его в сторону.
Бригадир Самсон Кириллович ходит от косилки к косилке. Лицо у него загорелое, обветренное, потное. Он ругает косарей, если высок срез колосьев или где-нибудь остается огрех — крохотный островок нескошенной пшеницы.
— Зубами заставлю выгрызать! — гневно кричит он. Проверяет Самсон Кириллович и работу вязальщиц. Если на квадратном метре он найдет хотя бы пять-семь колосьев, то начинает отчитывать вязальщицу:
— Да разве так можно убирать? Это, прикинь, сколько ты зерна теряешь на гектар! Кому ты его оставляешь? Мышей да сусликов хочешь разводить?
Но если дело идет хорошо, он улыбается, обнажая ровные белые зубы, и разговаривает весело.
Вот он дружески поздоровался с Марьей Ивановной, остановился возле Никитичны. Она спросила:
— Кирилыч, ну как, во всей бригаде такая же пшеница, как здеся?
— Везде. У Катиной балки еще лучше удалась. Там — солома, что твой камыш, а зерно, как бобы. И колос к колосу — пройти невозможно.
Самсон Кириллович идет к соседнему звену, внимательно глядя на густую стерню, бережно подбирая отдельные колоски. Прошел мимо еще не скошенной пшеницы. Пшеница стояла не шевелясь, подняв кверху усики. Кое-где среди ее золотистых с медно-красным отливом головок пестрели колокольчики, повилика, кукольник. В дружной несметной семье колосьев на бугрине Самсон Кириллович увидел два куска желтого донника. «Да, есть и сорняки, — подумал он,— что-то надо делать!»
Пошел дальше в глубь полей.
В полдень на рыжем горбоносом коне к Марье Ивановне подъехал новый председатель колхоза. Он проворно соскочил с коня, подошел, широко шагая, держа лошадь в поводу. На его загорелом, бронзовом, еще не старом лице, лучились морщинки.
— Ну, здравствуйте!— Серые глаза его смотрели приветливо.
— Здравствуйте, Андрей Васильевич.
Он посмотрел на ее соседок и, понижая голос, спросил:
— К сыну-то собираешься ехать?
Так же тихо, как и Ивахненко, она ответила:
— Да, собираюсь.
Марья Ивановна продолжала вязать, работа не мешала ей разговаривать.
— Слушок есть, ты насовсем собралась уезжать к сыну.
— От добра добра не ищут. Зачем это насовсем? Надо посмотреть, как люди живут. А то, как сурчиха в нору, забилась в свои Грушки. Хоть повидаю белый свет. Говорят, он велик.
— Н-нда… Ну, что же, поезжайте. Я потому так говорю вам, что здесь вы сами хозяйка в доме, в колхозе — ударница. В районе вас знают и ценят, как члена совета. А там на все надо смотреть из чужих рук и жизнь начинать сначала.
— Все это правда, Андрей Васильевич, но я не брошу своего куреня.
— А мне не хотелось бы отпускать вас из колхоза. Нужный вы человек здесь.
— На добром слове — спасибо. Я с младшим сынком поеду. Учить его надо. А тут он у меня худенький, слабенький. Алеша и Микола росли кремневыми, я за них завсегда была спокойна.
Ивахненко улыбнулся, провел ладонью по слегка подстриженным усам. Он уже слышал от Алексея, насколько Марья Ивановна была спокойна, когда росли старшие сыны. Да и до сих пор она беспокоилась о них. Когда Алексей был пограничником, боялась, что его там убьют. Сон нехороший приснился, письма долго нет — все вызывало беспокойство. А когда он лежал в госпитале, так Марья Ивановна совсем было и сама слегла в постель.
— Как те сыны росли, вы забыли,— с улыбкой сказал председатель колхоза.
— Да нет, Андрей Васильевич, я правду говорю. Вот Миколай ходил за пять верст учиться, я так не беспокоилась. Что с ним могло сделаться? А Степа… Туда — пять верст, оттуда — пять верст, да разве может он столько пройти и учиться. Посмотреть на него! Скудненький, кровинки в лице нет. Скажешь ему: «Ты, Степа, не хвораешь?» — «Нет, мама, не хвораю. С чего это ты взяла?» А учить его нужно.
— Учите, непременно учите! Бригадира не видали? — уже громко спросил он.
— Недавно был у нас. Наверно, к Катиной балке пошел.
— К Катиной балке? Ладно.
Едва коснувшись ногой стремени, словно заправский казак, Ивахненко сразу же очутился на лошади. Он слегка тронул ее коленями, чмокнул губами и шевельнул поводами уздечки. Дончак с места пошел иноходью.
Марья Ивановна проводила Ивахненко взглядом и еще проворней принялась за работу, думая про себя: «А он ничего, обходительный. Что это с ним Алеша не поладил? Погутарить с ним — не глупой, из десятка не выкинешь. Конечно, не ровня Василию Марковичу. Но где же таких, как Василий Маркович, наберешься?»
За далеким синеющим лесом садилось солнце. В степи вдруг настала необычная тишина. Косилки перестали стрекотать, умолкли возгласы погонычей. Лишь где-то далеко, за грядой бугров, работал не видимый отсюда трактор. Воздух повлажнел. На ровной стерне заблестела паутина. Попадая под красный солнечный свет, копны хлеба казались теперь вылитыми из бронзы.
Прямая столбовая дорога вела в низину, горбилась на взгорье. В широкой продолговатой лощине, километрах в двух от участка, который убирали колхозники, раскинулся хутор Грушки.
Марья Ивановна различала очертания своего куреня, надворных построек возле него, верхушки вяза и верб. Этим куренем кончался хутор. За его околицей — Безымянка, ее отсюда не видно, за нею — лесная чаща.
Вместе с другими вязальщицами Марья Ивановна возвращалась домой. Сверстницы ее шли общей группой. Некоторые из них за день очень устали. Разговор не клеился.
Девушки и молодые женщины шагали впереди. Их было десятка три. Слышались веселые голоса и смех. Всех звонче смеялась Параня.
До Марьи Ивановны донеслись громкие голоса: один — Нюрочки Петруничкиной, другой — Парани.
— Он нынче твой, а завтра будет мой! — выкрикнула Нюра.
— Никогда он твоим не будет! — так же задорно ответила Параня.
— Уходил ко мне от тебя Митя? Уходил. Захочу — и этот уйдет.
— Не уйдет.
— А вот назло тебе отобью! Да какая ты ему есть жена? С одним жила-жила, а потом завернула хвост да к другому пошла, а завтра побежишь к третьему. Разве это жена?
— Нет, уж, к третьему не пойду, лучше — в омут. Один был у меня промах, больше не будет.
— Не зарекайся!
— Да что вы взялись спорить? — сказал чей-то голос. — Сцепились, как кошки в дубошки…
— А что она за цаца такая, своим Алешечкой никак не нахвалится: Алексей Петрович да Алексей Петрович, — передразнила Нюра.— Поставила бы его в передний угол заместо иконы да и молилась бы на него.
— Я давно на них, на иконы-то, не молюсь и тебе не советую, а похвалиться Алексеем Петровичем могу. Нет лучше казака на хуторе.
«А Параня за себя умеет постоять», — с удовольствием подумала Марья Ивановна о снохе.
— Веселая вам попалась бабочка,— не без ехидства сказала Наталья Артемовна.
— Да ничего, славная.
— А люди-то корили ее.
— Кореные-то зачастую лучше хваленых, — все так же сухо ответила Марья Ивановна.
— Значит, она вам ко двору пришлась?
— Ко двору.
— А люди говорят: не хотела ты брать ее за Алексея Петровича.— Марфа Артемовна внимательно посмотрела на Марью Ивановну.
— Да я ничего, — сказала Ястребова.
— Так уж и ничего?
Марья Ивановна пожала плечами.
— Да ведь это не мое дело. Алексею век с нею жить, ему и выбирать себе дружку.
— Век-то, может, и не век. — Теперь уж Наталья Артемовна не скрывала злой усмешки.— Может, еще семь раз замуж выйдет. Правду сказала Нюрка.
Наталья Артемовна с неприязнью относилась к семье Ястребовых. То, что Николай получил высшее образование, а Алексей из Красной Армии вернулся коммунистом, ее прямо-таки бесило. И сегодня Наталья Артемовна видела, с каким уважением поздоровался с Марьей Ивановной Самсон Кириллович, как дружески разговаривал с ней председатель колхоза.
«Ей, конечно, добро, — подумала она о Марье Ивановне, — все начальство либо родня, либо близкие люди. А кому повезет, у того и петух яйца несет». Марфа Артемовна готова была сейчас наговорить много всяких неприятных вещей, чтобы Марья Ивановна «не зазнавалась».
Но Ястребова не любила ввязываться в спор. Если нужно, она умела молчать так, словно в рот воды набрала. Лишь очевидная несправедливость к Паране вывела ее сейчас из терпения. Понижая голос, она глухо сказала:
— Ты-то в соседях жила с Бородиным, тебе-то надо бы знать, как ей там сладко жилось.
Заговорили и другие женщины:
— Мучилась бедняга!
— Голоса, бывало, не услышишь, а теперь опять зазвенела, чистая птица.
— Да я ничего, — оправдывалась Марфа Артемовна,— я ничего. Люди гутарят: на чужой роток не накинешь платок.
— Значит, бросим и толковать об этом, — серьезно сказала соседка Ястребовых.
Разговор перекинулся на последние хуторские новости. Марья Ивановна не принимала в нем участия. Она смотрела на отдаленный лес, на озеро Ильмень, которое будто готово было вот-вот распахнуться перед ней. Ласточка, крича о чем-то тревожном и вместе с тем веселом, быстро чертила круги. К озеру с шумом пролетели дикие утки. Марья Ивановна, глядя на все это внимательными глазами, вспоминала свою прошлую жизнь, старалась представить, как хозяйствует Николай с молодой женой.
Возле хутора от столбовой дороги ветвилось множество стежек. На одну из них свернула и Марья Ивановна. Ее поджидала Параня. Лицо молодой женщины было радостным, ресницы чуть-чуть вздрагивали. Она была одного роста со свекровью. Взглянув на нее, Марья Ивановна подумала: «Опять зазвенела, как птица»,— и тепло улыбнулась.
К Паране у нее было какое-то двойственное отношение. Перед самой женитьбой Алексея Марья Ивановна сказала ему:
— Вот что, сынок, то, что я говорила о ней, давай забудем. Берем в свою семью, сора из куреня не выносить и в курене его не держать. Может, оно и лучше, что ты теперь определишься. А бывало, ты то на заседания, то на собрания, а я места себе не нахожу.
— О чем же ты беспокоилась?
— О чем? Помнишь, пришел тогда ночью, всего избили, разукрасили? А в эти дни боялась, как бы совсем головы не потерял. Ведь он, Митюня-то, болтают, где-то недалеко.
— Ну, Митюни я не боюсь.
С первых дней замужества Парани Марья Ивановна попыталась ближе сойтись с ней. Но нелегко было матери примириться с мыслью, что Параня ее сноха: она совсем не чета Алексею. «Природа ихняя рано или поздно скажется,— думала Марья Ивановна.— Обманет она Алешу, крепко укусит». Так и возникло это двойственное отношение.
Некоторое время шли молча. Параня посмотрела на отлогий дальний берег Ильменя, где табунилось медленно приближающееся стадо.
— Коровы идут,— сказала она,— пойду встречать.
— Степа пригонит, не беспокойся.
— Ну, в таком случае, мамаша, я схожу на Безымянку, выкупаюсь, а потом приду и корову подою, ладно?
— Ладно, дочка, сходи, искупайся. Не устала?
— Ни капельки.
— А я вроде устала.
После этого разговора сердце ее еще больше потеплело к снохе: «Как птица зазвенела…»
Марья Ивановна вошла в курень, умылась и начала готовить ужин. Скоро на хутор с ревом пришло стадо. Марья Ивановна слышала, как во дворе разговаривали Параня и Степа, как сноха начала доить корову. Голоса Степы не стало слышно. Наверно, убежал к товарищам.
Вошел Алексей.
— Устал, сынок?
— Да не так устал, как расстроился,— ответил он, садясь на табуретку.
— А что такое? — тревожно спросила Марья Ивановна.
— Да ничего такого сурьезного: Иван Родионович косогон сломал.
— Ну и что же, ты из-за косогона расстроился?
— Вся беда, мать, в том, что сломал-то он его дуриком, все из-за своей лени. Весь в батяню вышел, в Родю. Тихон Кукушкин говорит, что Ивана Родионовича тоже частенько сон придавливает, как его отца. Так оно и есть. Другие работают, никаких аварий. У этого — на дню семь бед. Только за нынешний день порвал постромки — новенькие постромки были,— колесом наехал на дехтярку — и деготь пролил и посуду помял, да к тому же сломал косогон. Пришлось послать в кузницу… Скажи, как его, такого лодыря, земля держит? Весной послал плугатырем — отстает от всех. Чуть недоглядишь — спать завалится. Пришлось тогда снять его с работы. И теперь не знаю, что с ним делать,— Алексей помолчал и снова, уже с усмешкой, заговорил:— Над ним вся бригада потешается. «Иван Родионович,— кричат,— сколько времени?!» Он достает из кармана часы, поглядит на них и отвечает важно так. А народ, известно, подымает его на смех. Три черта у меня в бригаде: он с отцом да Хватыш. Все работают, как и должно быть, а эти… Хоть гони их из бригады в три шеи.
Теперь уж Марья Ивановна плохо слушала сына. Ее снова заняла мысль об отъезде.
— Ну, а ты как, мать? — спросил Алексей, меняя тон. Она догадалась, о чем спрашивает сын.
— Да так… Поеду, посмотрю.
— Боюсь, что ты останешься там.
— Не бойся.
— Я потому беспокоюсь: по хутору разговоры идут всякие. Но ведь мы тебя, мать, не гоним. Жить мы будем не хуже других. Хлеба на трудодни в этом году должны получить немало — не все же на элеватор вывезем!.. Корова у нас своя. Можно эту продать, а купить помоложе, получше.
— Да я ничего.
— Ведь это ты прежде думала уезжать к Николаю. Но тогда мы бедно жили, концы с концами не могли связать.
— Это все уже прошло, Алеша. Ты о той жизни и не напоминай. Мне во сне когда приснится, что мы последний кусок доедаем, и то волнуюсь.
Вошла Параня с порожним ведром. Увидав мужа, она как-то вся подалась к нему, глаза засветились нежным огнем. Он тоже заулыбался, тонкие морщинки, которые мать только что видела на его лбу, разгладились. И Марья Ивановна с неожиданной завистью подумала: «Живут лучше, чем мы с упокойником мужем».
Николай и Таня уже больше недели жили в кубанской станице. Как-то хозяин дома, бригадир полеводческой бригады, у которого они стояли на квартире, предложил им поехать в степь.
— Как думаешь, Таня? — спросил Николай.
— Поедем. Очень интересно.
Оставляя за собой медленно оседающую пыль, тачанка мчалась по дороге. Новые, сверкающие на солнце шины гремели. Две сытые лошади не нуждались в кнуте. Они словно сами обрадовались, что можно нести грохочущую в молчаливой степи тачанку. Николай сидел позади бригадира и поддерживал Таню. Она боязливо жалась к нему, чувствуя себя неловко на этой мчащейся, не очень удобной повозке.
Здешние места резко отличались от родных Николаю верховьев Дона. Степь была до того ровной, что это удивляло даже его, степняка. Только за Кубанью, на самом горизонте, как намек, видны были горы. И растительность здесь была богаче. Николай глядел на высокие пшеничные колосья с отяжелевшими, чуть склоненными головками, и ему становилось обидно, что у себя на родине он никогда не видел такого урожая. Отдельные колосья пшеницы, потемневшие от пыли, вышли на дорогу и остановились впереди своих товарищей. Казалось, им хочется перейти дорогу, не отстать от неисчислимых полчищ, которые медленно движутся к Кубани.
И работали тут иначе. Вот вслед за двумя лошадьми, кивающими косматыми головами, проплыла, ныряя в волнах пшеницы, косилка-самоскидка.
— Пробный покос,— пояснил бригадир.
— Что? — спросил Николай, оторвавшись от своих дум.
— Пробуют косить выборочно. Это колхозники «Красного форштадта», наши поля за ними.
Николай провожал взглядом косилку до тех пор, пока она совсем не утонула в хлебах. Вот скрылись и две косматые лошадиные головы. Осталось только волнистое пшеничное поле с его золотистыми и зелеными переливами да на горизонте кучка деревьев возле железнодорожной будки.
«А у нас-то лобогрейками косят»,— с грустью подумал Николай.
— А почему такое название?
— Крепость была в этой части станицы: от черкесов защищались.
Подъехали к реке вплотную, и дорога пошла над высоким правым берегом, круто обрывающимся к Кубани. От воды потянуло прохладой, лошади оживились.
И отсюда Николаю было видно, как быстро внизу бежит мутная вода.
За Кубанью желтело пшеничное поле. Его пересекал широкий, зеленый с позолотой пояс кукурузы. Километрах в трех виднелся небольшой аул. Сакли его столпились вокруг мечети. Дальше, за аулом, чуть левее,— многочисленные сады и постройки станицы. На самом горизонте, почему-то кажущемся близким, белое облако, будто светящееся изнутри, а рядом с ним — цепь облаков поменьше. Они также светились. Синели неясно видимые подошвы Эльбруса, или Шат-горы, как называют ее в народе, с младшими сестрами-горами. И трудно было поверить, что отсюда до Эльбруса больше сотни километров,— гора, казалось, совсем недалеко.
Николай оглянулся, Таня тоже смотрела на горы. Лицо ее выражало восторженное удивление.
Горы медленно плыли на горизонте в одну сторону с тачанкой. Аул, заворачивая, уплывал назад. Теперь уже станица не казалась левей его. В стороне от аула застыла в полете какая-то, отсюда не разобрать, хищная птица. Голубая дрожащая черта горизонта сильнее подчеркивала строгую красоту белых, будто светящихся изнутри гор, их неуловимый переход от выпуклых сверкающих вершин к слегка затуманенным подошвам.
Лошади, повинуясь слабому шевелению вожжей вдруг очнувшегося от каких-то дум бригадира, круто повернули от Кубани, Николай ощутил на спине холодок, идущий от реки, и не видно стало аула. Как сновидение, исчез рисунок светящихся гор. Тачанку стало подбрасывать на кочках дороги. Колеса затарахтели особенно сильно. Таня крепче схватилась за локоть Николая и не выпускала его до тех пор, пока лошади вдруг не остановились возле небольшой побеленной мелом хаты. При неожиданной остановке Николай и Таня дружно качнулись вперед, потом назад.
— Приехали к стану,— как новость сообщил бригадир басом, поворачивая к Николаю и Тане загорелое, запылившееся за дорогу лицо.
Хотя Кавказ был далеко отсюда, все же соседство с ним сказывалось во многом, даже в мелочах. Обедали возле хаты за низеньким, вровень с коленями, столом — сырной. Короткие тени от жилища не закрывали сырны. Очень низкими были скамейки. Никогда прежде Николай таких не видел.
После обеда Николай и Таня под руку пошли по знакомой дороге к белеющим облачкам гор. Николай задумчиво смотрел, как плывут тени, падающие на колосья пшеницы, как дальше они движутся по кукурузе. Кое-где из-за колосьев выглядывал голубенький василек. Остановились на берегу Кубани.
Николай неясно думал о том, что вот там, за четким рисунком будто светящихся гор своя жизнь, но и за этими горами — тоже колхозы. «Как это хорошо, народ наконец-то понял, по какой дороге идти». Николай взглянул на Таню и испугался. Она плакала.
Он с изумлением смотрел, как из больших черных, широко открытых ее глаз падают слезы.
— Что с тобой? — спросил он оторопело. Николай впервые видел ее слезы.
— Не знаю… Глупости…
И Таня в самом деле не могла бы объяснить причину своих слез. Почему-то ей было очень грустно вдали от родного города, в этой пустынной, чужой для нее степи.
Николай только сейчас, впервые после женитьбы, почувствовал и понял, что он и Таня — не одно целое, что до конца он ее не понимает и, возможно, не поймет. Это поразило его и озадачило.
Одинокий маневровый паровоз дал гудок и — опять тишина. Тишина особая, томительная, душная кубанская тишина. Зной нестерпимый. В густой тени под широкими липами несколько скамеек со спинками. На одной из них сидят Николай и Таня. Николай глядит на пчелу, жадно прилипшую к желтой сурепке. Он видит, как пчела раскачивается на сурепке, но думает совсем о другом. «Первое впечатление… Главное — первое впечатление. Как они встретятся? Потом, конечно, привыкнут».
Таня глядит мимо подстриженных акаций, вплотную подошедший к красному зданию вокзала. Она тоже думает о предстоящей встрече.
Сегодня утром была получена телеграмма о том, что Марья Ивановна и Степа едут сюда, на Кубань.
Раньше Николай никогда так не задумывался над своей дальнейшей семейной жизнью. Для него все казалось ясным. Мать и Степа должны будут жить с ним и с Таней. И сейчас он не думал иначе. Но только теперь, когда получил телеграмму, он понял, что вопрос о том, как сложатся взаимоотношения между женой и матерью, не простой, а один из главных в его семейной жизни.
Зная взгляды Николая на этот счет, Таня никогда не говорила ему своего мнения. Она считала, что лучше посылать матери и Степе деньги, чем жить вместе с ними. Хотя она и не говорила Николаю об этом, но он знал ее мнение. Это очень не нравилось ему. Вот почему Таня к своей предстоящей встрече со свекровью и младшим братом Николая готовилась, как к труднейшему экзамену.
— Пройдем по перрону,— предложил Николай.
Таня молча встала. Он взял ее под руку, и они медленно пошли к вокзалу.
На перроне было пустынно. В тени на темном продолговатом чемодане возле большого окна сидела молодая белокурая женщина. Она смотрела на хорошенького мальчугана лет трех с очень белыми, мелко вьющимися кудряшками, выбивающимися из-под бескозырки, и радостно улыбалась. На бескозырке черная ленточка с надписью «Марат». Мальчик в рубашке-матроске. Он то подбежит к матери, присядет на край чемодана, то убежит к белому баку и спрячется за него. Время от времени раздаются предостерегающиа возгласы матери:
— Витя, не надо! Витя, иди сюда!
— И у нас будет такой же,— с улыбкой сказал Николай.
— Возможно, дочка,— стыдливо сказала Таня.
— Зачем же дочка? — серьезно спросил Николай.— Ты мне сына роди.
— Непременно сына?
— Обязательно!
— Неужели ты так смотришь на это? — обеспокоенно спросила Таня.
— Да нет, конечно,— чуть смутившись, сказал Николай, и, чувствуя, что говорит неправду, добавил:— Но все-таки лучше — сына.
Таня засмеялась. Ей нравилось говорить об их будущем ребенке, а сейчас она говорила об этом особенно охотно и потому, что этим разговором пыталась заглушить внутреннюю тревогу. Ей казалось, что если они сейчас нечаянно замолчат, то придется говорить о будущей семейной жизни, о том, как жить со свекровью. А как раз об этом-то говорить они сейчас и боялись.
До прихода поезда оставалось уже немного времени. На перроне появились люди. Мимо Николая и Тани прошли ребята, оживленно и громко разговаривая. Прошагал мужчина со свернутым прорезиненным плащом на руке. Он посмотрел на Таню карими глазами, чуть прикрытыми большим козырьком лихо заломленной синей кепки, и Николай перехватил этот взгляд и подумал с неприязнью: «Вроде Толика».
Торопливо прошел человек в красной казенной фуражке. «Дежурный по станции»,— определил Николай.
— Надо спросить, не опаздывает ли поезд,— сказал он.— Ты побудь здесь, а я спрошу.
Степа, как и Марья Ивановна, ехал по железной дороге впервые. Глядя в окна вагона на бескрайние равнины, на речушки и реки, на станицы и хутора, пробегающие мимо, он удивлялся: как же много в мире людей, как широки просторы, как богаты и разны сады, как много такого, чего он не видел!
Если бы не мать и не эти знакомые узлы и корзины, он оробел бы от обилия новых впечатлений.
— Верблюд! Мама, смотри, живой верблюд! — закричал он, указывая на шлях, что шел рядом с железной дорогой. До сих пор Степа видел верблюдов только на картинках. Ему особенно понравилось, как далеко вперед выбрасывает верблюд крепкие ноги и как смешно колышутся при беге его горбы, похожие на сумки.
— Ты потише, Степа,— просила Марья Ивановна,— людям мешаешь.
А он уже не слушал ее, опять прильнул к окну.
Глядя на Степу, Марья Ивановна вздыхала и снова начинала думать о том, о чем она уже не раз думала, но что только теперь должно было решиться окончательно. Вспомнила про письмо Николая и Тани. «Пишет-то она хорошо, а кто ее знает, что у нее на уме? Вот доведу до дела Степу, тогда и жить буду по-иному. Тогда дело пойдет… Три сына». Ей на ум пришла пословица: «Один сын — не сын, два сына — полсына, три сына — сын». А ведь и правда. Один сын умереть может, со вторым можно характером не сойтись, да еще какая сношка попадется. А три сына — три костыля на старости лет: будет на кого опереться.
Еще одно беспокоило ее. Если бы Николай не учился так много, не окончил бы университет, а женился бы дома, на своей хуторной девушке, мать была бы спокойна. Она хоть бы знала, как обходиться с невесткой. Но то, что Николай женился на городской, да к тому же из интеллигентной семьи, пугало. Она, простая казачка, только три года назад научилась читать и писать и совсем незнакома с привычками и условиями жизни высшего, с ее точки зрения, общества. Будучи женщиной умной, она вполне понимала свое положение. Конечно, и деревенские разные бывают, но с ними Марья Ивановна всегда найдет общий язык, а интеллигенты — разве их поймешь?
— На следующей вам сходить, — сказала проводница. Марья Ивановна сразу же забеспокоилась, засуетилась: «А вдруг не успеем?» И задолго до остановки перенесла все вещи в тамбур. Все-таки она не чувствовала доверия ни к словам проводницы, ни к поезду. В тамбуре Марья Ивановна держалась обеими руками за узлы и корзины, будто защищала свои пожитки от какой-то, пока еше невидимой, опасности, которая может нагрянуть всякую минуту.
Последний перегон. Мелькают белые копны пшеницы, по-особенному прогремели колеса на мосту. Поезд замедлил ход. Мимо Степы и Марьи Ивановны к двери вагона с трудом пролезла проводница. Она первой сошла на платформу. За ней, обвешанная узлами, стала спускаться Марья Ивановна. Степа помогал ей. Оба они с тревогой оглядывали снующих по перрону, толпящихся людей, отыскивая среди них знакомую фигуру Николая. «Ага, вот он! Ну, слава богу! — подумала Марья Ивановна и в ту же минуту увидела рядом с сыном молодую красивую женщину.— Это она!»
Взволнованная важным значением наступающей минуты, Марья Ивановна успела только заметить, что Таня в кремовом шелковом платье, в летней коричневой легкой шляпке. В следующий момент Николай уже снимал с плеча матери узлы, подхватил корзину и все это складывал но перрон. А Марья Ивановна и Степа очутились рядом с Таней.
Быстро взглянув на растерявшуюся свекровь, Таня поцеловала ее. Марья Ивановна ответила, и у нее навернулись слезы. Степа, длинный, худой подросток, робко глядел на Таню. Он стеснялся и Николая, которого давно не видел, и особенна «сестрицы», как он мысленно называл Таню. После общего минутного молчания Николай, продолжая сиять улыбкой, спросил:
— Ну как доехали?
— Да ничего, сынок,— успокоила его мать.— Только посадка была трудной.
— Подвезем? — спросил Николая казак лет тридцати шести, похлопывая кнутом по голенищу сапога.
— Сколько возьмешь? — спросил Николай.
— А куда везти?
— На Пролетарскую.
— Бывшая Правленская, что ли?
— Не знаю.
— На одной улице с почтой?
— Да,— сказал Николай.
В те годы все ломалось, менялось, строилось, страна жила еще по двум календарям — старому и новому, местные жители редко знали новые названия улиц. А народ приезжий смотрел только на таблички на домах, для него не существовало старого.
— Три целковых,— проговорил казак, хлопнув по голенищу сапога.
— Поехали,— сказал Николай.
«Какие деньги! — С ужасом подумала Марья Ивановна.— Хоть бы порядился, может, сбавил бы этот разбойник». И она почти с ненавистью смотрела на извозчика.
Поезд пошел. Замелькали колеса. Чаше, чаще. Тени от вагонов, будто пригнувшись, бежали рядом с дорогой. Перрон как-то сразу опустел. Проводив глазами поезд, Николай вздохнул и стал укладывать вещи на пролетку.
Дорогой Николай расспрашивал мать о поездке, входя во все подробности. И Таня, и Марья Ивановна, и сам он понимали, что разговор об этих пустяках сейчас был необходим, чтобы избежать молчания.
Только Степа не принимал участия в разговоре. Он смотрел на широкую улицу, которой, казалось, нет конца, видел за высокими деревянными заборами подстриженные акации, тутовник и плодовые деревья, разглядывал большие, грузные, крытые железом дома с тяжелыми ставнями и не переставал удивляться: все было непохоже на то, к чему он привык на родном хуторе.
Возле большого высокого дома с белой оцинкованной крышей пролетка неожиданно для Степы остановилась. Извозчик соскочил с козел и побежал отворять ворота, «Неужели в этом красивом доме я буду жить?» — с изумлением и недовернем подумал мальчик.
В комнату Марья Ивановна, а за нею Степа вошли робея. Большой письменный стол, обтянутый зеленым сукном и заваленный книгами и бумагами, мягкая мебель, множество незнакомых и непонятных вещей, как в городском магазине. «Зачем все это? — с тревогой подумала Марья Ивановна.— Как тут жить? Только и думай, чтобы не задеть что-нибудь, не сломать, не уронить…» И сразу расстроилась. Ее охватило какое-то непонятное беспокойство.
И хотя Марья Ивановна всегда и во всем любила порядок, сейчас ей были милы только вот эти разбросанные и как попало сваленные на столе книги и бумаги. В них она узнавала, своего сына. Все остальное пугало ее. И позже Марья Ивановна не любила этой комнаты с обилием непонятных и, по ее мнению, ненужных вещей.
Зато Степа смотрел на все с удивлением и восхищением и воспринимал как продолжение чудесного сна, который начался с того момента, как мальчишка сел в вагон.
Немного погодя в другой комнате, поменьше размером и попроще обставленной, сели ужинать.
Марья Ивановна примостилась на краю стула. Она стыдилась своего неумения взять вилку и ложку (она слышала как-то, что городские делают это по-своему, по-особенному) и старалась меньше съесть, чем ей хотелось. Несколько раз она выразительно взглянула на вспотевшего от усердия Степу, чтобы и он ел поменьше, но тот не обращал внимания на красноречивые взгляды матери. Ел все подчистую.
«Еще, чего доброго, подумают, что мы сроду хорошего куска не видали»,— мысленно с горечью говорила Марья Ивановна. Наконец она все-таки не выдержала и сказала Степе:
— Ты смотри, сынок, не заболей.
— Пусть ест,— сказала Таня.— А вы что-то мало едите? Стесняться нечего, вы дома.
После обеда Николай начал расспрашивать мать о жизни на хуторе.
— Алеша — бригадир и секретарь ячейки,— говорила мать. — С женой живут душа в душу. Славная бабенка оказалась. Кукушкин теперь у нас трактористом. Образовался парень. Да у нас много своих трактористов. И Великанов, и Веркин, и Деревяникин. Алексей тоже хотел в трактористы, но его не пустили…— Начав говорить о хуторе, Марья Ивановна не могла остановиться. Только теперь, вдали от родных мест, она поняла, как близко и дорого ей все, что осталось в Грушках.— Хлеб уродился ныне неплохой, но порядка того нет, какой был при Василии Марковиче. Председатель у нас бывший железнодорожник, крестьянской жизни совсем не знает, все командует, да выпивает к тому же…
— А Ильмень не пересох? — спрашивает Николай.
— Нет, в этом году воды много.
— Побывать бы теперь там! — мечтательно сказал Николай.— Были бы крылья — поднялся бы сейчас, часика три хотя бы на своем хуторе побыл и назад, сюда.
— Не хватает крыльев? — смеясь, спросила Таня.
— Не хватает,— смущенно признался Николай.
— Еще одно, сынок, беспокоит хуторян,— после небольшого молчания, понизив голос, сказала Марья Ивановна. Она покосилась на дверь в хозяйскую квартиру.
— Что такое?
— Да пшеничку прямо с тока везут на элеватор.
Николай понимающе улыбнулся и начал объяснять, как малому дитяти:
— Хлебозаготовки вроде первой заповеди. Иначе нельзя…
— Так-то оно, может, и так,— со вздохом сказала Марья Ивановна,— только промежду людей разговоры идут разные. «Вот,— говорят,— работаем, работаем, а у нас все забирают. Зима подойдет — придется класть зубы на полку: есть будет нечего». Алеша мне разъяснял: «Это,— говорит,— мама, кулацкие корешки вредные слухи пущают». Может, оно и так, но на хуторе из-за этого здорово переменился народ.
— Как это народ переменился? — Николай боялся понять смысл ее слов и вместе с тем ожидал подтверждения своей давнишней догадки.
— Да так и переменился. Когда начинали уборку, на работу все спешили. А как только пшеничку, за возами воза, стали отправлять на элеватор — хуторян, как скажи, подменили… Алеша ходит, ходит по дворам — хоть тресни, не хотят выходить на колхозные работы.
Догадывался Николай, что и здесь, на Кубани, в станице Шатгорской, именно потому в колхозах резко пала трудовая дисциплина.
— Но хлеб нужен государству! — мысленно кричал он себе. — Рабочий класс, интеллигенцию, Красную Армию нужно кормить… Не покупать же его за рубежом?!
До сегодняшнего дня, в сущности, он не понимал, насколько усложнилась обстановка на селе.
Раньше всех заснул Степа. Он и во сне продолжал ехать. Ему снился поезд, паровозный дым, диковинные поля и на них маленькие фарфоровые фигурки, размахивающие колесами. Фигурки сошли с комода Тани…
Марья Ивановна не спала. Она, часто вздыхая, припоминала всю свою жизнь. «Если бы теперь был в живых упокойник муж, я ни с кем бы не жила из детей». Вспомнила свой курень и искренне пожалела, что тут, в этих больших и тесных комнатах, нет того родного уюта, какой оставила она дома.
«Алексей теперь думает, доехали мы или не доехали.— И опять вздыхала.— Поживем — увидим. С месяц поживу тут, погляжу, а там уж домой…»
О доме, о своем хуторе, об Алексее и Паране она думала с удовольствием. Отсюда, издалека, Параня казалась ей особенно славной…
Таня лежала с открытыми глазами и думала о свекрови. Мысленно она видела перед собой эту маленькую женщину, и ей почему-то было жаль ее. «Непонятная она,— думала Таня,— молчит, сумрачная. Узнать бы, чем она недовольна». И ее охватывал страх: как бы не испортила свекровь так счастливо налаженную жизнь. С ее приездом — нет, еще прежде, в тот момент, как была получена телеграмма, между Таней и Николаем легла какая-то тень. Теперь Таня таит от него свои мысли, а он таится от нее. Таня об этом догадывалась и понимала, что мысли свои ей нельзя высказать вслух: Николай может обидеться, даже наверняка обидится.
— Не спишь, Таня? — тихо спросил Николай.
— Сплю,— Таня засмеялась.
— Ну как мать?
— Женщина хорошая. Но мне страшно… Знаешь, Коля, я не помню своей мамы, и я бы очень хотела полюбить твою маму, как свою. Но я не понимаю ее…
— Поймешь,— твердо сказал Николай.— Я завтра возьму с собой Степу, а ты с ней поговори тут… Знаешь, она, в сущности, была несчастной… А теперь многое от нас зависит. К ней надо подойти с открытой душой.
Николай был уверен, что мать его исключительно хорошая и умная женщина, а жена такая, каких больше нет на свете, и они, конечно, поймут друг друга. Он не знал, какое двойственное отношение было у матери к Паране после женитьбы Алексея. Все в жизни ему казалось много проще, чем это было на самом деле.
— А Степа понравился? — спросил после непродолжительной паузы Николай.
— Очень,— сказала Таня.
— Хороший мальчишка. Ты в этом сама убедишься. Он будет твоим главным помощником по сбору растений и ловле бабочек.
Они долго еще не спали, но уже не разговаривали, а думали свои думы каждый про себя: она — с тревогой, Николай — со светлыми надеждами.
Всех быстрее со своим новым положением освоился Степа.
На другой день утром, после завтрака, он ушел из дому смотреть школу, в которой, как сказал еиу Николай, осенью он будет учиться.
Угловой одноэтажный дом выходил множеством окон на широкий станичный плац и смежную улицу. В этом доме было не меньше десяти просторных классных комнат. В палисаднике — высоко разросшиеся чинары. Над дорогой будто застыла в воздухе мелкая, почти невесомая станичная пыль.
Степа изумленными глазами смотрел на большие светлые окна школьного здания, на свежевыкрашенную зеленую крышу. Таких домов не было на хуторе. И широкие лапчатые листья чинары, чем-то напоминающие кленовые, и жирная зеленая трава, и влажное проникающее тепло, будто настоянное на неведомых травах, — все было непохоже на то, что Степа знал с малых лет.
«Вот тут я теперь буду учиться»,— подумал он и не знал, радоваться ему по этому поводу или печалиться. Он вспомнил свой хутор, небольшое, школьное здание, Алексея. Безымянку, Ильмень. Здесь везде возле домов сады. Улицы кажутся бесконечными. А там — все как на ладони. Вспомнил и знакомых ребят.
«Теперь играют небось без меня, купаются вволю, а тут — никого знакомых.— Стало скучно.— Домой, что ли, пойти?»
— Чего стал тут? — спросил паренек, лет тринадцати-четырнадцати, с нахмуренным лицом, с серьезными серыми глазами, не предвещающими ничего хорошего.
— А тебе какое дело?
— Вот дам — узнаешь, какое дело.
— Видали мы таких да через себя кидали.
— Не очень-то хорохорься.
— Сам не приставай.
Оба подростка подошли ближе друг к другу. Паренек был повыше Степы и казался более сильным. Его босые ноги были зацыплены, серая рубашка подпоясана узким кожаным ремешком. Он быстрым движением рук поправил простенькие матерчатые брюки, подтянул их. Они были с большой латкой на правом колене. Затем, выпятив грудь, он выбросил вперед тугой кулачок.
— Вот дам тебе — будешь знать.
— Попробуй.
— И дам.
— Дай… За чем же дело стало?
В следующий момент несомненно состоялась бы драка, но с улицы, что примыкала к школе, вышел с костылем в руке невысокий сухощавый старик. Он подошел к ребятам и остановился, разглядывая их. Старик не торопился. Делать ему было нечего. Сыны, дочь и внуки работали в колхозе. Он, во все вмешиваясь, отдыхал, скучая без работы. Черная густая борода иссечена сединой. Покрасневшие, выцветшие глаза слезились от яркого солнечного света. Что-то неуловимое в его фигуре напоминало Степе Василия Марковича.
— Вы что это распетушились? — строго спросил он, переводя взгляд с лица Степы на возбужденное покрасневшее лицо его противника.
— Да ничего,— ответил Степа.— Вот наскакивает, пройти не дает. Думает, так его и испугались.
— А ты чей, хлопец? — спросил старик, любуясь бойкой собранной фигуркой Степы.
— Ястребов.
— Приезжий?
— Приезжий. Мой брат будет учительствовать в этой школе,— кивнул Степа на здание.— Он у нас университет окончил. Студентом был.
— Давно приехали сюда?
— Я с матерью вчера, а братушка с сестричкой давно.
— Ну вот, видишь,— укоризненно сказал старик, обращаясь к противнику Степы. Он отер носовым платком набежавшую слезу.— Человек только что приехал в станицу. У него, наверно, и товарищей-то никого нет, а ты с кулаками к нему пристаешь. Разве так можно?
— Да я ничего. Он сам.
— Я тоже ничего,— сказал Степа.
— Вот все вы так,— проговорил старик.— До моих лет доживете, тогда вам будет не до драки.
— А сколько тебе лет, дедушка? — спросил Степа.
— Девяносто седьмой пошел.
— Девяносто седьмой?!
— Да, девяносто седьмой… Вот я сейчас приду домой, рад буду месту, а вы петушитесь, наскакиваете друг на друга. А зачем это нужно? — Он покачал головой и медленно пошел, далеко отставляя палку.
— Девяносто седьмой год, а видал, сколько зубов-то? — спросил у Степы его противник.
— Видел.
Ребята задумались.
— Ты учиться будешь в этой школе? — спросил паренек, первым нарушая молчание. Голос его теперь стал спокойным, даже дружественным.
— В этой,— миролюбиво ответил Степа.
— А в каком классе?
— В пятом.
— В пятом! — обрадованно проговорил паренек, и серые глазенки его заблестели.— Я тоже в пятом… А живешь где?
Степа ответил.
— Мы, оказывается, почти соседи! Я знаю твоего брата. Меня Митрофаном зовут. Митрошка… Давай дружить с тобой?
— Давай,— охотно согласился Степа.
Ребята понравились друг другу. Главное, ни тот, ни другой не струсил.
— А у нас знаешь какой сад! — сказал Митрофан.— Абрикосы по кулаку вырастают, а виноград… Вот какие кисти,— показывая, Митрофан отдалил друг от друга ладони и растопырил пальцы.
Степа не знал абрикосов, никогда не видел, как растет виноград, но ему не хотелось оставаться в долгу.
— А у нас на хуторе тоже есть сад.
— А откуда ты приехал?
— Мы из Донской области.
— А река у вас есть? — спросил Митрофан.
— Есть… Безымянка у нас… Широкая. Плывешь-плывешь и устанешь. А зимой на ней по льду катаешься. И рыбы много-много. А еще озеро у нас есть, как море, большое…
— А у нас Кубань. Вода в ней мутная-мутная. А бежит быстро… И холодная-прехолодная, прямо ледяная.
— Значит, и купаться нельзя?
— Нет, мы купаемся… Только сначала обожжет, а потом ничего.
— А у нас вода теплая-претеплая.
И недели не прошло со дня приезда, а у Степы уже оказалась целая ватага товарищей. Он торопливо завтракал, так же наспех, но с большим аппетитом обедал, потом до самого ужина не появлялся домой. Раза два он приходил со свежими ссадинами и царапинами, как-то появился с разорванным подолом рубахи.
Во вторую комнату, где была кровать Николая и Тани, он не любил заходить, но в общей комнате он чувствовал себя свободно, лишь несколько чуждался «сестрички». Зато было у него и великое преимущество по сравнению с прошлым: мать стеснялась в присутствии Тани ругать его, только иногда выразительно качала головой да грозила пальцем. Но он знал, что матери всех знакомых ребят вечно недовольны то тем, то другим. Особенное неудовольствие Марья Ивановна выразила, когда Степа пришел с большим синяком под левым глазом.
Николай все эти синяки и царапины считал делом вполне естественным и не докучал Степе выговорами. Ведь и сам Николай лет с семи рос на улице, а в восемь уже участвовал в кулачных боях. Конечно, он жил в иное время и в иной среде, но в глубине души считал, что нельзя же расти парню недотрогой. Будет у него сын, несомненно, придется и ему бегать, и драться, и резвиться.
Михаил Васильевич Моисейченко тяжело переживал свое одиночество. Хотя с Таней в ее студенческие годы он чаще всего виделся только за столом, в часы ужина, но это было ежедневно. С кем, кроме Тани, он мог поделиться своими мыслями? Кто еще мог так понять его? Была ли это радость или горе, удача или неудача, новость в мире научном или в кругу профессуры, Михаил Васильевич делился ею с Таней. И она умела слушать — редкое качество в человеке — и умела понимать с полуслова. Лишь теперь, в одиночестве, Михаил Васильевич почувствовал и понял, что, в сущности, жизнь-то уже проходит.
По старой привычке в вечерние часы сидя в столовой, он ждал прихода дочери, а потом вспоминал, что она не придет, и с грустью думал о себе и о своей жизни. Иногда отчетливо вставала мысль: «А ведь я почти ничего не сделал. Что ожидает меня, кроме одинокой старости?» Конечно, он знал, что сделал многое. Он руководил теперь работой всего отделения. Его ученик Редько преподавал на кафедре русского языка. К концу приходила работа над собственной исследовательской книгой. В глубине души Михаил Васильевич считал, что это самое серьезное исследование о русской классической литературе из числа появившихся за последние годы. Да ведь книга еще не кончена, и неизвестно, как она будет встречена. Да может, он и переоценивает ее. Михаил Васильевич хорошо знал, что автором свойственно переоценивать свои труды.
После отъезда Тани Михаил Васильевич вдруг стал замечать, что и волосы у него седые, и сил мало. По ночам его пугала бессонница. Прежде на все это он как-то не обращал внимания и только в шутку, в присутствии других называл себя стариком, зная, что непременно услышит от собеседника:
— Какой же вы старик!
Однако теперь Михаил Васильевич нехотя приходил к выводу, что и в самом деле он давно уже пожилой и даже старый человек.
По существу, теперь он жил только интересами своего исследования. Все остальное отодвинулось куда-то на второй план, потускнело.
В эту пору ему в руки попала только что вышедшая из печати книга одного известного профессора «Пушкин и мировая литература». Автор бесстыдно доказывал — вернее, пытался доказывать,— что Пушкин — западноевропейский писатель. Великого русского поэта якобы больше волновали извечные мировые темы, а не интересы и судьбы русского народа. Обильно цитируя «Скупого рыцаря», «Моцарта и Сальери» и «Каменного гостя», профессор силился доказать, что Пушкин больше любил Запад, чем Россию.
— Позвольте, позвольте, уважаемый, — заговорил вдруг Моисейченко, как если бы перед ним был автор книги,— а почему бы не взять «Евгения Онегина», «Полтаву», «Медного всадника» и «Бориса Годунова»? Понятно почему,— ответил он сам себе.— Здесь Пушкина нельзя назвать «западным», тут он русский, а это вас, уважаемый, не устраивает.
Моисейченко стал читать дальше, и его поразил язык. Впечатление было такое, будто автор иностранец. Русских слов в этой русской книге было меньше, чем иностранных. «Ага, вот оно»,— полумал Моисейченко, наткнувшись на следующие строки:
«Пушкин был не только по своей культуре, но и по своим творческим устремлениям, по своему мировоззрению, по всему своему философскому характеру более европейский писатель, чем Толстой и Достоевский».
— Вот теперь ясно, уважаемый! — воскликнул Моисейченко обращаясь к отсутствующему автору.— Теперь я понимаю, почему вы обошли вопрос о национальной почве, породившей Пушкина. Вы, уважаемый господин, космополит и задались целью сделать космополитом русского национального поэта. Не позволим!
Минут пять Михаил Васильевич взволнованно шагал по кабинету.
— Надо быстрее кончать свою работу,— думал он.— А то выпускают вот такие книги, пишут всякую гадость, морочат голову молодежи…
Немного успокоившись, он сел к столу и продолжал чтение: «Толстой и Достоевский отрицали Запад, противопоставляя ему свои восточные идеалы, идеалы России».
— Гм… Русские, дескать, скифы, дикари, Азия. Толстой и Достоевский — тоже азиаты и потому защищали перед Западом «свои восточные идеалы»! Да где вышла эта книжка — в Париже, в Лондоне или в Берлине? — Моисейченко с гневом взглянул на обложку.— Ленинград! Какой позор, какой позор!
С этого вечера Михаил Васильевич вошел в творческую колею. Гнусная пачкотня известного профессора разъярила его, и он стал работать с таким запалом, как когда-то до замужества Тани.
Был ясный и теплый августовский день. Во дворе играла в волейбол детвора. Под окнами квартиры Моисейченко, возле винного склада «Конкордия» грузчики возились с бочками и бочонками. Белье, развешенное на протянутой веревке от дерева к одноэтажному кирпичному дому, помахивало пустыми рукавами и слегка раскачивалось. Над красной заржавевшей крышей, возле антенны, летали голуби. Михаил Васильевич сидел за столом и с увлечением работал. Вдруг ручка замерла в его руке, повиснув над бумагой. Он вздрогнул: «Не бредить ли я начинаю? Но нет, это ее голос».
Дверь в кабинет широко распахнулась, и на пороге будто возникла Таня. Не видение, не сон — настоящая, живая, смеющаяся Таня! А за ее плечами высокий Николай!
Михаил Васильевич встал, широко раскинув руки, и дочь подбежала, обняла его — радостная, загорелая, с сияющими глазами.
— Папа!
— Таня!..
Слов почти не было, были сплошные междометия, восклицания и восторги…
Николай стоял и улыбался: что было ему еще делать? Потом подошел и он, по-мужски, сильно пожал руку тестю, спросил о здоровье…
А немного спустя все трое сидели на кушетке, и Таня рассказывала отцу о дороге, о жизни в станице, о том, что ей там скучно… Михаил Васильевич пытался подшутить над своей растерянностью, но это ему не удавалось. Он неотрывно смотрел на дочь такими глазами, как если бы она вернулась с того света.
Николай, чтобы не мешать им, подошел к большим шкафам с книгами и стал читать надписи на корешках книг, на их одинаковых черных переплетах.
С первого взгляда Таня заметила, как сильно изменился отец: мягкие волосы сделались совсем белыми и сильно поредели, лицо осунулось, только глаза смотрели по-прежнему молодо. В кабинете, с детства так хорошо знакомом Тане, тоже что-то изменилось. Что? Она сначала не смогла бы ответить на этот вопрос. Только потом сумела дать себе отчет в этом. Наволочки двух подушек-думок, лежавших на краю кушетки, загрязнились, на портрете Пушкина — следы пыли. На высоком потолке — серая паутина.
«Паутина»,— подумала Таня. И ей стало грустно. На отца надвигалась неизбежная безжалостная старость. Отец одинок, а она понимает его, чувствует к нему любовь, но ничем не может помочь. Старость, вернее первые признаки ее, были видны и в этом, еле заметном даже для Тани, но тем не менее очевидном запустении. Ведь прежде в кабинете отца Таня никогда не видела паутины.
И раньше не Таня наводила порядок в кабинете отца и во всей квартире, кроме своей комнаты. Но сейчас отец, видимо, охладел ко всему прежнему распорядку, да охладела к нему, по-видимому, и тетя Луша.
К Тане подошла старая черная кошка и стала тереться о ее ноги своей белоголовой усатой круглой мордой.
— Милка! Милка! — сказала Таня.
Кошка радостно прыгнула к ней на колени.
— Узнала,— с улыбкой сказал Михаил Васильевич.— Тоже скучала без тебя. Ну, а как твои дела? — спросил Михаил Васильевич Николая.
— Да помаленьку устраиваемся…
После обеда Николай ушел в редакцию краевой газеты.
— Я не скоро вернусь,— предупредил он Таню.
— Как же это ты меня-то одну оставляешь — полушутя спросила она.
— Не одну, а с отцом. Если хочешь, пойдем вместе.
Нет, она не хочет. Единственное ее желание — подольше побыть с отцом.
Таня зашла в свою бывшую комнату, где прожила без малого двенадцать лет, и что-то дрогнуло в ней при виде этой опустевшей и потому кажущейся теперь большой комнаты.
Кое-где штукатурка на потолке треснула, поцарапаны стены Из прежних вещей остались только аквариум, этажерка да кровать. Но в аквариуме больше уже не плавали золотые рыбки, даже воды не было. На этажерке не было книг. И окна стали как будто не те.
«Вот здесь я жила»,— подумала Таня. Подошла к окну, с трудом открыла его. Со двора пахнуло свежестью, запахом виноградных вин, гашеной известью и еще чем-то таким, что всегда устойчиво держалось в этом дворе. Таня стала глядеть на работавших возле винного склада грузчиков, на покрикивающего сутулого, пожилого, со смуглым цыганским лицом мужчину, которого она видела во дворе уже много лет, на маленького, с кирпично-красным цветом лица грузчика-армянина, у которого будто совсем не было шеи.
Таня с удовольствием заметила, что во дворе не произошло никаких изменений. Но в этой комнате будто что-то умерло с уходом Тани. Она уселась на низенькую скамейку, на которой любила сидеть в детстве, и готова была заплакать. Таня долго просидела без движения. Но вот за дверью послышались шаги, смущенное покашливание. Она вскочила и кинулась навстречу отцу.
Он вошел, глянул на нее, увидал ее глаза и усмехнулся.
— Проведать зашла? Неуютно теперь тут… Ну, как твоя жизнь? Мы еще о многом с тобой не говорили.— Михаил Васильевич прошел к открытому окну и сел на подоконник. Наступило молчание.
Слышно было, как во дворе стучат о камни копыта флегматичных тяжеловозов, доносились крики ребят: «Гаси!»
— Знаешь, папа,— Таня заговорила медленно, тщательно подбирая слова,— я ни в чем не могу обвинить Николая, но все-таки я по-другому представляла замужнюю жизнь…
Отец слушал ее не прерывая и только, когда она закончила, спросил:
— А как его мать?
— Неглупая женщина. Она искренне хочет жить со мной в мире. Но, папа…— Таня пожала плечами, и жест ее означал крайнюю неопределенность.— Но ее культурный уровень, привычки, некоторые понятия о жизни — все это, как бы сказать… смущает меня.
— Ты не жалеешь, Таня? — тихо спросил отец.
Она посмотрела ему в глаза и созналась, понижая голос:
— Все бывает…
— Он пишет? — спросил уже другим тоном Михаил Васильевич.
— Выкраивает всякую свободную минуту.
Михаил Васильевич встал с подоконника, медленно прошелся по комнате, остановился возле сидящей Тани и, глядя сверху вниз, сказал:
— А я, признаться, боюсь, что ты застрянешь так вот где-нибудь в глухой станице. Пойдут дети… Тяжело мне будет, а еще тяжелей тебе.
Дочь промолчала. Потом спросила, как подвигается работа над книгой, и Михаил Васильевич воодушевился.
— Теперь хорошо подвигается. Вот сегодня вечером почитаю вам отдельные главы. Недавно одна зловредная книжонка вышла… О Пушкине. Совершенно зловредная. Почитал я ее и распалился. Понимаешь, автор изображает нашего Пушкина…— и Михаил Васильевич с возмущением стал пересказывать содержание возмутившей его книги.
Таня слушала отца, смотрела на него, не спуская глаз. Сейчас он как будто снова помолодел. Глаза молодо и задорно блестели, голос звенел.
«Пожалуй, напрасно я с ним так говорила о своем замужестве. Ведь и Николай любит свою работу. Он такой же увлекающийся, как и папа».
— Теперь я изо всех сил спешу окончить свое исследование,— заключил Михаил Васильевич.— Думаю, что за семь-восемь месяцев мне это удастся.
Таня усмехнулась.
— Опять «семь-восемь месяцев»?
— Видишь ли, чем больше работаешь, тем больше возникает вопросов, которые необходимо осветить.
— Ой, папа, знаю я твои привычки! Ты и за год не кончишь. Будешь переделывать раз пять.
Михаил Васильевич пожал плечами: что, дескать, поделаешь, по-другому работать не умею.
Из редакции Николай зашел к Ведерникову. Тот был в мастерской и работал.
Николай поздоровался, сел на белый плетеный стул.
— Трудись, я посижу.
Мастерская была ему хорошо знакома. Он знал почти все рисунки, наброски и картины. За годы пребывания в Ростове Николай прочитал много книг об искусстве, встречался с художниками, бывал на выставках. Особенно большой след оставила поездка в Москву и Ленинград. Словом, он стал разбираться в живописи и, как это бывает свойственно молодежи, горячо и резко высказывал «свои взгляды на искусство». Сейчас он молча наблюдал, как Ведерников, стоя перед мольбертом, делал эскизный набросок девушки. Должно быть, готовился писать портрет. Живое, курносое, задорное лицо напоминало ему знакомых комсомолок.
Картины и рисунки Ведерникова нравились Николаю этой особенностью: всегда они вызывали в памяти что-то виденное в жизни.
Наконец художник бросил кисть и подошел к Николаю. За последние годы Ведерников изменился. В волосах кое-где появилась седина. Лицо еще больше побледнело.
— Пойдем к нам, я тебя с тестем познакомлю,— пригласил Николай.— Тестю нравятся твои работы, и он давно интересуется тобой. Человек он славный, пойдем. Кстати, и с Таней увидишься.
Ведерников долго не соглашался.
— Некогда,— говорил он.
Но Николай все-таки уговорил его.
— Нельзя быть таким затворником. Надо и свежим воздухом дышать, хотя бы изредка.
Михаила Васильевича и Таню они застали дома. Гость и хозяева расположились в просторном кабинете Михаила Васильевича, кто в креслах, кто на кушетке.
Сконфуженно улыбаясь, чувствуя свою неловкость и уже раскаиваясь, что зашел сюда, Ведерников неохотно и неумело поддерживал неинтересный для него разговор с Таней и ее отцом. Потом заговорили об искусстве, и художник оживился.
Отец и дочь расспрашивали гостя, над чем он работает, что готовит к краевой выставке. Михаил Васильевич высказал несколько любопытных соображений о полотнах, виденных им на предыдущей выставке. Мысли его были понятны Ведерникову и даже кое в чем созвучны его собственным. Он понял, что доцент пристально следит за работой художников, внимательно относится к ней. Этим Михаил Васильевич ему очень понравился. Художнику было тем более приятно услышать ценные мысли от человека, не занимающегося непосредственно искусством. Ему казалось, что, кроме профессионалов, очень немногие люди серьезно интересуются живописью. Может быть, поэтому он и в гости не любил ходить. Ведерников мог говорить либо серьезно о том, что его интересовало, либо молчать, а в гостях нужно говорить обо всем на свете. К тому же он знал, что очень некрасив, неуклюж. Это делало его еще более замкнутым. А главное, просидеть в гостях два-три часа, убить целый вечер — это же преступление! Ведь за это время можно прочитать что-нибудь нужное или поработать в мастерской.
Другое дело — небольшой круг единомышленников. Тут беседы всегда обогащали, после них он чувствовал себя уверенней, хотя, может быть, ничего особенного и не было сказано. Но иногда какое-нибудь слово, мельком произнесенное, заставляло задуматься, многое пересмотреть.
Николая он относил к своим ближайшим друзьям. Он был убежден в его талантливости. Ведерников придавал большое значение литературным опытам своего молодого друга, следил за его развитием, помогал овладевать пониманием реалистического искусства. Он и к Моисейченко пошел сегодня только потому, что долго не видел Николая, не говорил с ним.
Таня, беседуя с Ведерниковым, оживилась так, как не оживлялась за все время пребывания в станице. Она опять почувствовала себя в знакомой, милой ее сердцу городской атмосфере. Николай, радуясь, что и гость, и хозяева так разговорились, только изредка вставлял короткие замечания.
— Ну, а ты над чем работаешь? — спросил Ведерников Николая.— Что написал в станице?
— Ничего путного. — Николай нахмурился. — Жизнь неизмеримо богаче моих стихов и рассказов. Вот сейчас, когда мы с Таней живем в станице, я оглядываюсь назад, стараюсь понять себя, товарищей. Кто мы? Мы — люди двадцатых годов, поборники равенства. Может, порой чересчур прямолинейны, грубоваты, особенно в выражениях. Но главная наша суть в этом. И вот перепечатываю свои новые стихи. Передают ли они наше главное, нашу суть? Нет. К черту все! Теперь я решил так: либо напишу большую, настоящую вещь, либо, если она не получится, совсем брошу писать.
— А тема, если не секрет? — Ведерников был заинтересован.
— Тема хорошая: «Колхоз имени Кострова»…
Когда Николай заговорил о своем будущем большом произведении, Таня густо покраснела, а Михаил Васильевич чуть усмехнулся. Его усмешка означала: ученым не захотел быть, поэта и рассказчика не получилось, теперь говоришь о большом полотне. Чем бы дитя ни тешилось…
Николай знал, что Таня во многом не разделяет его взглядов. Ей хотелось бы поскорей вернуться в город, в обжитую квартиру, а из-за мужа приходится жить в станице, терпеть неудобства, и все это только потому, что Николай интересуется сельской жизнью для своего будущего произведения, из которого может ничего не получиться.
Ободряла Николая лишь искренняя заинтересованность Ведерникова. Для него он и решил рассказать о своем замысле.
— Я хотел бы написать о том, как хлеборобы-степняки, разбуженные революцией, стали подниматься на ноги, как они потянулись из мрака к свету, как им помогал город, какая идет жестокая борьба между новым и старым… Вспоминаю нашу прежнюю жизнь: с самого раннего утра до поздней ночи изнурительный труд, в праздники — мордобой, карты, разврат, сплетни. А вера в колдунов? В домовых? А убежденность, что казаки не чета мужикам? И вот в такой среде мучился, тянулся к правде, к иной жизни Василий Маркович Костров — сильный, честный, но одинокий человек… А потом он стал коммунистом, его жизнь вспыхнула, как яркий костер, осветив людям путь.
— А почему ты поехал на Кубань? — спросил Ведерников.— Произведение-то у тебя будет о Кострове?
— О Костровых,— поправил Николай друга.— Мне нужен новый материал для сравнения. Уже сейчас на расстоянии мне отчетливей стали видны многие особенности родных мест, которых я прежде не замечал.— Николай на минуту задумался. Ему вспомнилась кубанская станица. Высокие неподвижные чинары за окном школы, за дощатым забором и палисадником — широкая дорога, за ней — трава. И эта увядающая позолота травы, и клочок голубого неба, и грузные дома, стоящие за гранью площади, и черный памятник с красной звездой — все покрыто какой-то особенной чистотой, свойственной августу. А памятник почти такой же, как и на хуторе Грушки… Николай начал рассказывать, как вскоре после приезда в Шатгорскую он решил зайти к соседу, познакомиться.
— Забор высокий. Стучу. Два волкодава залаяли, к калитке бросились…
Потом вышел хозяин. Спросил из-за калитки, кто и зачем пожаловал. Узнав, что учитель и его сосед, цыкнул на собак, открыл калитку и пропустил во двор. От ворот к высокому крыльцу — дорожка, выложенная кирпичом. Тут же, рядом с дорожкой, краснеют помидоры, высится метра на три над землей кукуруза, а дальше — сад.
Вошли в дом. Три комнаты. Полы деревянные, чистые. «Стара, — на ходу сказал он жене, — подай нам меду». Гость и хозяин прошли во вторую комнату, уселись за стол, застланный клеенкой. Николай попробовал отказаться от угощения, но сосед очень вежливо заметил, что гостя непременно надо потчевать и если он не откушает в его доме, то обидит хозяина. Хозяйка, полная женщина с тихими неторопливыми движениями, не подымая глаз, внесла две вазы, наполненные до самых краев медом, видимо, недавней качки, судя по аромату. Оказывается, там такой обычай: вина или меду гостю подают непременно полную до краев посудину, чтобы он не мог подумать, что хозяин скуп или беден. Сосед держался с Николаем вежливо, но гость чувствовал его сдержанность и какое-то лукавство. На Дону проще: приходи в любое время, сиди сколько угодно, разговаривай и уходи. Даже никто не спросит, зачем приходил. На ночь кубанцы закрывают окна ставнями, завинчивают на болты. А в Грушках в крайнем случае набросят цепок, а замком пользуются только когда выезжают из дома. Вора все знают. Какой-нибудь Хватыш на десятки хуторов известен. А ставнями закрываются на ночь только зимой, чтобы теплей было, да летом в самую жару, чтобы солнце не так пекло. Богаче и культурней живут в кубанских станицах, а вместе с тем сколько еще отсталого! Во всем несомненная близость Кавказа. Да что говорить, там до последнего времени еще воровали и покупали невест!
— А в колхозы на Кубани охотно шли? — спросил Ведерников.
— Охотно? — Николай усмехнулся.— Председатель колхоза да бригадир — наш хозяин — рассказывали… И гражданская война на Кубани проходила значительно острей, чем у нас. И в дни сплошной коллективизации, и сейчас у них обстановка сложней.— Николай приводил в доказательство новые и новые примеры о хуторной системе на Кубани, о несметном богатстве одних и нищете других.
— А тут еще одно обстоятельство: у них своеобразная хуторная система. Вот в Шатгорской, например, где мы сейчас живем, тысяч двадцать пять жителей. Станица раскинулась на многие километры, а земельные угодья ее расположены километров на тридцать вокруг. До нынешнего года каждый хозяин имел на своей земле свой хутор — саманную хатку. Фактически он в ней жил большую часть года. Вот это наличие у каждого хозяина двух домов — в станице и в поле — и делало его неуловимым, а разбросанность на больших просторах давала возможность творить там всякие безобразия. На хуторах прятались бандиты. «Сховают» человека так, что его не найдешь. Убийства, покушения там не редкость. Но это было в прошлом. Ныне новые серьезные трудности появились, каких я, например, совсем не ожидал: резко вдруг пошатнулась дисциплина в колхозе…
Таня слушала мужа и удивлялась: вместе они приехали в Шатгорскую, вместе жили там, когда же он все это успел узнать?! Лицо ее похорошело, глаза блестели. Она видела сейчас в муже опять того Николая, у которого за книжными, чужими словами пробивалось что-то действительно большое, свое. Может быть, так действовал его голос, интонации, уверенность. Как-то по-иному смотрел теперь на него и Михаил Васильевич. В эти минуты он лучше, чем когда-либо прежде, понимал, что Николай не бросит своих литературных занятий, и готов был примириться с этим.
«Думает парень и немало успел увидеть. Ну что ж,— говорил себе Михаил Васильевич,— силенка у него есть, энергии не занимать. Пусть дерзает».
А Ведерников взволнованно поднялся с кресла и, цепляясь ногами за мебель, поднимая правое плечо выше левого, забыв о присутствии Тани и Михаила Васильевича, быстро ходил по комнате от кресла к книжному шкафу, от шкафа к креслу.
— Это интересно! Я непременно приеду к вам в станицу, непременно! У тебя хороший замысел. Чудесный! Тут все — жизнь, все — самая настоящая правда.
В цепкой памяти художника запечатлелось мужественное широкоскулое лицо Николая Ястребова, уверенный взгляд голубых навыкате глаз и какое-то бычье упрямство во всей фигуре.
“Такие горами ворочают! — восторженно подумал он.— Костровы… Это хорошо! Поколение тех, кто делал революцию. Я напишу картину о следующем поколении и назову ее — «Ястребовы»…”
