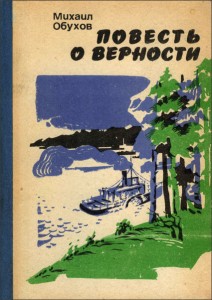
«Повесть о верности» — это произведение о гражданской войне на Дону, обороне Царицына, героической борьбе трудящихся с белогвардейщиной.
Оглавление
- Часть первая
- Часть вторая
- Часть третья (гл. 1-5)
- Часть третья (гл. 6-11)
В сентябре семнадцатого, с германского фронта, унтер-офицер Андрей Дубов не домой направился, а в Петроград. С первых же дней после Октября, командуя взводом, на подступах к Новочеркасску уже дрался с добровольцами Каледина. Вскоре был ранен, на поправку поехал в родной Царицын.
С пятнадцати лет, еще до призыва в царскую армию, он вместе с отцом работал на волжском горперевозе. И теперь, вскоре после ранения, едва на ноги встал, пошел помощником машиниста на пароход «Геркулес».
В конце января в пятистенный бревенчатый домик Дубовых наведалась из Заволжья ближайшая родня — дед и дядя Андрея. Как водится в таких случаях, на праздничном столе вскоре оказались и хлеб-соль, и вяленая широкоспинная рыба, а на плите запыхтела яичница.
Выпили, крякнув, закусили. Еще раз выпили. Дед, крепкий старик, не сводя с внука черных, уже начинающих выцветать глаз, спросил:
— Ну как, на «Геркулесе» лучше работать, чем копаться на моем огородишке да рыбачить со мной, а? — До пятнадцати лет Андрей чаще бывал с дедом и бабушкой в рыбачьем поселке на левом берегу Волги.
— Мне нравится, — Андрей пожал плечами. — Команда на «Геркулесе» подходящая: дружная, веселая, и работается хорошо — машинист не прижимистый.
— Что говорить! Команда у них дружная, развеселая, — с подковыркой подхватил отец Андрея. — С того дня, как закончилась навигация, домой возвращается все больше в полночь. Скажи на милость, всю Набережную истоптали с девками да молодыми солдатками. Иной раз ждешь, ждешь — вся душа выболит: укрой бог, какая драка, смертоубийство. По нынешним временам нож в бок из-за какой-нибудь крали запросто получишь.
— Кровь у них играет. — Старик вздохнул.
— А крали, поди, так и вьются вокруг него, — продолжал отец, — парень он видный, в дубовский корень вымахал, и стать вся наша — дубовская. — И пошел расписывать, какой у него ладный да пригожий сын. — Посмотрите на патрет — унтер-офицер!..
— Да какой там унтер! — Андрей, поморщившись, отмахнулся. — Летом звание присвоили, а осенью — сами знаете…
— Ладно прибедняться — усмехнулся в его сторону отец и снова гостям: — На выправку-то, на выправку-то посмотрите, — он щелкнул пальцем по портрету. — Орел!..
На фотографии не видно. Но у Андрея по обеим сторонам носа еле заметны по две-три ямочки, следы оспы. Во время болезни четырехлетний мальчишка, связанный по рукам и ногам, катаясь туда-сюда по постели, коснулся подушки нестерпимо зудящим лицом. Вот на всю жизнь и остались отметины.
Дед, глядя то на внука, то на фотографию, запустил руку в широкую густую бороду.
— А что!.. Землицей нас, мужиков, слава богу, наделили, власть объявила мир… Теперь самая пора женить парня.
— Что надо женить, то надо, — подхватил отец. — Набережная до добра не доведет, да и года подошли… Вот совсем скоро, на второй день рождества, двадцать пять стукнет.
Пригорюнившись, в разговор встряла мать:
— И-и, сынок, от этого хомута никуда не денешься. Хочешь не хочешь — надевай, так жизнь устроена.
Тут и подвыпившие гости подняли галдеж:
— Женить! Женить!.. А потом дед и дядя Андрея вполголоса запели:
— Сынок, указывай невесту. Зараз поедем свататься.
— А кого сватать? Я еще не думал об этом. Вот женился бы на одной солдатке: душевная, ласковая, приглядчивая…
— Солдатка? — удивился отец.
— И небось дети есть? — насторожилась мать.
— Да девочка, вот такая махонькая, — указал Андрей ниже колен, — а мужа германцы убили.
— Нет, сынок. Тут дело сурьезное. Женишься на ней — дети пойдут от разных отцов. Потом будешь всю жизнь маяться… — Это сказала мать. А отец, хмыкнув, добавил:
— Ха!.. Солдатка какая-тось… Девок мало?.. Парень ты бравый. Чтобы Дубов да на солдатке с дитем женился, — никогда этого не будет, по колено в землю вроюсь, но не будет такого!
Отец и дед гордились, что они, Дубовы, и собой видные, и удачливые да ловкие. Дед на старости лет стал еще шире в плечах, голова седая, такая же чуть подстриженная борода, большие усы, закрученные вверх, и быстрые черные глаза делали его и в эти годы броским, красивым. Отец похож на деда и лицом, и статью. Правда, и на его виски уже легла изморозь, что не тает и жарким царицынским летом. Ну, а об Андрее давно был общий глас: вылитый отцовский портрет, только ростом на полголовы перерос батю. В учебной команде Аткарского сто пятьдесят второго пехотного полка он всякий раз бывал правофланговым, и силенка подходящая — любил баловаться двухпудовой гирькой.
— Не из солдаток найдем невесту, — продолжал втолковывать отец, — нужно брать девку из деревни, они не так избалованы, тебе такая нужна пара, чтобы и на людях с ней было не стыдно показаться, и никакой работы не гнушалась.
— Ежели из деревни, то поедем в слободу Затон.
— Ай приглядел кого? — не скрыл радости отец.
— Да на посиделках встречался со Стешей Осетровой. Ничего девушка.
— Девка, говоришь? Вот это другое дело. Степанида так Степанида! А семья Осетровых дружная, работящая.
И дед, и дядя в один голос твердили:
— Женить! Женить!.. Запрягай, Семен, — едем свататься, пока Андрюха не передумал.
Андрею нравилась приглядчивая солдатка, но о женитьбе на ней всерьез не думал. А все-таки в боковом кармане пиджака лежал вышитый обмереженный носовой платочек, подаренный солдаткой в первые дни знакомства. Она в тот раз негромко, чтобы слышал только Андрей, пропела:
Чтобы вытереть пот, достал платочек. Знакомые четыре буквы по углам, вышитые зелеными, красными и синими шелковыми нитками, — КЛТД. Они означают: «Кого люблю, тому дарю»; и четыре буквы между ними, на самых серединах каемочек: ЛСДН, которые надо было понимать так: «Люблю сердечно, дарю навечно».
Андрей с матерью и дедом, с трудом ввалившимися в сани с козырьками, выехали на улицу, а вслед за ними с тесного дубовского дворика выбрались на розвальнях и отец с дядей, плотно сидевшие в обнимку, дружно покачивавшиеся на снежных раскатах то в одну, то в другую сторону и на всю улицу горланившие песню:
Дорога через Волгу накатанная. Спрессованный снег летит из-под кованых копыт коня, лишь успевай отворачивать лицо. Почти из-под ног буланого, что шел в передних санях, ошалело вылетали птицы, — до этого они копались в свежем, чуть примороженном конском помете.
Перемахнули Волгу. Буланый, напрягаясь, шагом стал подыматься на бугор. Едва выбрались на вершину, сани, ныряя в ухабах, покатились под раскат по извивам дороги. Более сотни домов и избушек слободы Затон заспешили навстречу.
Вот и улица слободы. Сугробы тут настолько высокие, что многих окон совсем не видно.
У встречной молодухи — она на коромыслах несла воду — спросили, как проехать к Осетровым. Женщина, не переходя дороги, внимательно посмотрев на всех, а в особенности на Андрея, показала варежкой.
Свернули в переулок.
Протоптанной на бугринах сугробов, прижатой к изгородям дворов дорожкой, сбочь санного пути, навстречу Дубовым шли в крытых черным сукном шубках с рыжими лисьими воротниками, в штиблетах на высоких каблуках две рослые девки. Локтем толкнув мать в бок, Андрей шепнул:
— Вон та, что повыше, Стеша.
— Девка подходящая, — шепотом ответила мать.
Стеша действительно была «подходящей»: на морозе раскраснелись щеки, на широких черных бровях блестел иней, глаза карие, большие, и сама по-крестьянски крепко сбитая. Видать, не заботилась о талии, на вольных хлебах росла, вольным воздухом дышала и работы не чуралась. У такой — с первого взгляда видно — из рук дело не вырвется.
Как только девушки поравнялись с передними санями, Андрей приостановил дымящегося испариной буланого, поздоровался. Мать спросила девушек:
— Осетровы далеко живут?
— Через три двора, — кивнула Стеша назад, при этом черные толстые косы с вплетенными в них алыми лентами качнулись.
— Случаем не знаешь, хозяин с хозяйкой дома?
— Дома…
Девушки тут же повернули вслед за санями.
К просторному дому Осетровых подъехали шумно, и едва у ворот замолк скрип полозьев, на басовый лай здоровенного пса вышел с непокрытой головой, кряжистый, небольшого роста, с широкой, без единого седого волоса бородой мужчина лет пятидесяти. Он прицыкнул на собаку, широко раскрыл ворота и с полупоклоном, как почетных гостей, пригласил приезжих в дом под железной крышей, такой же широкий и приземистый, как и сам хозяин. Вместе с клубами холодного воздуха провел в жарко натопленный зал.
В зале четыре больших окна. На подоконниках — цветы. В углу печь-голландка. На двуспальной железной кровати пуховая перина под лоскутным одеялом и в головах гора подушек, покрытых белой ажурной накидкой.
Приезжих пригласили сесть за просторный, под скатертью с махрами стол.
Вопреки обычаям сватовства, дядя Андрея, видимо, для куража, сразу же выставил полбутылку николаевской. Хотели хозяева или не хотели — подали закуску: тарелку с солеными огурчиками, помидорами, ломтями соленых арбузов.
Дядя ударом в донышко распечатал полбутылку.
— Ну, — сказал он, — начнем с хозяина, за ради знакомства!
— За знакомство можно…
Пили из одного небольшого стаканчика. Женщины только пригубливали и, морщась, ставили на стол. Дядя Андрея доливал стаканчик и передавал другим. За полбутылкой появилась вторая, затем третья. Андрей не пил.
— Зима держится, — проговорил дядя после третьей полбутылки, показывая черной кудлатой головой на окна.
— Да, зима подходящая, — кивнул бородатый Осетров.— Снега много, хороший урожай будет.
— Но ведь сколько ни держись, весна подкараулит ее.
— Подкараулит, — вновь согласился хозяин и — зырк на парня острыми, глубоко запрятанными глазами.
— Мы ведь люди не простые, — приосанившись, продолжал изрядно выпивший незваный гость. — Это с виду мы простые, а так — не-э-т, — он поднял до уровня своего глаза палец правой руки и повел им вперед, затем назад,— купцы.
— Да что вы говорите! — Хозяин сделал изумленное лицо.
— Да, купцы. Прослышали, у вас товар есть.
— Да, есть товарец. Только, может, он самим нужен. Может, нам продавать его нет расчету. Да и товарец у нас не простой, роду княжецкого.
— Что вы толкуете о товаре? — с досадой проговорил дед, обращаясь ко всем, и затем хозяину: — У нас парень, у вас девка. Вот, стало быть, породниться. Затем и приехали.
— Породниться? — удивился хозяин, как будто до этого он не понимал, о каких купцах и каком товаре шла речь. — Породниться! — повторил он, меняя интонацию и переводя взгляд человека себе на уме с одного лица на другое (на Андрее задержал его на целую минуту). — Антоновна, — обратился он к жене, сидевшей в конце стола, положив крупные рабочие руки на колени (была Осетрова выше мужа и еще довольно красивая, — Стеша очень походила на мать). — Вишь, породниться хотят с нами. Но это дело сурьезное, да и спешить нам некуда. Девка наша не перестарок.
— Стало быть, мы купцы не ко двору! — вставая, запетушился Семен Спиридонович, отец Андрея. Видать, в нем проснулась дубовская гордость. — Отказываете! — Лицо его стало бурачно-красным.
— А это как хотите понимайте.
— Ты вот что, Тарасыч, — вкрадчиво вставила Осетрова, — рано или поздно девку придется отдавать. А сваты?.. Не гневи бога, женихова деда мы с тобой хорошо знаем. Да и парень больше возрастал в Углянке у старика. Дурного о нем не скажешь: работящий, ненабалованный и собой — из десятка не выкинешь.
— Да как это отдать! — повысил голос хозяин. — Мне работница нужна. Горячая пора подойдет. Пока то да се — смотрины, своды, да свадьба — начнется работа на плантации. Не знаешь этого! — сердито сказал он жене. (В Заволжье плантацией называли свой огород вместе с прикупной землей.)
— Я все знаю… Работника наймем.
— Ха, работника! У нас и так один круглогодовой работник да еще другого чужого человека в дом вводить. Это каково! Его кормить, поить надо, деньги платить. А по нынешним временам с деньгами бог знает что творится. И керенки, и миколаевки. Куда она, жизня, повернет?.. А она — второго работника!
— Ты вот что, — стояла на своем Осетрова, — поперек дочерней дороги не ложись бревном. Своего счастья ей терять нельзя. А работника, что ж, наймем второго. Бог даст хороший урожай на плантации — хватит и со вторым расплатиться. Царицын под боком. Тут ни один помидор, ни один огурец не пропадет. За все живая копеечка.
Было заметно: Осетровой жених понравился.
Поговорили-поговорили и уломали хозяина. Дал согласие. Дело осталось за невестой.
Из малой горницы в зал пригласили Стешу. Она, в праздничном зеленом шерстяном платье, сшитом на городской манер, потупив глаза, не переступая порога, остановилась у открытых дверей. И такой красавицей показалась Андрею, что он мысленно только успел спросить: «Неужели будет моей женой?!»
Теперь и все другие смотрели на девушку и также любовались ею. Сам хозяин будто впервые разглядывал дочь. Помолчав, крякнул и с обреченным видом проговорил:
— Вот, дочка, сваты приехали. Это жених, — куцым толстым пальцем правой руки он указал на Андрея. — Смотри. Мы согласны просватать тебя. Ждем, что скажешь. Решай,— в его низком голосе что-то дрогнуло. — Тебе жить.
Стеша как-то по-особому посмотрела на жениха. Взгляд ее больших карих глаз был и испуганный, и светящийся радостью. И она сказала:
— Согласна.
— В совесть ли тебе наш Андрей? — не без гордости спросил Стешу Семен Спиридонович.
— В совесть, — негромко призналась она.
— Ну, коли в совесть, так и по рукам.
Андрей думал, что сватовство на этом и закончится. Но тут в несколько голосов вдруг заговорили о «кладке», то есть о приданом с жениха.
Будущий тесть, расстегнув верхнюю пуговицу синей в белую полоску косоворотки, поглаживая ладонью бороду, для начала заломил и материи разной, и шубу дубленую, и полусапожки с калошами, и пять тысяч рублей деньгами. Уж он считал-считал, что должно войти в кладку, — на обеих руках пальцев не хватило.
Сама Осетрова, не сводя с жениха ласкового, прощупывающего взгляда, когда муж еще что-нибудь добавлял к кладке, недовольно шевелила черной широкой бровью. Она понимала: сватам дается от ворот поворот. Стеша стояла, обреченно опустив голову. Когда наконец все было перечислено, родственники Андрея тихо посоветовались, и тут совершенно протрезвевшим голосом Семен Спиридонович твердо сказал:
— По всему видать, отказ. То, что требуете, нам не по силам. Значит, сынок, — с обидой в голосе сказал он, посмотрев на жениха, — наше дело в этом доме не выгорело.
Осетрову понравился жених, упускать парня он не собирался, но о кладке разговор повел, как и положено было исстари. За богатую да красивую невесту надо взять такую кладку, чтоб от соседей не было стыдно. А то, чего доброго, пойдет молва: «Поторопился, дескать, спихнуть с шеи, сбагрить с рук».
Жена укоризненно смотрела на него, дочь стояла бледная, с опущенной головой. «Что это они так?» — подумал он о жене и дочери.
— Вот что, — проговорил Осетров. — Мое последнее слово: тыща рублей — и все.
Теперь встал Андрей. Сватовство превратилось в торговлю: это его разозлило. Он заговорил как можно спокойнее:
— Тысячи у меня нет. Я вчерашний солдат. Не на заработках был — на войне. Ежели отец на меня что-нибудь затратит, я обязан вернуть ему. Может, с вашей дочкой в работники идти? Так я ни к кому не собираюсь наниматься. У меня свое дело в руках.
Будущий тесть стоял хмурый. Стеша еще больше растерялась. Сама Осетрова тоже с пылающим лицом встала, слушала внимательно.
После тягостного и даже унизительного молчания, когда Андрею захотелось просто чертыхнуться и уйти, она вдруг проговорила:
— Да о чем толкуем? Собираемся вон какое дело делать, а рядимся, будто корову покупаем…
И сам Осетров чуть ласковей взглянул на Андрея и проговорил:
— Сумеешь двести рублей дать — и по рукам. — Он встал.
Дед, отец и дядя Андрея тоже встали, повернулись к иконам, и все перекрестились, и теперь каждый поплотней уселся на своем стуле.
— А что для невесты — она себе заработала. — И Осетрова тоже принялась рассказывать свахе — матери Андрея — о Стенечке, как ласково, по-домашнему называли старшую дочь. Нареченную усадили рядом с женихом. Она, кажется, стала приходить в себя. Мужчины, особенно гости, пили, покрякивая, вилками ловили скользящие по тарелкам помидоры, легко нанизывали кружочки огурцов. Андрей съел только ломоть соленого арбуза. Его, казалось, жгло соседство Стеши. Будущий тесть Андрею не понравился, а теща, видать, ничего, душевная, решил он про себя.
— Из дочек одна осталась в живых, — продолжала Осетрова. — Есть еще трое сынков, их Стеня вынянчила. И на плантации горб гнула не один год. Поработала. Пускай обзаводится своей семьей.
Мать Андрея, обычно скупая на похвалу, на этот раз удивила сына:
— И у моего все в руках горит: он хоть на хуторе, хоть в городе. Теперь помощником машиниста работает на пароходе. Весь Царицын его узнаёт.
Рядом с дородной Осетровой Дубова выглядела еще меньше и суше, чем была на самом деле.
— Все я, сынок, срисовала, — говорила Андрею мать на обратном пути. — Сват весь на виду. А Степанида? Слов нет — хороша. Вдвоем вы такая пара — залюбуешься! Но какой у нее характер?.. Ох, сынок, если б знать, где упасть, там и соломки подостлал бы. А насчет расходов — выкрутимся. Свадьба сорочку найдет.
Ехали быстро, но снежные вихри все же обгоняли легко скользящие по припорошенной дороге сани.
Теперь каждый день после работы Андрей встречался со Стешей. В доме невесты вечерами собирались ее подруги. Они готовили все необходимое к свадьбе: шили, пряли, вязали… Сюда же приходили и парни. Крышу дома за малым не подымали веселые песни, пляски под балалайку, да такие, что полы в большой горнице ходуном ходили. Нередко водили хороводы, пели и свадебные, приуроченные к предстоящему случаю песни.
поет хоровод, а кто-либо из парней, стоя в кругу, будто взаправду предлагая избранной девушке и шубу, и юбку, в полушалок, и еще что-нибудь, при этом пел:
Девушка нарочито жеманно отворачивается от него. Но когда в песне доходило дело до плетки, — обещает во Китай-городе купити, да самую лучшую плетку, — она целовала парня.
Во всех играх с поцелуями Андрей целовался только со Стешей.
Со Стешей Андрей говорил не много. Даже когда оставались вдвоем, он не находил слов: возьмет ее ладонь в свою, с въевшимся мазутом, руку и молчит, теряется. Может, потому, что уж очень нравится она.
Теща хорошо относилась к будущему зятю, даже тесть обмяк, стал называть Андрея сынком. В иные вечера Никифор Тарасович пускался с нареченным зятем в разговоры о войне, о политике. Оказывается, Осетров на действительной службе тоже был унтер-офицером. В семнадцатом опасался: загребут на войну с германцем. Все месяцы после свержения царя считал «смутным временем», ссылаясь при этом на историю России, — Осетров в зимние вечера читывал кое-что.
— В политике, я так понимаю, — рассудительно говорил Никифор Тарасович, — кто посмекалистей да половчей, тот не будет в проигрыше…
Незадолго до назначенного дня свадьбы заболел машинист. Андрей через знакомого передал Стеше, что дела задерживают его в Царицыне и поэтому несколько вечеров не сможет быть в Затоне.
А когда снова пришел в знакомый, уже ставший ему близким приземистый дом Осетровых, в Стеше что-то изменилось. При встрече с женихом она сначала отдернула руку от его руки и, только помедлив, подала ее. Рука Стеши была холодной. И танцевала невеста неохотно, и целоваться с женихом избегала, да и ни с кем не целовалась.
«Что с ней? — встревоженно подумал Андрей. — Может, приболела?»
Он ждал конца вечера. Ему казалось, что парни и девки назло задерживаются, чтобы посмеяться над ним, посторонним затонцам человеком.
Но вот стали расходиться. Стеша на этот раз провожала Андрея не одна, как бывало прежде, а с подругой. И вскоре, сославшись на нездоровье, ушла, оставив жениха с подругой.
— Что со Стешей? — спросил Андрей.
— А вот что… Ты больше не ходи к ней. Невеста от тебя отказывается.
— Как отказывается? — не понял Андрей, останавливаясь и хватая девушку за рукав плюшевой кофты.
— Ее сватает нашенский, затонский. — Девушка назвала имя и фамилию парня, знакомого Андрею по вечеринкам. Андрей настолько растерялся, что ничего не нашелся сказать.
После разговора с подругой Стеши ночью он так и не заснул.
Со дня сватовства прошло около месяца. За это время Андрей не только успел привыкнуть, но и полюбил Стешу. У него теперь не укладывалось в мыслях: как же будет жить без нее?
В темной комнате, ворочаясь на кровати, он мысленно перебирал все минувшие вечера со Стешей и сегодняшний, совсем на них не похожий.
Да, случилось что-то непоправимое.
Он не думал о том, что потрачено немало денег на сватовство, рукобитие и своды, что все приготовлено к свадьбе (столько воловодились, а ведь у его родителей амбары не ломились от хлеба, кошельки не пухли от керенок да николаевских), думал только о том, что же все-таки случилось?! Что?
На другой день, уже в сумерки, чтобы не видели соседи Осетровых, пересилив себя, он пошел в Затон. Решил поговорить напрямую и с самой Стешей, и с ее родителями.
Он застал всю семью в сборе. Поздоровался, потом попросил разрешения поговорить со Стешей с глазу на глаз.
— Молодые… — усмехнулся в бороду Никифор Тарасович. Он пристально взглянул на жениха и, заметив, что лицо парня за эти сутки будто слиняло, спросил: — Не поделили что-нибудь? — Не дождавшись ответа, добавил: — Ну ладно. Поговорите вон в малой горнице.
Стеша, бледная и пасмурная, первая прошла туда. Вошел и Андрей. Стали у окна, подальше от двери, чтобы их разговора не было слышно в большой горнице. Андрей не знал, с чего начинать, да и Стеша молчала, только лицо ее еще больше побледнело. Но вот он полушепотом спросил:
— Все, что передала вчера твоя подруга, правда?
— Правда, — одними губами ответила она.
— А меня — в кидок?
Стеша глядела на него, не моргая. Лишь плечами подернула.
Еще некоторое время они стояли молча. Андрей с трудом сдерживал ярость: зачем столько времени водила за нос? Да что он — обсевок в поле?
Круто, по-солдатски повернулся и, печатая шаг, пошел через зал… Наверное, вид его в эту минуту говорил о многом, потому что отец Стеши посмотрел на Андрея встревоженно, а мать испуганно.
— Что у вас там? — глухо выдавил Никифор Тарасович.
Андрей не хотел отвечать, однако все-таки остановился и сказал:
— Ваша дочка отказала мне… Другого жениха нашла! — Криво усмехнувшись, он назвал имя и фамилию соперника.
У Никифора Тарасовича побагровели щеки, глаза налились гневом. Он с минуту помолчал, потом, не сдерживая голоса, проговорил в сторону малой горницы:
— Шуточки шутит!.. — и тише — уже Андрею: — Ты вот что, сынок, приходи завтра. Мы все уладим.
Андрей медленно плелся к Царицыну. Он не помнил, как дошел до Волги. Словно в тумане видел спускающиеся ярусами, как нитки разноцветных монист, огоньки большого, прижавшегося к широченной реке города.
«Может, не надо больше появляться у Осетровых? Ну, допустим, Стешу заставят выйти за меня замуж. А если она любит другого? Как тогда? Уехать? Свет велик…»
Задумался, начал вглядываться в знакомый с детства город. На северной окраине Царицына — поселок роскошных особняков Малой Франции, жители которой до Октябрьской революции были хозяевами Французского завода. Почти слился с Малой Францией рабочий поселок того же завода, весь из кособоких бараков, — Большая Франция. Поближе к центру Балканы, здесь живут поляки.
В центре города — разный люд, но больше, судя по одежде, русские и украинцы. Тут на одном из самых видных мест — величавый собор… Задирая голову, Андрей не раз смотрел на его сверкающие кресты. В солнечные дни они так ярко блестят, что долго нельзя смотреть на них — глазам больно. К заутрене и ко всенощной по всему городу и над Волгой плывет бархатисто басовитое: дон-н!.. дон-н!.. Дон-н-н!.. А в дни годовых праздников на соборе начинается веселый перезвон больших и малых колоколов.
За пересыхающей каждым летом речушкой Царицей — это уже на юге города — кварталы «Капказа». Летом тут щеголяют в вышитых тюбетейках татары. По вечерам с высокого минарета на всю округу муэдзин заунывно выводит слова молитв, призывая правоверных в мечеть.
А рядом с татарскими еврейские кварталы и так же, как и храмы христиан и мечеть мусульман, на возвышенности синагога. Сюда все больше спешат старики в ермолках.
В своем городе Андрей, кажется, знает каждый дом, каждую хибару, но до сих пор не задумывался, как живут в них. Может, и в других семьях свое горе, свои незримые узлы, которые жизнь всякий час-минуту завязывает и которые ой как трудно развязать!..
Глядя на далекие городские огни, он вздохнул и в мыслях опять вернулся к Стеше. Нет, из Царицына не уедет.. Но что же делать?..
Что произошло в доме Осетровых, Андрей не знал. Открыл калитку. Буян, огромный злой кобель, как старому знакомому, помахал хвостом и проводил парня до крыльца. Андрей вошел в кухню. Отец, мать и Стеша сидели за столом. Будущий тесть вязал сеть, теща пряла кудель, а Стеша склонилась над кружевами. Никифор Тарасович, кивая, приветливо проговорил:
— Проходи, сынок. Садись рядком, потолкуем ладком… Про вчерашнее забудь. По дурости это она, — кивнул в сторону Стеши, — ничего сурьезного. Через недельку свадьбу сыграем, и заживете за милую душу.
По одному движению бровей мужа Матрена Антоновна поднялась из-за стола, засуетилась, принялась угощать Андрея гусятиной и молочной кашей. Как дорогому гостю, на колени расстелила праздничный вышитый рушник.
Стеша, здороваясь, подала ему руку с таким видом, как будто никакой размолвки у них и не было.
И все же в глубине души, где-то на самом донышке, было у него сомнение. Чтобы окончательно избавиться от него, Андрей еще раз решил поговорить со Стешей наедине.
Накинув хорошо знакомую шубку с рыжим лисьим воротником, щегольски повязав серый пуховый платок, она вышла вслед за парнем. Остановились не во дворе, а за воротами, чтобы домашние не подслушали разговора.
— Стеша, скажи, как понимать твои вчерашние слова?
Девушка помолчала, опустив глаза, потом подняла их, посмотрела на Андрея, глубоко вздохнула:
— Этого больше не будет. С этим все кончено…
В малой горнице светловолосая, с черными бровями, ближайшая подруга невесты расплетала толстую черную косу Стеши, сидевшей на венском стуле в кругу девушек, которые пели задумчивыми, печальными голосами:
Стеша, опустив голову, сначала роняла редкие крупные слезы, а потом заплакала навзрыд. Заутирали глаза вышитыми платочками и ее подружки…
Когда Стешу готовили к венцу, она была безучастна ко всему, что с ней делали.
Все уселись в большой горнице за стол, вооружившись кто скалкой, кто рубелем, а кто и рогачом, чтобы «подороже продать» невесту. И тут одна из них запела, а остальные подхватили:
После недолгой «торговли» жених повел невесту из дома, тут уж запели иную песню:
Веник положила.
Из церкви свадебный поезд в четверо саней, украшенный разноцветными лентами с бубенцами и колокольчиками, с плясовыми песнями и гармошкой на полном скаку въехали в просторный двор Осетровых.
Осторожно, взяв за обе руки невесту, Андрей, как это исстари заведено, свел ее с саней на расчищенную от снега дорожку.
Была она в белом кисейном платье, с восковыми цветами и с длинной, до пола фатой на голове. Шубку и гарусный цветастый платок оставила в санях.
В сопровождении дружки и свашки жених торжественно подвел Стешу к крыльцу, возле которого с довольными лицами стояли родители Андрея. Отец, возвышаясь над другими мужчинами, держал икону, завернутую в вышитый рушник. В руках матери на большом подносе хлеб-соль.
По христианскому обычаю молодых благословили: сначала отец, а потом мать. Затем ввели в дом.
Все время — и в церкви, и по дороге сюда, и теперь в своем доме — Стеша была печальна, хотя пыталась скрыть это.
А перед тем как везти молодых к венцу, Стеша обхватила шею матери, припала к ее груди и громко заплакала, приговаривая:
— Мамаша! Маманюшка! Мамунюшка!..
— Что ты? Что ты, дочка?.. Опомнись, господь с тобой! — испуганно, со слезами проговорила Матрена Антоновна, отрывая от себя дочь.
«Что тревожит ее? — на все лады прикидывал Андрей.— Жаль с отцом-матерью расставаться, со своей девичьей жизнью?..»
В большом зале за двумя вплотную сдвинутыми столами сидели затонцы и царицынские рабочие с бабами и девками, разодетыми в праздничное, яркое; вчерашние солдаты, некоторые с Георгиевскими крестами и медалями. Мужчины принялись толковать о германской войне, о революции и о том, что сейчас, в мясоед, самая пора для свадеб.
— Жизня свое требует!
— Свет на том стоит…
А слободские и царицынские политики толковали о том, что больше всего их занимало:
— Говорят, в Черкасске объявился какой-тось кадет. Ты, сват, не слыхал? — спросил Осетрова старик Дубов.
— Да что-то зацепил краешком уха.
— Говорят, этот самый кадет жисть старается повернуть на старую стежку-дорожку.
— Не выйдет… Не выпустим землицу из своих рук.
— А тут?
— А тут что? Тут никакой войны, да и власть объявила мир.
— А ежели этот самый кадет, чем шут не шутит, к нам сунется?
— Бог не выдаст — свинья не съест. Не беспокойся, сваток, народу у нас вона сколько. Всей силой навалимся — любые лихоимцы сгинут…
Гости собрались большей частью с левобережья — рыбаки и потомки осевших на землю бурлаков. Этой весной они впервые собирались сеять хлеб на собственных участках, разговоры велись все больше о земле и о том, что отдавать ее никому не собираются. И с войной, считают, все кончено.
А у баб и девок свои разговоры: кто во что одет да кто на кого как посмотрел. Больше всего доставалось жениху и невесте.
Свадьба без суда не бывает.
Стеша сидела грустная, необычно бледная. При многоголосых словах «горько!..», «го-о-рько!..» она медленно вставала, вяло подставляла губы Андрею.
Может, под стать ее настроению несколько женских голосов протяжно, как бы на одной ноте, затянули:
Люди веселились, пили, гуляли… Одна из тех, что побойчей, вскочила на скамейку и, размахивая платочком, высоким голосом пропела вчастух:
А вот женихова и невестина родня, подначивая друг друга, повела песенную перепалку:
Одни из шуток-прибауток рождались тут же, не сходя с места, другие попали сюда бог ведает какими путями, может — из далекой древности, возможно — из неведомых, неслыханных мест Волгой принесло.
В соседней комнате гости охрипшими голосами орали песни, плясали даже и те, кто не умел. Иногда резче всех слышалось, как с десяток парней одновременно выбивают городскую чечетку.
За окнами — в каждом стекле — россыпь любопытных изумленных детских глаз.
Дружка, крестный отец Андрея, все время был рядом с Андреем с левой стороны, опекал жениха от лишней рюмки и от лишнего разговора, подсказывал, что нужно делать при исполнении тех или иных обрядов.
Свашка, пожилая женщина, выполняла ту же роль, что и дружка, только сидела она рядом с невестой с правой стороны. Как Андрею подумалось, ее тоже смущало печальное настроение невесты.
Дружка и свашка не пили, хотя кругом было море разливанное: они чувствовали ответственность за всю свадьбу.
Угомонились только глубокой ночью.
Хуторяне разошлись по своим дворам, чтобы завтра с утра — опять сюда же. А царицынские и гости с дальних хуторов разместились по всему просторному дому Осетровых. Кое-кто спал, положив голову на стол, а два мужика могуче храпели, раскинувшись на полу под столами.
Дружка и свашка взяли молодых под руки и повели в малую горницу, к заранее приготовленной постели. Пожелав счастья «князю» и «княгине», они вышли…
Вот и нагрянула весна, шумная, дружная, с веселящим теплом в затишке, с приятным холодком, с разливом Волги на добрый десяток верст — до Затона. С первых же мартовских дней солнце стало припекать почти по-летнему, и все, как по волшебству, изменилось: еще недавно на улицах города чернели с набухающими почками одинокие деревья, сквозь булыжную мостовую лишь начинала пробиваться блеклая травка, а вот день-два теплых — зазеленела легкая листва, повсюду напористо проступила трава.
Андрей целыми днями был занят на пароходе, готовил его к весенней навигации уже в роли машиниста, а не помощника, — машинист ушел по старости. «Геркулес» все больше и больше нравился Андрею.
Стеша молча провожала мужа на работу, а вечерами так же почти на одном и том же месте (в общей комнате с родителями) молча встречала. В первые дни, уходя на работу, Андрей целовал жену, но вскоре это показалось ему лишним: не налаживалось у них душевной близости.
Теперь на работу он шел с охотой, а домой не тянуло. Андрей не спешил увидеть равнодушное лицо жены, невеселых, ставших тоже молчаливыми отца и мать, — со дня прихода Стеши к Дубовым будто горе-беда поселилось в этом домике.
Когда Андрей гулял с женой по улицам Царицына, не раз слышал завистливые возгласы:
— Вот парочка… Счастливцы! Однако счастья-то у них и не было.
Андрей видел, а больше чувствовал: его ласки, доброе внимание Стеша встречает не так, как ему хотелось бы. Сыт Андрей или голоден, с хорошим настроением вернулся или с дурным — это ее не очень интересовало. Может, Андрей не знает жизни? Возможно, и у других она не так счастлива? Да нет: он видел, что его отец и мать, дед и бабушка не так живут. У них все в лад. А ежели горе, то горюют вместе…
Стеша в доме за дела не бралась, свекровь она вроде бы и не замечала.
«Бог с ней. Теперь — от кого ни послышишь — снохи все такие…» Но ни ласкового слова, ни ласкового взгляда на ее сына… Тут уж не ревность была, а обида за Андрюшу. Зачем она его молодую жизнь старит? Зачем шла? Ведь когда приезжали свататься, спрашивали: «В совесть?», отвечала: «В совесть».
— Она мне не помощница, — однажды сказала мать. — Пол ни разу не помыла. Разве это семьянинка?
Отцовский пятистенок стоял на склоне гористого берега. От вокзала в его сторону вела знакомая всем царицынцам Анастасиевская улица. А пересекали ее несколько менее известных. Изгибаясь вдоль Волги, они шли к Тещиному яру, к заводам — Пушечному и Французскому. Где-то на полпути обрывались, там начинались другие улицы, с иными названиями, на них лепились хибарки с крошечными двориками.
За воротами дубовского пятистенка коротенькая, человека на три, скамейка. Сядет на нее Стеша и тоскливо глядит та разлившуюся Волгу, на ту ее сторону, где забрела в воду слобода Затон.
Молодому машинисту отвели двухместную каюту, тут с ним могла быть и жена. Но Стеша в плавание не захотела отправляться.
Он сделал первый рейс, другой, третий… Как-то на пристань пришла мать и, видя, что сыну это неприятно слушать, все же сказала:
— Андрюша, ты забери Степаниду. В доме она не при деле. Я пока еще сама управляться в силах, да и жить вы должны семейно. Вижу, трудно будет у вас, но надо привыкать дружка к дружке. Так нельзя, как вы.
— Сама говоришь: характер у нее, — вздохнул Андрей.
— Разные попадаются характеры. Но жена не башмак, с ноги не сбросишь… Знаешь, сынок, — после некоторого раздумья заговорила она, — когда женят, то это вроде пару молодых необученных быков в одно ярмо запрягают. Бывает, с первых же дней они пойдут дружно. А чаще либо один, либо другой начинают заламывать, брать верх, или какой-нибудь из них окажется ленивым. Потом, глядишь, походят вместе — ничего, спаруются. И без ярма друг без дружки не ходят: куда один, туда и другой. А есть — годами ходят рядом, а так и косятся друг на дружку. Тот, что посильней, нет-нет да и брухнет…
Андрей чувствовал и понимал, с каким трудом мать подбирает слова, чтобы высказать наболевшее и в то же время ее обидеть его.
На прощание сказал:
— Со Стешей попробую уладить.
С неделю жена прожила с Андреем в каюте. Но и тут не приготовила чего-нибудь вкусного. Если варила, то картошку в мундире. Ели ее с вяленой таранкой.
В конце недели, когда «Геркулес» причалил верстах в двух от Затона, Стеша решительно сказала:
— Я пойду в слободу, — и после недолгого молчания, скупо улыбнувшись, добавила: — Дюже соскучилась по дому.
— Ну что ж, сходи, тут совсем близко. Но послезавтра в эту пору мы возвращаемся из рейса. К тому времени чтоб ты была на пристани. Отцу, матери, братишкам передай от меня по низкому поклону… Да, вот что, эти таранки возьми с собой. Пусть посолонцуют. — Он снял с гвоздя связку вяленой рыбы.
На прощание Стеша неохотно ответила на его поцелуй, не протянула ему руки.
Андрей долго смотрел на удаляющуюся жену. Все ожидал: вот-вот обернется, но она так и не обернулась.
Из отцовского дома вернулась недели через две. Андрей было вспылил, начал ругаться, но Стеша молча, выразительно посмотрела ему в глаза, и он понял: нет, словами ее не пробьешь. Да и соскучился все-таки по ней. Сколько за дни ее отсутствия было придумано обжигающих слов, чтобы высказать жене, — все забыл, все показалось мелким.
Посоветовавшись с отцом-матерью и поговорив с женой, Андрей ушел от родителей, снял комнату поближе к пристани. Он перенес вещи, поселился вдвоем со Стешей. Жена на новом месте повеселела, взялась вроде бы с охотой за домашние дела. Андрей радовался этому…
— Двоечкой, может, и наладится у вас жизнь, — высказала предположение мать. Но Андрей видел, что мать мало верит в свои слова.
«Вот вам и работящая, деревенская… На солдатке надо было жениться. Дурак! Счастье свое упустил».
Как-то Стеша на вопрос Андрея, почему она так держит себя, с вызовом ответила:
— Я лишилась родного гнезда. Понимаешь ты это?
— Да, этого я не понимаю. Гнездо надо вить здесь.
Не услышав от нее ни да, ни нет, после минутного молчания сказал:
— Чтобы не мучить друг друга, давай разведемся.
— Гонишь меня?
— Не гоню. Сама отбиваешься.
У Стеши слезы.
«Шут ее знает, — подумал он, глядя на красивое опечаленное лицо жены, — может, в самом деле трудно привыкать ей к новой семье».
— А работать собираешься или вот так будешь сидеть сложа руки?
— Собираюсь… Но не судомойкой и не подметалой.
— Нынче барынь нету.
— Да я и не думала в прислуги. Вот к отцу на плантацию скоро подойдет время.
— А меня в кидок?
— Зачем — в кидок? И ты на плантацию.
— Здорово придумали! — Андрей усмехнулся. У Стеши уже не было слез. Последние слова Андрея и усмешку она оставила без внимания.
На пароходе работа шла споро. Андрей провел полный технический уход, как этому учил его старый машинист Софрон Григорьевич.
Андрей боялся: вдруг какая-нибудь часть по его халатности или неумению выйдет из строя. Как и у Софрона Григорьевича, у молодого Дубова в запаснике были всякие железки, гайки, винтики. С четырнадцатого года такое время настало — можешь из-за какого-нибудь завалящего болта месяц простоять…
На пароходе он забывался, отдыхал душой.
К навигации у него все части были отрегулированы, смазаны. Машина хорошо работала. Главное — она послушна Андрею, тут он во всем освоился… Да, свой первый рейс он совершал не на каком-нибудь захудалом пароходишке.
Начались работы на плантациях и огородах. Тесть другого работника все же не нанял, а по-свойски попросил Стешу помочь. Это у него получилось довольно ловко. В воскресенье приехал со своей дородной супругой на новую «фатеру» молодых, не с пустыми руками приехал — с гостинцем: привез фунта два прошлогодней ветчины, два пучка зеленого лука и холстинную сумку сушеных яблок и груш. За чаем разговорились. Тут тесть осторожненько высказался:
— Зачем нанимать второго работника?! Вам нужны будут и капустка, и огурчики, и картошечка. Все это покупать. А у нас все свое, непокупное. Мы, родители, не обидим вас, детей своих. Годины тяжелые, надо выручать друг друга…
— Что ж, пусть поработает, — сказал Андрей. И строже добавил: — Но от дома не надо отбиваться. Отпускаю на пять дней. Вам она — дочь, а мне — жена.
По всему чувствовал, Стеша все равно уедет в Затон. Даже при одной мысли, что будет в отчем доме, поработает на плантации, она повеселела, похорошела. Андрей понял: ее все время тянуло туда. Он не сомневался, что еще в те две недели в Затоне Стеша обо всем договорилась с отцом, а тут комедию перед ним ломали. Проскальзывала в его мыслях и ревнивая догадка. Однако он старался себя успокоить.
Узнав об отъезде Стеши, родители ругали его:
— Ты что ж это опять остался один — ни женатый, ни холостой? Для чего женился?! Нет, со Степанидой у тебя дела плохи. Ведь вот оно: кому на роду какое счастье написано. Ты и умом не обижен, и верное дело имеешь в руках, а с женой не повезло.
И хотя отец с матерью говорили правду, что-то в их словах обижало. «Сами в один голос трубили: «Женить! Женить!.. Послушался вас…» Андрей отдалился от родителей, перестал заходить к ним в дом. Единственное, что занимало его в эти дни, — работа на пароходе и жизнь порта.
Не совсем единственное…
Как и многие царицынские рабочие, читая «Борьбу», Андрей с нарастающей тревогой следил за оккупацией городов и сел Украины. Уже в конце апреля, когда навигация на Волге развернулась вовсю, германцы, а с ними и гайдамаки или петлюровцы — черт их разберет! — заняли почти весь Донецкий бассейн. До этого мало подавали знать о себе кадеты на Дону, все больше дрались где-то возле Новочеркасска да в Сальских степях, теперь — с германским оружием — они стали подбираться к Царицыну.
«А не рано ли в машинисты подался? Может, масленку надо заменить винтовкой? По всему видать, дело идет к этому».
Вспомнил он слова старого машиниста Софрона Григорьевича о том, что война еще не окончилась, что начнется такое — людей останется, как от пожара травы.
Много непонятного было и в самом Царицыне. Не всякий сразу разберется, кто тут какому богу молится. Помещики, переодетые офицеры, изленившиеся и отвыкшие от всякой работы фронтовики, просто бандиты, — кого только не было тут!..
Власть в Царицыне Советская. Ее призывы и воззвания на заборах, на щитах для афиш где висят, а где их разорванные лохмотья развевает ветер. А то — через всю страницу нацарапано карандашом или красками — «Долой!!!»
Рабочие-речники ловят на себе недружелюбные взгляды, а Андрей сначала лишь на своем пароходе, а позже всем знакомым стал разъяснять, как понимать написанное в газетах. Он выступал и на митингах, и на больших собраниях. Хоть и мало ему приходилось побывать на германском фронте, но — комитетчик, да и бывший красногвардеец.
— Вот пишут, — размахивал Андрей вчетверо сложенным листком царицынской «Борьбы», — германцы совсем осатанели, лезут и лезут, не считаясь с мирным договором. Вместе с ними идут добровольцы и казаки, теснят Красную Армию. Что они несут с собой? Власть буржуев и помещиков…
От Царицына до Саратова Андрей уже знал все — каждую крылатую мельницу, церквушку, деревеньку, нечасто встречающуюся рощицу. «Геркулес» идет, негромко плеская, перекликаясь гудками, по-своему здороваясь со встречными пароходами, обгоняя медлительные баржи, длинные караваны плотов.
Берега для Волги вроде рамки для живой и веселой реки.
После того как сдаст машину помощнику, перед уходом в свою каюту на отдых, Андрей по крутым ступенькам подымается на корму и глядит, глядит, как вырываются из-под парохода белые валы, как они, отставая, тают в реке, освещенной всякий раз по-новому либо лунным светом, либо солнечным. А зори, утренние или вечерние, ложатся, покачиваясь, нежась, на всей шири Волги переливающимися красками. Там, у берегов, — рыбачьи лодки; тут — простор плещущей волны. И нет ничего желанней вот этих минут отдыха, может, потому, что сам он с детства волгарь…
Андрей дал Стеше пять дней, но она уже десятый не показывает глаз. Как-то во время стоянки «Геркулеса» у причала в каюту забегает тесть с этаким сияющим лицом. Спрашивает:
— Обходишься без Степаниды-то? — И не успел Андрей рта раскрыть, тесть заспешил: — Там у нас делов — оторваться нельзя… Может, к нам приедешь?
— А вам что, третьего работника нужно?
— Напрасно ты так. Я ж к тебе по-родственному, ты мне сынок. Вот гостинчика привез. — Он развернул сумку и начал выкладывать из нее на стол. — Свежая редисочка. Правда, немножко ее. Но на рынке она еще кусается. И лучок зеленый. Ешь — для здоровья, говорят, пользительный.
— Я не жалуюсь на здоровье. И ваши гостинцы мне не нужны. А Стеша — чтоб завтра была дома!
— Это что ж, по-совецки так полагается обходиться с женой?
— По-советски?.. Не нравлюсь, казанок в казанок — и врезь, вот это по-советски.
Наверное, теперь в словах Андрея прорвалась вся та обида, что капля за каплей собиралась.
Тесть как-то странно прищурился, посмотрел на зятя маленькими, сейчас почти совсем закрывшимися глазками. Но голосу он постарался придать самое примирительное выражение.
— Ты что? Ты что? Господь с тобой!.. Да рази я в работники тебя приглашаю? Я — в гости. Ты ж для меня самый дорогой гость… Ведь разобраться, для кого мы живем? Для кого стараемся? Для вас, своих детей… — Он переменил голос. — Так Степанида пусть еще маленько побудет у нас? И погостюет, и поможет.
— Я все сказал о Стеше. Передай ей моими словами.
Вилял-вилял тесть, такие загогулины выводил, а под конец осторожненько:
— М-да. То-то вы, молодые. — Он почти до шепота понизил голос: — Я на тебя со Степанидой хочу переписать часть имущества. Завещать вам четверть всего движимого и недвижимого.
— Что-о?
— Ну да. Мне же не два века жить, и я рассуждаю так: у меня растут три сына да вот ты со Степанидой… Ближе никого нету. Ну и надумал отписать вам четвертую часть. Жисть вокруг темнит, ты парень с головой. Кто его знает, куда она повернет и чем все это кончится. Лучше тебе податься в сторонку, в Затон к нам, чтобы трошки обождать…
Значит, все его нелады с женой идут от тестя. А Стеша… Вертит отец ею и так и этак. Ведь это он, драгоценнейший тестюшка, Стешу сделал батрачкой на своей плантации, а теперь и его, зятя, решил заволать — заманить своим завещанием.
— В субботу чтобы приехала Стеша, — теряя терпение, сказал Андрей, — вот мое последнее слово!
— В субботу приедет Степанида, приедет, не беспокойся,— сказал тесть и поторопился уйти из каюты.
Это было еще в начале марта. У дебаркадера собрались работники горперевоза — машинисты, их помощники, матросы — избирать председателя комитета профсоюза. Стояла та пора весны, когда сухие ветры Заволжья и северного Прикаспия еще не успели опалить листвы на деревьях, травы на взгорье, круто поднимающемся к городу, когда Волга с верховий несла холодную, с недавно растаявшим льдом воду, и тут, у причала, у берегов распахнутой половодьем широченной, насколько глаз хватает, реки нет-нет, да и накидывало на собравшихся знобящим ветерком.
— Дубова! — выкрикнул секретарь партийной ячейки.
— Верно! — подхватили другие.
— Дельный малый. Народное добро бережет: машина у него как хорошие часы. И с людьми обхождение имеет. Глядишь, газетку вслух прочитает, побеседует по душам. Одним словом — человек… Я за него.
— И пролетарий что надо.
— Якши малай!
И пошли расписывать. Столько накричали о Дубове, что Андрей стоял и думал: «А ежели не справлюсь? Да они на мне места живого не оставят». Работу председателя профсоюза речников он плохо представлял.
Высказал опасение, что совсем не знает эту работу.
Приезжий из Царицынского штаба обороны, обвешанный оружием матрос крепенько хлопнул Андрея по плечу тяжелой рукой.
— Я тоже не ходил в начальстве. А вот послали в штаб — научился. Не так, братишка, страшен черт, как его малюют. А ты — уважаемый красными речниками пролетарий. Вот я, товарищ Дубов, тебе, братишка, посоветую: не играй на две дуды, буржуазной гидре в мировом масштабе не подыгрывай!.. Дуди во всю глотку, раз тебе поручают, только за дело пролетариев, за наше рабочее дело, за мировую революцию, чтоб в полном масштабе!.. Ясно? — Он для убедительности еще раз хлопнул Андрея по плечу.
— Ясно. — Андрей мотнул головой, хотя ничего для него яснее не стало. Понял лишь одно: во всем надо защищать своих товарищей — речников. А что не так страшен черт, он слышал уже не раз, когда был еще под германскими пулями, шрапнелью и газами.
Вот так и избрали Андрея. Был после этого митинг. Большую речь закатил представитель штаба обороны. Нашлись и среди собравшихся речников охотники поговорить. Не удержался и Андрей:
— Спасибо вам, товарищи, за доверие. Постараюсь оправдать его, хотя дело и непонятное для меня.
А из толпы:
— Поймешь!
— Нужда научит калачи есть! Только веди свою пролетарскую линию, в сторону не хилися!..
— Андрей Семенович Дубов не станет хилиться!..
— Да здравствует мировая революция! — закричал представитель штаба обороны, покраснев от натуги. — Ура, товарищи!
— Ура-а-а! — во всю мочь легких подхватили речники. Их крик слышен не только по эту сторону, но, может, и на том, дальнем, берегу разлившейся Волги.
— Смерть гидре контрреволюции!
И опять «ура».
— Да здравствует товарищ Ленин!..
И вновь многократное «ура».
Митинг закончился пением «Интернационала».
Дома встретился с угрюмыми глазами Стеши. Хотел было рассказать, что избрали его председателем профсоюза речников, но язык зацепился, не повинуется. Подумал: не поймет она состояния мужа. Стеша не любит митингов, собраний, революционных песен. Далека она от всего этого. Для нее самое желанное будущее — хороший урожай на отцовской плантации. А из песен — старинные, русские, ежели в них говорится о женской доле тяжелой, о ненавистных свекре и свекрови или о родной матушке с родным батюшкой.
Стеша узнала от соседок, что ее мужа выбрали председателем профсоюза речников. Возмутилась:
— Зачем это тебе?
— Народ избрал.
— Дурней не нашли?
Андрей не удивился ее словам.
— Бесплатно им чертоломишь! Лишь бы язык чесать. Нет чтобы на плантацию к отцу сходить. Там надрываются на работе. Спины не разогнешь.
Спать Стеша уходила во двор. Она по самую грядушку заваливала арбу сеном свежего укоса. Перед сном почти всякий вечер спешила к Волге (Затон ближе, но это ж корыто, в нем и вода намного теплей да и непроточная). На ходу сбрасывала юбку, стягивала промокшую от пота кофтенку — и бултых!.. Брызги, искрясь, разлетались в разные стороны. И нескольких минут достаточно, чтоб оставить Волге всю дневную усталость.
Возвращаясь, ложилась спать. С игрищ доносились смех и песни молодежи, переборы неунывающей гармоники. В саду — до него от арбы саженей пятнадцать — усердствовали соловьи.
Стеша, сладко потягиваясь, словно проваливается в сон. Под утро, когда во дворе свежело, она, не просыпаясь, зарывалась в сено. В эти часы звездам уже не мешал ни единый звук.
Однажды перед утренней зарей к сонной Стеше примостился Митрофан. Обнимая ее, он страстно шептал:
— Стеня!.. Стеня!.. Это я, твой Митроша…
Очнувшись, она так резко оттолкнула парня, что тот перевалился через грядушку и шмякнулся о затравевшую крепь двора.
Села на арбе, натягивая на плечи дерюжку.
— Не смей подходить ко мне… Я не какая-нибудь потерянная! — громким шепотом говорит она и, видя, что Митрофан продолжает стоять шагах в трех от нее, с угрозой: — Сейчас тяте шумну…
А утром уехала в Царицын. Перед отъездом в город у нее с отцом произошел такой разговор.
— Выбрала времечко — все дела на отца-мать оставить, — внушительно говорил он.
— У меня муж там.
— А тут? — Отец окинул глазами широкую плантацию от вдали чернеющего чигиря до неподвижного вишенника, попавшего под косые лучи утреннего солнца. — Тут картошку молодую надо копать — теперь в Царицыне она самое в цене. И с овощами захлинаемся, не успеваем их собирать, да и сорняки, как на грех, лезут. Мне одному, что ли, все это нужно?
Дочь — выше отца почти на полголовы — смотрела на него сверху вниз.
— Я к мужу еду!
— Выгоды не понимаешь, — не удержался отец.
— От выгоды твоей к вечеру не поднять рук.
— Я пригласил соседей. Помогут. Но знаешь, как?.. Свой глаз да глаз нужен.
— Не трать речей понапрасну.
Отец, вздохнув, меняет голос:
— Ну вот что, дочка, жалеет тебя Андрей?
— Жалеет, — миролюбивей ответила она, не понимая, к чему отец клонит.
— Дюже жалеет?
— Дюже.
— А ты его?
— И я его дюже.
— Ежли хочешь испытать, как он жалеет тебя, поживи с ним недельку (ой, много я даю тебе времени!). Потом собери все свои и мужнины пожитки — и в Затон. Небось потянется за тобой… За такой женой да не потянуться — тогда не знаю, что ему еще надо…
Стеша со смехом рассказала мужу, как она турнула от себя Митрофана, как разговаривала с отцом. Об одном умолчала: какой совет подал ей тятя.
Андрей хохотал, смеялась и она. Все было как в немногие счастливейшие дни их супружеской жизни. Говорили захлебывающимся шепотом разом обо всем, что попадало на язык.
— Ты не серчай, Андрюша, что неласковая… Росла нелюдимой. Сроду ни с кем не дружила. Забреду, бывало, куда-нибудь поглушней, лягу под деревом на траву и, прищурив глаза, гляжу, гляжу на небо. А там — радуги, радуги, радуги…
К лету восемнадцатого слова «казаки», «кадеты», «белогвардейцы» в Царицыне, а вскоре и на всем юго-востоке России обрели одинаковое значение. В этом сказались и многовековые сословные предрассудки, и почти поголовная неграмотность донских казаков, да и всего русского народа (а тем более неграмотность политическая), и особенности весны, которые очень умело использовала казачья верхушка.
Большинство трудового казачества старалось не вмешиваться в гражданскую войну. Но перед началом весенних полевых работ остро встал вопрос о земле. Казаки не собирались уменьшать своего пая, иногородние требовали справедливого раздела земли. Начались взаимные попреки, вспомнили и девятьсот пятый год. Потом, конечно, разобрались бы, что в девятьсот пятом революцию душили не только казаки, но и солдаты; однако вгорячах, особенно из-за земли…
Казалось бы, чего проще: в том же Сальском округе — одном из богатейших на Дону — лишь Корольков имел около ста тысяч десятин, а ведь там жили и другие крупные коннозаводчики. Земли коннозаводчиков, генералов, полковников и иных толстосумов на Дону достигали перед Октябрьской революцией астрономических размеров, но о величине их знала только атаманская верхушка да кое-кто из писарей. И, вполне понятно, атаманы это держали в строжайшей тайне, они старались стравить с мужиками и «хохлами» все казачество. Помещики и капиталисты России и зарубежных стран и в печати, и в речах представляли казачество этаким единым, монолитным и, чтобы столкнуть его с иногородними, не скупились ни на деньги, ни на оружие…
Старуха-история посеяла вражду между казаками и неказаками, посеяла ветер. Люди, враждебные трудовому народу, делали все для того, чтобы теперь пожинать бурю.
Используя помощь германской военщины, красновская банда в большинстве казачьих округов довольно быстро захватила в свои руки власть. В плен белогвардейцы не брали.
В те дни было не в диковинку где-нибудь у кургашка набрести в знойной степи на тело молоденького красногвардейца, совсем еще парнишки, с вырезанной звездой на лбу или иными следами зверства.
Для защиты Советской власти в Сальском и соседствующих с ним округах с приходом весны «на конь» садились почти все иногородние и те из казаков, кто победнее или у кого не остыла ненависть к офицерам и буржуям. Красногвардейские отряды создавались иногда за одну ночь при обстоятельствах, какие и в страшном сне не приснятся. Руководили ими свои же — Думенко, Буденный, Шовкопляс…
Вырываясь из окружения, эти красногвардейские отряды, будучи не в силах отстоять родные хаты, бросались в дерзкие контратаки и пятились к своим, к Царицыну, окраинному к Донщине городу.
Они отступали не одни. Под защитой их винтовок и шашек высоко подымали пыль нескончаемые таборы беженцев, а в них — отцы и матери, жены и сестры, детишки красногвардейцев.
В таборах все чаще слышалось: «пить» и «казаки». «Пить», потому что отступали по жарким, почти безводным степям, а в этой местности солнце рано начинает жечь по-летнему; «казаки» — из-за налетов белоказачьих и белокалмыцких отрядов, которые нежданно-негаданно наскакивали с устрашающим гиком-криком, и лучше было им не попадать в руки живыми…
В то же время начали пробиваться к Царицыну эшелоны с многочисленными красногвардейскими отрядами, мирными жителями из Луганска и его окрестностей. Сначала по ним били артиллерия и пулеметы германских оккупантов и украинских националистов, а у железнодорожного моста через Дон, который к тому времени взорвали белые, в эшелонах луганцев нередко слышалось настораживающее:
— Казаки!..
И из Хоперского и Усть-Медведицкого округов, когда красные отряды оставили Юго-Восточную железную дорогу, белоказачьи банды Мамонтова и Фицхелаурова тоже прижали к Царицыну мужиков и казачьи семьи, которым угрожала месть за добровольцев, ушедших в Красную гвардию. Даже в официальных документах царицынского военного командования белые иногда именовались словом «казаки», хотя конница, оборонявшая Царицын и все дальние и ближние подступы к нему, состояла наполовину из казаков и в Советах наряду с рабочими, крестьянскими, солдатскими были и казачьи депутаты. А среди белогвардейцев на Царицынском фронте казаков было не так уж и много.
В семье Дубовых — Андрей, его отец и мать, Стеша — казаков называли чаще бытовавшим в Царицыне в те дни словом «кадеты».
К порогу Царицына хуторами, селами, станицами, железнодорожными поселками, используя для маскировки любой лесок, любую балку, подбиралась война с красными пожарищами по ночам, с высокими дымами днем, с тревогою и со всем тем, что несет она всему живому. Горели не только дома, хлевы, сараи, горели прикладки сена, скирды соломы… Все чаще и чаще налетали на Царицын белые банды генерала Мамонтова и со стороны Гумрака, и Тундутова, и Карповки, а больше — из Кривой Музги. Тогда в городе объявляли тревогу.
Жителей Царицына охватывало чувство чего-то страшного, когда вдруг разом все заводы и фабрики, все паровозы и пароходы на Волге заревут, завоют на разные выматывающие душу голоса — гудками, сиренами. И продолжалось это не минуту, а десять — пятнадцать. Рабочие наскоро вооружались и вместе с бронелетучками и бронепоездами окружной железной дороги обрушивались на белогвардейские сотни. Схватки бывали яростными, но кратковременными. Большинство рабочих обычно после такого боя возвращались уже не к станку, не на пристань, а в красногвардейскую казарму.
Уходили в добровольцы и товарищи Андрея, давнишние закадычные друзья.
— До встречи! — кричали ему.
Но и они, и Андрей отлично понимали, что встречи может и не быть.
Андрей дважды просился на фронт, но ему отвечали в штабе обороны:
— Ты, товарищ Дубов, поставлен на ответственный пост, стой на нем, пока тебе не прикажут с него сойти.
Андрей не раз слышал о чрезвычайном полномочном из Москвы. Со дня его приезда в Царицыне о нем пошли всяческие разговоры. Еще из газет Андрей узнал, что чрезвычайный полномочный — нарком РСФСР.
На третий день, как он приехал, были введены хлебные карточки, — выдавали их только работающим. В рестораны и подобные заведения больше не светило шастать молодчикам и всякому другому темному люду. Буржуев, чтобы не сидели дармоедами, послали на рытье окопов.
Щеголеватые офицерские фуражки, модные фетровые котелки — все это за два-три дня было заменено тюбетейками, заношенными фуражками да кепками не первой свежести. Вчерашние офицеры даже выправку старались изменить. Бывшие барыни рядились под кухарок и горничных.
Все эти разительные перемены в жизни Царицына были связаны с приездом чрезвычайного полномочного, с его именем. Вот почему теперь, когда было объявлено, что сейчас будет выступать чрезвычайный, в зале затихли, а председательствующему не надо было называть его звание и особые полномочия: в зале всякий знал о них.
Из-за стола, что был занят президиумом, встал среднего роста мужчина, одетый в полувоенное, черноусый, худощавый.
Он неслышно прошел в сапогах без каблуков — такие носят горцы — к трибуне. Все глядели на него.
Андрею посчастливилось попасть в четвертый ряд, почти напротив трибуны. Когда чрезвычайный поднялся за столом президиума, Андрею не так уж хорошо было видно его, а подошел к трибуне — разглядел все до тонкости. Возрастом он показался лет тридцати — тридцати пяти. Лицо смуглое, с нечастыми и неглубокими следами оспы, нос прямой, глаза черные, с прищуркой.
«А оспа у него больше заметна, чем у меня», — подумал Андрей.
С первых же слов, сказанных явно не русским, Андрей понял, что действительно, как и шла молва о нем, рожак с Кавказа.
Он заговорил спокойно, неторопливо; заговорил о том, что Октябрьской революции грозит смертельная опасность. Чехословаки с востока, англичане — с севера и с берегов Каспия, красновско-германские банды на юге… Вся эта свора стремится свергнуть Советскую власть, отнять землю у крестьян, раздавить свободный пролетариат и посадить на спину трудящихся буржуазию, помещиков, коннозаводчиков и генералов.
— В Царицын, не считаясь с потерями, рвутся белые банды. Кто они? Каков их социальный состав? Во-первых, это вчерашние офицеры и иногородние — большей частью из кулаков и зажиточных крестьян; во-вторых, казаки. Если офицеры и кулаки ясно, чего хотят, то с казаками дело сложней…
Обрисовав прошлое Дона, он далее сказал, что Дон неоднороден.
— Львиную долю привилегий, полученных казачеством от царского правительства, узурпировала — захватила. — пояснил оратор, — офицерско-кулацкая верхушка, которая нещадно эксплуатирует не только пришлое, иногороднее, население казачьих районов, но и маломощное и среднее казачество. Главная привилегия казачества — высокий земельный надел — для значительной бедняцкой части фикция, одна видимость, — снова пояснил оратор. — Так, например, в прошлом году в пределах северодонецкого округа хозяйств, не имеющих вовсе посевов, было тридцать и шесть десятых процента; хозяйств, не имеющих в достатке рабочего скота, — тридцать три и шесть десятых процента и хозяйств без всякого скота — двадцать один процент.
Отсюда — с одной стороны, генералы Краснов и Мамонтов, с другой — казак-революционер Подтелков. Дон бурлит… Ныне середняк, особенно в районах, занятых белыми бандами, идет с кадетами.
А почему? Во-первых, потому, — выступающий подчеркнул слово «во-первых» и голосом и жестом небольшой смуглой руки, за движением которой следил весь громадный зал кинотеатра, — мы забираем у него по государственным ценам хлебные излишки, скот; во-вторых, — снова выделение и интонацией и жестом руки, — как всякий середняк, он надеется разбогатеть, в частности, и продавая по сложившимся спекулятивным ценам, втридорога, излишки хлеба, скота; в-третьих, он казак, с детских лет готовился к войне, к бранной жизни. Кроме того, у казака сильны сословные предрассудки. А казацкая верхушка, пользуясь этим, внушает середняку, что Советская власть лишит его свободы, сделает чуть ли не крепостным.
Но середняк на Дону пойдет за большевиками. Во-первых, потому, что он живет своим трудом, а не эксплуатацией; во-вторых, ему не по пути с соседом-кулаком, которому он завидует и которого ненавидит, зная все его плутни; в-третьих, середняк вскоре сам убедится, что большевики строят самое демократическое, самое светлое в мире общество, самое справедливое.
Далее чрезвычайный полномочный сказал, что враг в десяти — пятнадцати верстах от города и что Царицын в опасности. Сказал о значении Царицына для дела революции.
— Нельзя скрывать, — тут же пояснил он, — что у нас большая нехватка оружия, и бойцов не хватает… Военный совет уже не раз прибегал к мобилизации внутри самого Царицына. На этот раз необходимо мобилизовать пять возрастов. Иначе не устоять…
Теперь его слушали, боясь даже пошевелиться. Соседа, сидящего рядом с Андреем, наверное, душил кашель. Чтобы сдержаться, он зажал широченной, в пороховых ожогах ладонью рот, крутил головой, а глаз все же не спускал с трибуны.
— Надо на фабриках и заводах, в военных казармах срочно провести митинги, рассказать трудящимся, что наступает решительный бой… Но не сомневайтесь, товарищи, мы победим!
Теснясь и многоголосо гудя, выходили из кинотеатра.
На улице дыхнуть нечем. Солнце накалило стены кинотеатра, булыжник мостовой (брызни на оголенный камень — зашипит). Каждая травинка понурилась, сникла.
Андрей вышел на улицу. Рубашка на нем — хоть выжми. Шагах в трех от него, покуривая, стоит высокий, с чубом цвета каштана, судя по одежде и выправке, военный.
— Дозвольте, товарищ, прикурить, — обратился к нему Андрей.
— Пожалуйста.
Прикурив, Андрей кивнул в сторону вокзала:
— Казаки наступают.
— Не казаки, а белогвардейцы.
— Один черт.
— Нет, черт не один. — Военный чуть выше поднял правую бровь. — Наша красная дивизия состоит почти целиком из казаков.
К говорившему подошли двое. Один из них почтительно:
— Так пойдемте, товарищ Телин?
— Сейчас пойдем. Вот я на прощанье скажу пару теплых слов. — И Андрею: — Воевать надо. Нечего тут за бабий подол цепляться.
Эти слова как удар плетью по лицу.
— Напрасно, товарищ Телин, вы обо мне так. Я от калединцев под Новочеркасском получил свинцовый подарок. — Андрей показал себе на грудь. — Да и сейчас готов идти в бой…
Вечером на пристани состоялся многолюдный митинг. Выступил и Андрей Дубов. Решение было единогласным: из речников и рабочих «Грузолеса» создать пролетарский полк. Начали записываться в добровольцы. Андрей тоже записался, но начальник городского речного пароходства вычеркнул его фамилию.
— Ты свое отвоевал. Да тебе и тут делов хватит.
Но враг угрожает Царицыну, а он, Дубов, будет циркуляры подшивать, бумажной волокитой заниматься! Нет, он пойдет к самому товарищу Рудневу — в шею не вытолкнет.
Заходило солнце. Теперь слышнее стала артиллерийская стрельба, уже не глухая, а угрожающая, как неотразимо приближающаяся свирепая гроза…
О Николае Рудневе Андрей знал, что он начальник отдела формирования и обучения войск Северо-Кавказского военного округа проводит работу по созданию регулярных частей Красной Армии и подготовку командного состава. На последнее больше всего и рассчитывал Андрей.
Руднев был молод и строен, в нем еще чувствовалось что-то студенческое, живое, подвижное, а вместе с тем и военная косточка (после шестимесячных курсов стал офицером); не могло не сказаться и участие во всяких переплетах при отступлении Пятой украинской Красной Армии в Царицын, и сегодняшняя работа, в которой приходилось в одних случаях приказывать, в других — уговаривать или вникать в сущность, чтобы не ошибиться в подборе людей. Да и выглядеть он старался посолидней, чтобы не так замечался его возраст.
Отдел формирования размещался в большом двухэтажном доме бывшей компании Зингер.
Одет Руднев в галифе и гимнастерку из английского сукна. Андрея встретил приветливо. Ему уже доложили, кто такой Дубов и зачем пришел. Руднев, доброжелательно глядя, сам расспросил, почему же все-таки тот хочет добровольно уходить в Красную Армию.
— В красногвардейском отряде до ранения я командовал взводом. Могу быть полезным там, где не хватает командиров…
Руднев оживился, юношески светлыми глазами окинул Андрея с ног до головы, стал подробно расспрашивать его: где родился, где жил, давно ли работает в пароходстве.
— Завтра, товарищ Дубов, поедешь в Верхне-Погромное. Там сбор призывников. Тебе, как добровольцу, полезно выступить на митинге.
— Не мастер я говорить.
— Дело не в мастерстве. Детство и юность, товарищ Дубов, как явствует из твоих слов, ты провел у деда в Углянке… На сборах в Верхне-Погромном многие должны тебя узнать. А то, что ты идешь добровольно, очень поучительно. Твое слово на митинге будет иметь вес.
Перед отъездом в Верхне-Погромное Андрей зашел на царицынский базар. Надо было купить продуктов на дорогу. Прошел мимо курганов арбузов и дынь, мимо больших корзин с крупными красными помидорами.
В крытом рынке встретил знакомых — затонских Захара и Никиту. О таких, как Захар, говорят: «Глянь, дядя через забор. Там наши не обедают?»
Никита ростом вершка на два пониже, но такой же широкоплечий.
Они получили мобилизационные листки и тоже должны ехать на сборный пункт в Верхне-Погромное. Оба хорошо знают Андрея, живут по соседству с его тестем.
Между прочим, спросили: почему Стеша опять живет у отца, а не с ним, своим мужем. «Время военное, — ответил Андрей коротко. — А попрощаться надо. Еду вместе с вами».
Переночевали в Царицыне. А утром были в Затоне.
На улице смотрит и глазам не верит: на площади к десятку подвод с новобранцами в самый конец пристраивается бричка и в ней упряжка: пара хороших гнедых коней. В бричке восседают его тесть, теща и шуряки, а впереди, держа вожжи в руках, заплаканная Стеша. Андрей подошел к бричке.
— Вот, Степанида, — слышит твердый, внушительный голос тестя, — говорил и говорю: вези Андрея и проводи, как все жены провожают мужей.
Он спрыгнул с подводы, облапил зятя, поцеловал и даже, почудилось Андрею, всхлипнул. Со слезами на глазах прощалась теща, — она что-то сдала в последнее время.
Может, потому, что в эту минуту все растроганно прощались, заплакали и младшие братья Стеши — подростки.
Оставив позади плачущих женщин, стариков и детей, новобранцы тронулись в путь с песнями и гармошкой.
Проводы на войну, вероятно, во все времена были такими. Гармонист старается вовсю, и призывники громче, бесшабашней поют, чтобы заглушить в себе, задавить тяжелые мысли, щемящие сердце.
Молчалива Стеша, всегда кажется ровной и спокойной. А что таится в недрах ее души — ни муж, ни родная мать не ведают.
После продолжительного молчания Андрей спросил:
— Что молчишь-то? Может, что скажешь на прощание?
— Что сказать-то? Все ты знаешь… — проговорила Стеша, не поворачивая к нему лица. — Вот приедешь, ежели уцелеешь, с войны, тогда вдоволь наговоримся.
— Да шо, пожалуй и так, — согласился Андрей.
Снова замолчали.
Солнцу, казалось, лень было подняться с места. Дымились солончаки. Синь неба настолько вылиняла, что стала бледной, как полынь. Сухое дыхание пустыни. Дразнящие реки миражей в стороне.
Слезы застилают Стеше глаза. Не может она говорить.
И не поворачивала заплаканного лица, чтобы не показать мужу своей слабости, а возможно, бабьей злости… Да мало ли чего?.. Вот он уходит в Красную Армию добровольцем, а почему с ней не поговорил? Не посоветовался? Они ведь муж и жена.
Не видя дороги, бегущего марева, она машинально помахивала кнутом на лошадей, сгоняя с их спин и боков назойливых оводов.
По степи, выжженной суховеями, кое-где поспевший сорняк овсюг, кусты белены — «бесива», мелкие колючки, что закатываются в шерсть овцам и доставляют потом много хлопот бабам. Насколько глаз хватает, видны махонькие бугорки. На них, стоя на задних лапах, посвистывают суслики. На пути попалось полувысохшее озерцо. В нем камыш, куга с пожелтевшими макушками и низкорослый лешуг — сабельник. Листья у лешуга широкие, действительно похожи на сабли и почти так же остры. Забредешь в воду — берегись, порежешь ногу. Возле озерца чибисы спрашивают: — «Чьи вы?.. Чьи вы?»
Седой придорожный бурьян-кагальник и с пышной малиновой шапкой татарник — в пыли… Пыль клубится за новобранцами, ползет за подводами, залезает в глаза, в уши, за воротник рубахи, в рот. Особенно много ее достается бричке Осетровых, потому что тянется она в самом хвосте обоза призывников.
Верхне-Погромное не торопилось приближаться, хотя Андрей уже давно увидал его. Но вот и окраина. Долго едут но прямой неширокой улице, останавливаются у позеленевшего частокола, которым огорожен просторный дом.
Стеша по-мужски ловко спрыгнула с повозки, по-хозяйски открыла тесовые, похилившиеся внутрь ворота, ввела под уздцы лошадей во двор, заросший крапивой, лебедой, полынью, а у самого частокола — широкими лопухами.
К дому, прислонившемуся к высоко разросшемуся тополю, протоптана дорожка. Стеша подвела лошадей под навес сарая, разнуздала их, сняла с подводы охапку свежескошенной травы, и тут она заговорила, но не с мужем, а с лошадьми. Заговорила требовательно, властно:
— Ногу!.. Ногу… Судорога тебя поломай!
А тому коню, что был впряжен справа:
— Ну ты, торопишься… Все никак не наешься! Обжора!
Конь, пофыркивая, поблескивал на нее недобрыми черными глазами, тыкался мордой в ясли.
Из дома вышел старик. Роста он показался Андрею среднего, но когда поравнялись, Андрей посмотрел на него вверх. Старик взял ладонь Андрея, и она затерялась в его руке. Голова у старика большая, белые с прозеленью волосы стрижены «под горшок». Борода, как у старовера, начиналась от самых ушей и широко ниспадала на грудь. Услыхав разговор с лошадьми, он ласково улыбнулся:
— Стеня, это ты?
— Я.
— По голосу угадал тебя, внучечка. Глаза стали плохо видеть, — пожаловался старик. — А это кто с тобой?
— Мой муж, Андрей Семеныч. В Красную Армию едет, провожаю.
— Вот так гости! — обрадовался старик. — Господь бог привел еще раз встретиться с тобой, Стеня, да и с твоим муженьком. Пойдемте в дом.
Стеша задержалась возле лошадей, а Андрей пошел вслед за дедом. Хозяин привел гостя в свой ветхий, под камышовой крышей дом. Сени делили его на две большие комнаты. В одной русская печь и земляные полы. В другой — праздничной — деревянные, крашеные. Правда, краска сохранилась только у самых стен.
Старик ввел Андрея, как и положено гостю, в комнату с деревянным полом. В ней чувствовались запахи мяты, полыни, чебреца.
Еще зимой, на свадьбе Андрея, чудное рассказывали об этом старике… Ему сто четырнадцать лет, а жене семьдесят пять. Женат в четвертый раз, троих похоронил. Смолоду чумаковал. На склоне лет работал на скотобойне в Царицыне, там привык пить горячую кровь.
Теперь старик копается целыми днями на огороде или в саду, сутками пропадает в степи, собирая лекарственные травы. Как лекарь он славится на всю округу. Шепотом, оглядываясь, поговаривали, что он колдун, поэтому и смерть его обходит…
Старик рассказал жене, еще крепкой и бодрой старухе, зачем Андрей со Стешей приехали.
— Значит, мобилизовали?
— Добровольно иду.
После митинга Дубов был откомандирован в Царицын. К тому времени на город участились налеты белых.
Моботдел Десятой армии направил Андрея в казарму, которая находилась на Скорбященской площади. Там формировался Первый крестьянский полк. Андрей был назначен командиром взвода учебной команды.
Занятия в учебной команде проводились каждый день, если не отрывало что-нибудь неминучее. А неминучее бывало частенько, и учебная команда всякий раз оказывалась там, где в Царицын пытался прорваться противник, или на операциях внутри города.
— В Городище немедленно. Аллюр три креста!
Вместе с бронированными автомобилями и бронепоездами устремлялись на белогвардейские сотни и отбивали атаки.
Десятого сентября мамонтовцы были отброшены за Дон. Победу в Царицыне праздновали не только красноармейцы, но и рабочие, их жены, дети. Улицы города до поздней ночи не могли успокоиться: всюду гармошки, пляски, песни, веселые голоса ликующего народа.
Теперь, когда белых турнули за Дон, в казарме стало спокойней. У Андрея вновь появилась возможность учить курсантов своего взвода: рыть окопы саперной лопаткой в заклеклом суглинке, наступать под огнем противника, ходить в штыковую атаку.
В полку мало винтовок, взводу Андрея они достаются не всякий день. И все-таки он обучает стрелять лежа, с колена, стоя. В его взводе для курсанта считается необходимым с завязанными глазами разобрать и собрать затвор.
Однако и теперь не всегда была возможность заниматься в казарме или на полигоне. Больно много темного люда шаталось в Царицыне. И Андрей не всякий раз мог разгадать, где свои, где чужие.
Вот анархисты — вроде бы свои, так же костерят буржуев, но шибко грабят. Ходит: тужурочка на нем — шик с отлетом, сапожки позвякивают шпорами, весь он в ремнях, с боку наган на шнурке, а из каждого кармана галифе выглядывает хвост ручной гранаты. Не человек — картина. Поговори с ним! А надо говорить: может, он из самых вредных.
Разговор ведется скорый, все происходит в какие-то немногие минуты… Андрей выхватывает наган, берет подозрительного на мушку:
— Руки вверх!
— Ты что, бога мать, очумел?!
— Руки вверх, стреляю!
Уже иным голосом:
— Но, товарищ, ты что? Не чуешь?
— Руки!!!
Разоружив, сдает его в чека, пусть там разбираются, бандит он или шибко форсистый.
Встречались и спекулянты, заядлые барахольщики. Проследили за одним — торгуют подставные лица, все больше подростки, да какой-то старик с провалившимся носом. Потянули за конец ниточки — в особняке, в самом центре города, такой паучище затаился! Брать его надо было с умом, потому что хорошо вооружен.
На чистую воду помог вывести один из его подручных, мальчишка.
Когда все было выверено, рано утром милиционер, двое понятых и двое из учебной команды — Андрей и Захар Арбузов — с трудом оттеснили, как тяжелую каменную тумбу упирающегося, чуть ли не в сажень ростом хозяина в ночном шелковом полосатом халате. Тут же вскоре появилась, глядя с испугом на пришедших, хозяйка — беленькая изнеженная толстушка с длинными распущенными волосами.
В передней милиционер предъявил ордер на обыск.
Бегло взглянув на бумажку с печатью, хозяин метнулся в одну из комнат. Андрей опередил его. По первому движению спекулянта он догадался, где хранится у того оружие… Над подушкой они нагнулись почти одновременно, однако Андрей первым успел выхватить пистолет. Крепко скроенный, пудов на семь, еще довольно молодой вражина попытался вырвать пистолет из рук Андрея. Но Захар и милиционер, навалившись на хозяина, быстро связали его. Только теперь спекулянт закричал:
— Караул! Бандиты! Караул! Грабят!..
— Гражданин, — попробовал урезонить милиционер, — ты ж видишь, никакие мы не бандиты. Давай, гражданин, без оскорблениев…
Но толстяк продолжал выкрикивать ругательства. Его жена вдруг сорвалась с места, бросилась к комоду, что-то поспешно начала засовывать себе за пазуху. Захар схватил ее за руки.
— Ничего у тебя, дамочка, не выйдет. Положи назад!..
Милиционер сказал, чтобы Андрей и Захар сберегли тут все, пошел за подводами.
Квартира спекулянта — в несколько комнат с высокими лепными потолками… До этого ни Андрей, ни Захар, не видели в квартирах такого множества ковров, картин в позолоченных рамах, хрусталя, мягкой и полированной мебели, такого блеска и лоска во всем.
И часа не прошло, начали одни за другими нагружать дроги. Чего только не оказалось в этой многокомнатной квартире: и тюки шерсти, шелка, бархата, сатина, бязи, и несколько ящиков махорки и турецкого табаку, и огромные кладовки с мешками муки, риса, пшена. А уж золотых и серебряных вещей и не сосчитать!..
Как-то Андрея вызвал начальник ревтрибунала Десятой армии.
— Товарищ Дубов, подбери из своего взвода понадежней ребят, человек шесть… Понятно?
— Понятно.
Начальник ревтрибунала — очень молодой человек — из нагрудного кармана военного френча защитного цвета достал большие часы. Щелкнув крышкой, мельком взглянув на циферблат, проговорил:
— Сейчас без двадцати два. Ровно в одиннадцать вечера на улице Извозной, в доме сорок…
— Знаю эту улицу.
— Да, ты же местный, царицынский… Так вот, ровно в одиннадцать там соберется группа офицеров-заговорщиков. Вы пойдете к началу двенадцатого. Двери для вас не запертыми оставит наш человек… Заговорщиков надо взять, по возможности, без шума.
— Постараемся взять без шума.
— Всех офицеров доставьте сюда в сохранности…
И вот в начале двенадцатого ночи — особенно темной, со свистящим ветром на окраине города — Андрей с двумя курсантами был в доме сорок. В прихожей, осторожно ступая, он вслушался в спокойные голоса:
— Пас!..
— Раз!..
— Два!..
— Семь первых!..
Играют в преферанс. Ни о чем, не относящемся к картам, не говорят.
Андрей резко распахнул двустворчатую дверь, первым ворвался в просторную гостиную, где за овальной формы столом, накрытым плюшевой скатертью, с картами в руках сидели четверо в костюмах гражданского покроя. Один из них — похоже, хозяин, — положив карты на стол, не изменившись ни в лице, ни в голосе, сказал сначала играющим:
— Мизер без трех!.. — и затем Андрею: — В чем дело? — Он замялся, видимо, хотел добавить «господа», но тут же нашел нужное к этому случаю слово: — Граждане?
— Руки вверх! — вместо ответа произнес Андрей. Поднимая вместе с гостями руки, хозяин возмущенно проговорил:
— Но это же насилие!..
— Обыщите их, — кивнул Андрей курсантам.
У двоих задержанных оказались пистолеты.
— Всех вывести! — приказал Андрей.
Во дворе к конвоирующим, как тени, присоединились и те трое, что на всякий случай стояли, спрятавшись под окнами.
— Ничего у вас, господа, не выйдет. Не выйдет, товарищи! — зло произнес последнее слово, судя по голосу, хозяин дома.
Еще в гостиной Андрею запомнились его недобрые, зеленоватые с прищуром глаза и свисающая на лоб седая прядь.
В не освещенном фонарями переулке на Андрея, курсантов и конвоируемых сразу же обрушилась валившая с ног пыльная буря — «царицынский дождь». Быстро летящие крупные песчинки секли по лицу и рукам. Невольно приходилось жмурить глаза.
Неожиданно из-за угла дома вывалилась пьяная ватага парней. Они сразу же начали приставать, чтобы затеять драку, и расступились лишь после того, когда Андрей выстрелил из пистолета в воздух.
Воспользовавшись темнотой ночи, усилившейся на перекрестке бурей и встречей с этими крикливыми гуляками, один из задержанных сбежал.
— Вы, товарищ Дубов, не выполнили задания… Упустили главаря. Он чудом избежал расстрела еще в декабре семнадцатого, в Питере…
Андрей понял, что тот самый хозяин квартиры и есть главарь, а белая прядь, возможно, свидетель пережитого в Питере…
После ухода мужа в Красную Армию в первое время Стеша коротала вечера в доме отца. Подруги уговаривали ее пойти на игрища, повеселиться, покрасоваться на людях. Ведь ей еще нет и восемнадцати.
В дни затишья к Захару Арбузову приехала жена. Увидев Андрея, она немного оробела. Начальство! Командир над ее мужем!
— Здрасьте!
— Здравствуйте. — Улыбаясь, Андрей подал ей руку.
— Степанида-то, жена ваша, здеся бывает?
— Нет.
Оставшись одни, Захар спросил у жены:
— Ну, какие новости привезла? Выкладывай.
Она огляделась по сторонам и, видя, что на них никто не обращает внимания, зашептала:
— Новостей полон воз. Только ты, гляди, не проговорись.
— Язык привяжу.
— Знаю, как ты привяжешь… Ну так вот: Степанида-то, жена Андрея Семеныча, бабы говорят — что-то у нее с Митрошкой Помазком…
— А сама-то видала?
— Сама не видала, не знаю, но говорят ведь…
— А не видала — так и не бреши…
Спустя дня три после приезда жены Захара появился тесть Андрея.
— Что ж ты и дорогу к нам забыл?
— Сами знаете — служба.
— Оно так… Но приттить-то надо бы. От Антоновны и от Стеши тебе приветы.
— Спасибо…
Поговорили еще — о том о сем. Уже перед самым прощанием Андрей заметил: тесть мнется, сказать что-то хочет, а стесняется, что ли. Но не терпится ему.
— Давай, мы свои люди.
— Поете вы, значит, непристойное, богопротивное.
— Что именно? О чем ты?
— Да это «Вставай, проклятьем заклейменный». А кто заклеймен проклятьем? Сатана. За гордыню свою заклеймен и низвергнут… А своей песней вы из преисподней вызываете его…
На заставе, в версте от Разгуляевки, поставили взвод Андрея.
В Заволжье и на ту часть, где Затон, позади цепочки настороженных курсантов, на резко ниспадающем к горизонту небе между облачками поднималась утренняя заря, она только что проснулась, начала расправлять крылья. Чувствовался легкий бодрящий морозец, голые суглинки вокруг зачерствели, а на шарах перекати-поля, на редких чахлых кустиках полынка забелел первый в этой осени налет инея.
Андрей и курсанты нет-нет да поглядывали на раскинувшуюся перед ними неровную степь… Белых пока не видно.
Вон из поселка со стороны вокзала замаячил человек. Это был связной.
Взводу приказано было отходить к окопам: здесь оставаться опасно. Белые с часу на час большими, чем ожидалось, силами могут нагрянуть.
К окопам Андрей шел легкой молодой походкой, ему старались подражать курсанты.
У полотна железной дороги в окопах (их рыли буржуи с месяц назад) уже затаилось около сотни красных бойцов с двумя пулеметами. Как и говорил связной, из ближайшей балки вскоре пехота белых повела наступление.
Она била из нескольких пулеметов, из винтовок, — головы не поднять. Кое-кто из бойцов испугался, торопливо отстрелявшись, бросился убегать, однако сваливался потом либо в свой окоп, либо шагах в трех — пяти от него.
Еще по опыту германской Андрей знает: засевшего в окопе человека трудно одолеть даже пятерым. А выйди он на открытую местность — удобная мишень. Об этом он не раз толковал и своим курсантам. И, к своей радости, заметил: ни один из его взвода не ушел из окопов.
Солнце поднялось, но еще не перешагнуло на эту сторону Волги, а кажется, бой идет чуть ли не весь день.
Недалеко от Андрея за станковым пулеметом этакий небольшого роста красноармеец лет сорока с хвостиком. И хотя белые ведут наступление умело, используют каждую балочку, выемку, бугорок, за которым можно укрыться, он по-сурчиному выглядывает из окопа, выпускает лишь одну очередь — и у белых на этом участке пропадает охота наступать: нескольких человек уложил уже.
Теперь перестрелка крепчает с обеих сторон, выстрелы из винтовок хлещут, как резкие щелчки кнута… И тут Андрей вдруг ловит себя — В Городище немедленно. Аллюр три креста!— Караул! Бандиты! Караул! Грабят!..Взводу приказано было отходить к окопам: здесь оставаться опасно. Белые с часу на час большими, чем ожидалось, силами могут нагрянуть.на мысли: рядом не слышит пулемета, а белые на этом участке осмелели… Он перемахнул из своего окопа в окоп пулеметчика — видит: маленькое тело того откинулось в сторону.
Угнездясь поплотней, Андрей прижался к земле: низко над головой просвистало несколько пуль, одна резко ударила о щиток пулемета. Окопчик неглубок, а сейчас кажется Андрею совсем мелким и тесным, — мысленно позавидовал тем, кто мал ростом. Стараясь не думать ни об опасности, ни о том, что окоп тесен и неглубок, Андрей посылает ленту за лентой…
И вдруг в левый фланг белых ворвались два автомобиля с красными звездами на светло-зеленой броне… Никто не скомандовал «в штыки», но красноармейцы с криками «ура» бросились с винтовками наперевес…
Конец октября… Снег и мороз. Неожиданно так рано навалилась зима.
Андрея и с ним человек восемьдесят, в том числе восемь из учебной команды, без винтовок и даже без холодного оружия, посадили в теплушки.
Слышал Андрей — за подлинность ручаться не мог, — перед их эшелоном, разметая белых подальше от железной дороги, прошел бронепоезд «Грозный».
Теперь он пользуется только слухами, а мало что знает, потому — уже не взводный. За что, про что разжаловали, не ведает. Полковому начальству видней. Только позже ясно стало Андрею, кому это нужно было. В штабе полка оказались предатели.
Не доезжая до Карповки, ночью выгрузились на полустанке и пошли пешим строем. Снег под солдатскими гетрами* (* Гетры — ботинки на пуговицах или со шнурками) скрип-скрип, скрип-скрип! Белоказаки за версту могут услышать.
Ночь, а видно как днем, — аж страшно! Морозище — даже на ходу в шинелишках зябко. А тут только вчера выпал снег, как-то не сразу привыкают люди к зиме, к холоду… Месяц в восточной стороне неба полный, и облачко от него — вниз к горизонту, будто светящийся клинок. И клинок этот занесен над головами безоружных красноармейцев.
— Куда мы?.. Набежит с десяток казаков на конях — шашками головы всем снесут.
Командир угрожающе:
— Утром в Песчанке получите винтовки. А паникеров и трусов приказано кончать на месте!..
В село Песчанку действительно пришли утром и действительно вооружились винтовками разных систем. Вот только патронов к ним не оказалось, но патроны командир обещал доставить к вечеру.
Выставив караулы, разошлись по дворам. Андрей спросил хозяина дома, к которому его определил квартирьер:
— Часто бывают здесь казаки?
— Когда как. Иногда три раза в сутки, а уж один раз непременно. Нынче утром были кадеты.
Поздно вечером красноармейцев подняли по тревоге и увели из села. Расположили их на берегу недавно замерзшей степной речушки Варваровки. Командир приказал устраиваться на ночлег.
— Но снег же!
— Привыкать надо. Зимой не раз придется ночевать на снегу.
Андрею это было не в новинку. Он отыскал делянку с густыми почерневшими будыльями кукурузы. Вместе с Захаром наломали будыльев, сложили их в кучу и уселись, прижавшись друг к другу поплотней… Андрей за последние дни так намотался, что, едва прислонился к плечу товарища, задремал — будто в яму провалился.
— Андрей!.. Да ведь мы с тобой, два разбузлая, только вдвоем остались!.. Раззявы!
— Как вдвоем? — спросонья не поняв в чем дело, спросил Андрей. — А остальные где?
— А черт его знает, куда их унесло!
Постояв с минуту, Андрей решительно махнул рукой:
— Пошли… Будем держать направление на Царицын. Лишь бы на казаков не нарваться.
— А в какую сторону пойдем?
— Солнце заходило там. А нам на восход: значит, сюда.
Идут с незаряженными винтовками.
— От собак есть чем отбиваться,— горько пошутил Захар.
Ночь месячная, морозная. Каждая подсиненная снежинка, пахнущая свежестью, в блестках.
Андрей подает знак — присаживаются: так дальше видно. Но вокруг никого. А тишина такая: громко крикни — в Царицыне услышат.
Впереди светит, не моргая, одинокий огонек.
Решили разведать, что там. Чем ближе подходят, тем осторожнее ступают. Переступят — прислушаются и опять шагнут несколько раз.
Одинокий дом в степи — и ничего вокруг, только в стороне от дороги, саженях в двухстах от дома, наметан прикладок сена.
На цыпочках подкрались к окну, заглянули: в большой комнате горит висячая лампа-«молния», а на полу впритирку друг к другу спят курсанты из их учебной команды и незнакомые красноармейцы.
— Зайдем? — шепотом предложил Андрей.
— Давай зайдем, — так же шепотом ответил Захар.
В комнате Андрей довольно бесцеремонно растолкал крайнего от двери курсанта:
— В чем дело? Почему спите? Где командир?
— Командир за патронами и пулеметами уехал, обещал прихватить и походную кухню. А нам приказано ожидать его тут.
— Подъем! — крикнул Андрей.
Многие вскочили так, будто их шилом укололи.
— Разлеглись… Надо б хоть часового поставить! Не у тещи на блинах…
Неожиданно широко распахнулась дверь, ворвались с обнаженными шашками, с винтовками белые.
Андрей, Захар, двое—трое курсантов и кто-то из незнакомых Дубову красноармейцев бросились навстречу белоказакам, но тут же были сшиблены с ног…
Оглавление
- Часть первая
- Часть вторая
- Часть третья (гл. 1-5)
- Часть третья (гл. 6-11)

