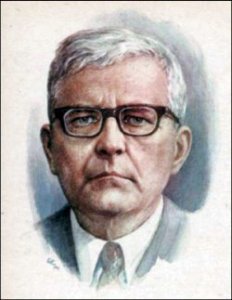 Воспоминания Шостаковича. Эта книга создавалась в семидесятые годы совместно с Соломоном Волковым. Волков записывал слова Шостаковича на магнитофон, расшифровывал и давал Шостаковичу на подпись. Издать “Свидетельства” предполагалось по прошествии пятнадцати лет после смерти Шостаковича и только за границей. На русском языке книга не издана.
Воспоминания Шостаковича. Эта книга создавалась в семидесятые годы совместно с Соломоном Волковым. Волков записывал слова Шостаковича на магнитофон, расшифровывал и давал Шостаковичу на подпись. Издать “Свидетельства” предполагалось по прошествии пятнадцати лет после смерти Шостаковича и только за границей. На русском языке книга не издана.
Мне приходится слышать разного рода претензии по части моего поведения. Но у меня своя точка зрения на то, что хорошо, что плохо. И я этот предмет не собираюсь обсуждать со всяким. Я настаиваю, что серьезный разговор может быть у меня только с человеком трудовым.
А то порхают кругом разные граждане, кудрявые и лысые. А также безбородые и бородатые. Без определенных профессий. Но с прокурорскими амбициями. Не всякий труд дает право человеку становиться в роль прокурора. Например, если ты всю жизнь разрабатывал проекты по созданию и усовершенствованию водородной бомбы, то вряд ли таким трудом следует гордиться. Получается грязноватый послужной список. Причастность к такому поразительному прогрессу в деле убийства должна была бы отпугивать приличных людей от поучений причастного. Но, как мы видим, не отпугивает. И даже придает этим поучениям дополнительную популярность. И пикантность. Что еще раз доказывает: не ладно у нас с критериями благородства и порядочности. Попросту говоря, сумасшедший дом.
Я отказываюсь говорить всерьез с сумасшедшими. Обсуждать с ними вопросы моего поведения. Я пишу музыку. Кто хочет слышать – услышит. В ней все сказано. Она не нуждается в исторических комментариях. Любые слова о музыке, в итоге, менее важны, чем сама музыка. Я с ужасом смотрю на людей, для которых комментарии к симфонии важнее, чем сама симфония. Главное для таких, чтоб было больше смелых слов. Самое настоящее извращение все это. Мне не нужны смелые слова по поводу музыки. А нужна смелая музыка. Правдивая. Надо писать так, чтобы возможно больше количество порядочных граждан своей и других стран его музыку узнало и приняло. И через это поняло его страну и его народ. В этом я вижу смысл сочинения музыки.
С глухими говорить не о чем. Обращаюсь только к тем, кто слышит. И только с ними собираюсь вести разговор. Только с теми, для кого музыка важнее слов. Говорят, музыка понятна без перевода. Я хочу в это верить. Пока что я вижу: музыка нуждается во множестве сопроводительных слов, чтоб ее поняли в другой стране.
Чаще всего глупые вопросы задают мне, когда я выезжаю заграницу. Это одна из главных причин, по которой я не люблю ездить. Может быть, главная. Любой наглый приставала может сказать тебе все, что взбредет в голову. И спросить обо всем. Еще вчера он не слышал твоей фамилии, этот идиот. Сегодня, поскольку ему надо зарабатывать, он кое-как произносит твою фамилию. Но чем ты занимаешься, не знает совершенно. И не интересует это его.
Журналисты – это, конечно, не весь народ. Но покажи мне, какая у тебя в руках газета, и я скажу, что у тебя в мозгах. Типичный западный журналист – человек неграмотный, нахальный и глубоко циничный. Ему нужно сегодня немного заработать, а на остальное – глубоко наплевать. Каждый из таких наглецов хочет, чтоб я “смело” ответил на его дурацкие вопросы. И они очень обижаются, эти господа, когда слышат не то, что им хотелось бы. А почему я должен им отвечать? Кто они такие? Почему я должен ставить под удар свою жизнь? И это – для удовлетворения праздного любопытства человека, которому на меня наплевать? Он вчера обо мне ничего не слышал, а завтра забудет мое имя. Какое право он имеет на мою откровенность? На мое доверие? Я ничего о нем не знаю. И я ведь не пристаю к нему с вопросами, правда? Хотя он-то мог бы ответить на любой мой вопрос без всякого риска для своей персоны.
Все это возмутительно и оскорбительно. Самое главное – такие оскорбления стали делом обыденным. И никто не задумывается, как все это нелепо. Обо мне судят на основе того, что я сказал или не сказал мистеру Смиту или Джонсу. Разве это не нелепость? Газетные статьи должны служить оценке их авторов. Пускай по ним судят о мистере Смите и Джонсе. А у меня есть музыка. И довольно много музыки. Обо мне пусть судят по моей музыке. Я не намерен её комментировать.
Я не намерен рассказывать, как, где и при каких обстоятельствах меня окатил “потный вал вдохновения”. Пусть поэты делятся с доверчивой публикой подобными воспоминаниями. Все равно все врут. А я и не поэт к тому же. Я о вдохновении говорить вообще не люблю. Подозрительно как-то это слово звучит.
Один раз только, помнится, о вдохновении пришлось говорить. Это была, так сказать, вынужденная посадка. Когда со Сталиным разговаривал. Я тогда Сталину пытался разъяснить, как процесс сочинения музыки протекает. С какой, так сказать, скоростью. Вижу, не понимает Сталин этого, явно не понимает. Пришлось на вдохновение разговор перевести. “Да вот,- говорю – это, конечно, вдохновение. От вдохновения, конечно, зависит, с какой скоростью пишешь”. И прочее такое. В общем, вдохновением отговорился. О вдохновении только в том случае не стыдно говорить, когда отбрехаться надо. А так, конечно, следует помалкивать.
И комментировать свои партитуры по тактам я тоже не собираюсь. Вот и у Стравинского это не очень интересно выходит. Что из того, если я сообщу, что в моей 8-ой Симфонии, в ее 4 части в 4-ой по счету вариации в тактах с 4-го по 6-ой тема гармонизуется цепью из семи нисходящих минорных трезвучий? Кому это интересно? Надо ли показывать, что ты эрудит в области собственного творчества? Пример Стравинского меня не убеждает. Анализ собственных опусов он лучше бы оставил музыковедам. Лично я предпочел бы, чтоб Стравинский подробнее рассказал о людях, с которыми встречался, о своем детстве. О детстве у Стравинского интересно рассказано. По-моему, это лучшие страницы его воспоминаний.
Хотя обыкновенно очень противно бывает читать: “Родился я в семье, где все любили музыку. Папа играл на гармошке. Мама тоже постоянно что-то насвистывала”. И т.д., и т.п. Тоска.
Стравинский отвечал на вопросы журналистов действительно лихо. Как будто казак на джигитовке и рубке лозы. Но, во-первых, все равно ведь говорил неправду. Для правды все это слишком эффектно. Правда никогда не бывает такой занимательной. (Соллертинский как-то раз сказал мне, что в русском языке к слову “правда” нет рифмы. Не знаю, правда ли это. Но действительно, правда и реклама мало друг с другом совместимы.) А во-вторых – Стравинский и я – все-таки совсем разные люди. Мне с ним даже говорить трудновато было. Мы как с двух разных планет.
Я до сих пор с ужасом вспоминаю свою первую поездку в США. Ни за что бы не поехал, если б не сильнейший нажим всех начальников, начиная со Сталина. Иногда мне говорят, что это, наверно, была интересная поездка. Дескать, я на фото улыбаюсь. А это улыбка смертника. И чувствовал себя смертником. Отвечал на все идиотские вопросы, как во сне. Думал – вернусь – и конец.
Сталин любил так американцев за нос водить. Показать им человека – вот он, живой, здоровый – а потом уничтожить. Да зачем же водить за нос. Это слишком сильно сказано. Он обманывал только тех, кто хотел быть обманутыми. Ведь американцам на нас наплевать. Для того чтобы жить и спать спокойно, они чему хочешь поверят.
Как раз в то время, в 1949 г. по приказу Сталина арестовали еврейского поэта Ицика Фефера. В Москву приехал Поль Робсон. И вот, посреди банкетов и пиров, вспомнил он, что был у него такой друг Ицик. Где Ицик? “Будет тебе Ицик”,- решил Сталин. И выкинул свой очередной подлый трюк. Ицик Фефер приглашает П.Робсона отужинать с ним в самом шикарном ресторане Москвы. Робсон приезжает. Робсона ведут в отдельный кабинет ресторана. Там, действительно, роскошный стол – выпивка и закуска. А за столом, действительно, сидит Фефер. И с ним еще несколько незнакомых мужчин. Фефер был худой, бледный. Говорил мало. Зато Робсон хорошо поел, выпил, и друга заодно увидел. После окончания товарищеского ужина незнакомые Робсону товарищи доставили Фефера обратно в тюрьму. Там с ним вскорости и было покончено.
А Робсон поехал обратно в Америку. В Америке он рассказал всем, что слухи об аресте и гибели Фефера – ерунда и клевета. Он, Робсон, лично с Фефером выпивал.
И, действительно, так ведь гораздо спокойнее жить. Удобней думать, что твой друг – богатый и свободный человек. И может угостить тебя роскошным ужином. Думать же, что твой приятель в тюрьме – неприятно. Тогда надо заступаться. Надо писать письма, протесты. А напишешь такой протест – в следующий раз в гости не пригласят. Да еще на весь мир ославят. В газетах и по радио грязью обольют. Объявят, что ты реакционер. Нет, гораздо проще поверить тому, что видишь. А видишь ведь всегда то, что хочешь увидеть. Психология курицы. Курица, когда клюет, видит одно только зерно. А больше ничего не видит. Вот она и клюет так – зернышко за зернышком. Пока ей голову не свернут.
Сталин эту курицыну психологию понимал превосходно. Уж он-то знал, как с курицами обращаться. Вот они все и клевали у него из рук. Об этом, как я понимаю, не очень-то любят сейчас на Западе вспоминать. Ведь они всегда правы, великие западные гуманисты, любители правдивой литературы и искусства. Это мы всегда виноваты.
Это у меня спрашивают: “Почему подписал то-то и то-то?” А у Андрэ Мальро кто-нибудь спросил, почему он прославлял строительство Беломорканала, на котором тысячи и тысячи людей погибли? Нет, никто не спросил. А жаль. Надо бы почаще спрашивать. Этим господам ведь никто не может помешать ответить. Их жизни ничто не угрожало. И не угрожает.
А Лион Фейхтвангер, знаменитый гуманист? С отвращением прочитал я в свое время его книжонку “Москва 1937 г.” Только она вышла в свет, как Сталин велел её тут же перевести. И издать огромными тиражами. Я читал, а сердце у меня сжималось от горечи и презрения к прославленному гуманисту. Фейхтвангер написал, что Сталин – человек простой. И полный добродушия. Когда-то я думал, что Фейхтвангера тоже вокруг пальца обвели. А потом как-то перечитал книжку. Вижу – нет, просто знаменитый гуманист наврал. “То, что я понял, прекрасно”, так Фейхтвангер заявил. А понял он, что политические процессы в Москве были необходимы. И прекрасны. По Фейхтвангеру, политические процессы, оказывается, способствовали демократизации. Нет, чтобы такое написать, мало быть дураком. Надо быть еще и подлецом. И, конечно, прославленным гуманистом.
А не менее прославленный гуманист Бернард Шоу?
Это ведь он сказал: “Вы меня не испугаете словом “диктатор”. Конечно, зачем Бернарду Шоу пугаться. Ведь в Англии, где он жил, диктаторов не было. Последним диктатором у них, кажется, был Кромвель. Шоу к диктатору просто так приехал, в гости. Это Шоу, вернувшись из Советского Союза, заявил: “Голод в России? Чепуха. Нигде меня так хорошо не кормили, как в Москве”. А в это самое время голодали миллионы. И несколько миллионов крестьян умерло от голода. И ничего, все восхищаются Шоу, – какой он смелый да остроумный. У меня другое мнение на этот счет. Хотя меня и заставили в свое время послать Шоу партитуру 7-ой симфонии. Как прославленному гуманисту.
А еще более прославленный гуманист Ромен Роллан? Тошно и вспоминать. Мне еще и потому особенно тошно, что некоторые из этих прославленных гуманистов хвалили мою музыку. Тот же Шоу. Или Роллан, например. Ему очень понравилась “Леди Макбет”. И должна была состояться моя встреча с этим прославленным гуманистом из славной плеяды любителей правдивой литературы и не менее правдивой музыки. Но я не пошёл. Сказал, что болен.
Когда-то я терзался вопросом: почему? Почему эти люди врут всему миру? Почему прославленным гуманистам наплевать на нас?
А потом как-то сразу успокоился. Наплевать – так наплевать. И черт с ними. Им ведь их уютная жизнь прославленных гуманистов дороже всего на свете. Значит, не надо их и принимать всерьез. И считаться с ними. Они для меня сразу стали вроде детей. Но только гадких детей. Чертовская разница – как говорил Пушкин.
Однажды у меня в гостях была молодая американка. Все было хорошо, чинно. Разговор шел о музыке и природе. И о других тому подобных возвышенных вещах. Мило, мило. Вдруг эта американка заволновалась. Руками размахивает, чуть не на стол прыгает. Кричит: “Флай, флай!” Это, оказывается, в комнату муха влетела. И моя высокоуважаемая гостья этой мухи испугалась. А мне не под силу за мухой гоняться. Так и распрощались мы с милейшей американской гостьей. Для этих людей муха – непонятное животное из другого мира. А на меня они смотрят вообще как на динозавра.
Хорошо, пускай я динозавр. Так что же вы, уважаемые господа, беретесь рассуждать о динозаврах? Тогда не рассуждайте и обо мне. Потому что в моих правах и обязанностях вы понимаете еще и меньше чем в правах и обязанностях динозавра. Когда-то, во время войны, показывали у нас голливудский фильм “Миссия в Москву”. Авторы думали, что это – драма. А мы ее приняли как комедию. Я редко так во время войны смеялся, как на этом фильме. Флай, флай.
Немирович-Данченко один раз, когда был в хорошем настроении, рассказал мне про голливудский фильм на сюжет “Анны Карениной”. Фильм этот скроили чуть ли не у него на глазах, когда он был в Америке. Во всяком случае, он читал сценарий. В американском сценарии Вронский овладевал Анной в каком-то трактире. Вронский, видите ли, воспользовался тем, что его пижама и шлепанцы оказались в комнате Анны. Когда фильм был готов (в нем играла, кажется, Грета Гарбо), оказалось, что у “А.Карениной” хороший конец: Каренин умер, Вронский и Анна соединяются. Разве это не флай? Конечно, флай.
Понятно, все это смешно. Просто смешно. Подумаешь: мухи, комары, тараканы. Ну, не хотят люди утруждать своих мозгов. И все тут. Ведь от этого никому не жарко, ни холодно. Ну, подумаешь, некоторое легкомыслие. Порханье, так сказать, флай. С этим можно и согласиться. Пускай порхают. Но ведь рожденный ползать летать не может, как компетентно заявил бы буревестник революции М.Горький. Соответственно и наоборот.
Приучишься так вот порхать, потом на нашу грешную землю уже возвращаться не хочется. А сверху все выглядит дивно и прекрасно. И даже Беломорканал – куда как хорош и удивителен.
Кто просил Андрэ Мальро выйти на трибуну и крикнуть: “Убийцам и вредителям вы оказали доверие и спасли многих?”. Кто тянул его за язык? Конечно, я знаю, что целая бригада многоуважаемых шкафов сочинила коллективную книгу, восхвалявшую этот самый Беломорканал. У них если оправдание и есть, то только одно. Сегодня они по этому Беломорканалу туристами ехали, а завтра любой из них спокойно мог уже там лопатой ворочать.
И то, Ильф и Петров отказались от участия в этом позорном “литературно-лагерном” сборнике. Отговорились тем, что “мало знают” о жизни заключенных. Повезло Ильфу и Петрову. Так они и не узнали об этом самом быте – так как узнали сотни других писателей и поэтов. Зато Ильф и Петров с этой “увеселительно-ознакомительной” поездки привезли остроту. Писателей и поэтов встречал духовой оркестр, состоявший из заключенных. Это были, как писателям и поэтам сказали, уголовники. Их, дескать, осудили за убийство на почве ревности. Ильф посмотрел на усердных оркестрантов. Вспомнил про знаменитые русские роговые оркестры. И пробурчал: “Оркестр рогоносцев”. Это смешно? Не знаю. Это, скорее, нервный смех: потому что люди чувствовали свое бессилие. И усмехались. Но совсем не смешно, когда слышишь, как Генри Уоллес восторгался любовью к музыке начальника колымских лагерей. А ведь он хотел быть президентом США.
Не смешно было, когда мне рассказывали, как иностранные гости подвели под монастырь Ахматову и Зощенко. Ахматова много раз оказывалась на краю гибели. Расстреляли Гумилева. Сына отправили на многие годы в лагерь. Пунин так и погиб в лагере. Почти все время Ахматову не печатали, долгие годы. То, что печатают сейчас – может быть, 1/3 написанного. Первый из “ждановских ударов” приняли на себя Зощенко и Ахматова. Что могло за всем этим последовать – объяснять не надо. И вот – вызвали их на встречу с иностранными туристами. Какая-то там делегация сторонников чего-то. Или, наоборот, борцов против чего-то. Таких делегаций я множество навидался. У них одно на уме – нажраться побыстрее. О таких дружеских делегациях есть меткое стихотворение. Евтушенко: “Талоны на питание в руках растят друзей на всех материках”. Так вот, на встречу именно с такой делегацией заставили приехать Зощенко и Ахматову. Старый прием: чтобы показать, что они живы, здоровы и всем довольны. И премного благодарны партии и правительству. А “друзья” с талонами на руках не нашли ничего более умного, чем спросить: как Зощенко и Ахматова относятся к постановлению ЦК и речи товарища Жданова.
А Ахматову и Зощенко, для примера, называли там так, в речи этой самой знаменитой. О Зощенко Жданов выразился, что он беспринципный и бессовестный литературный хулиган. И что у Зощенко насквозь гнилая и растленная общественно-политическая и литературная физиономия. А про Ахматову Жданов сказал, что она отравляет сознание современной молодежи гнилым и тлетворным духом своей поэзии.
Ну как люди могут относиться к такому постановлению и такой речи? Разве это не садизм – спрашивать их об этом? Это все равно, что спросить человека, которому хулиган наплевал в лицо: “Как ты относишься к тому, что тебе наплевали в лицо? Нравится тебе это?” Но мало того. Спрашивают-то в присутствии того самого хулигана и бандита, который наплевал. И знают, что сами-то уедут, а жертва – останется. И придется ей с бандитом иметь дело.
Ахматова встала и заявила, что она считает совершенно правильными и речь товарища Жданова, и постановление. И, конечно, правильно поступила. Только так и можно было. Перед ней сидели чужие, бесстыдные люди. Что могла Ахматова им сказать? Что она считает сумасшедшим домом все, что ее окружает? Что она презирает и ненавидит и Жданова, и Сталина? Да, Ахматова могла сказать все это. Но тогда больше никто и никогда бы ее не увидел. “Друзья”, конечно, могли бы у себя дома, в тесном “дружеском” кругу, похвалиться такой сенсацией. Или даже в газетку репортаж тиснуть. А мы все стали бы бедней. Мы жили бы без Ахматовой. Без ее поздних замечательных стихов. Страна потеряла бы своего гения.
А Зощенко, как человек милый и наивный, решил, что эти люди действительно хотят что-то понять. Откровенно сказать все, что он думает, Зощенко, конечно, не мог. Это было бы самоубийством. Он пустился в какие-то объяснения. Сказал, что сначала не понял ни речи Жданова, ни постановления. Они ему показались несправедливыми. И он, Зощенко, написал об этом письмо Сталину. А потом стал размышлять. И тогда, дескать, многое в обвинениях против него показалось ему, Зощенко, напротив, справедливым.
Бедный Михаил Михайлович, какую ему плохую службу сослужило благородство. Он ведь думал, перед ним приличные люди.
“Приличные люди” похлопали и разошлись. (Ахматовой они, видите ли, не стали хлопать). А тяжело больного Зощенко в наказание стали морить голодом. У него опухли ноги, а ему не давали напечатать ни строчки. И он пытался заработать на жизнь сапожным ремеслом.
Мораль ясна. Никакой дружбы с прославленными гуманистами быть не может. Я с ними – на разных полюсах. Никому из них я не верю. Никто из них ничего хорошего мне не сделал. И я не признаю за ними права задавать мне вопросы. И нотации мне читать они не смеют. Я никогда не отвечал на их вопросы. И отвечать не буду.
За моими плечами – горький опыт моей серой и несчастной жизни. И я вовсе не радуюсь тому, что мои ученики переняли мой опыт. Но они тоже не верят прославленным гуманистам. Это плохо. Я был бы рад, если бы они нашли какого-нибудь прославленного гуманиста, с которым можно было бы поговорить при случае. Поговорить о братстве, равенстве, футбольном чемпионате Европы и тому подобных возвышенных вещах. Но не родился еще такой гуманист. То есть прохвостов – предостаточно. Но говорить с ними неохота: продадут за минимум в иностранной валюте. Или за банку черной икры.
Потому я испытываю печальное удовлетворение от того, что лучшие из учеников моих, видя грустный мой пример, от дружбы с гуманистами воздерживаются. Для того же, чтобы оказаться в одиночестве, настойчиво рекомендую приобрести радиоточку.
Не верьте гуманистам, граждане. Не верьте пророкам и светлым личностям. Обманут ни за грош. Делайте честно свое дело. Не обижайте людей, старайтесь им помочь. Не надо пытаться спасать сразу все человечество. Попробуйте сначала спасти хотя бы одного человека. Это гораздо труднее. Помочь одному человеку, это очень трудно. Это так невероятно трудно. Поэтому появляется соблазн спасти все человечество одновременно. А при этом, по пути, неизменно оказывается, что для спасения всего человечества нужно угробить всего только пару сот миллионов человек. Пустяки, разумеется.