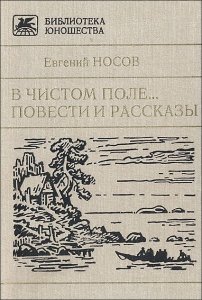
Когда поезд пришел в Москву, Васюкеев все еще богатырски храпел в пустом купе мягкого вагона. В новом касторовом пиджаке, нейлоновой сорочке и рыжих собачьих унтах, он лежал навзничь, сцепив на животе толстопалые руки в синих крапинках подкожного угля. Его светлорусые кудри рассыпались по стопке нераспечатанного постельного белья, запихнутого под голову.
Проводник долго дергал его за рукав, Васюкеев поводил бровями, жевал, издавая крепкими зубами морозный скрип, наконец разлепил глаза и мутно, непонимающе вгляделся в проводника.
— Подъем! Прибыли!
— Куда?
— Москва, браток. Белокаменная.
Васюкеев поворотился на бок, отдернул занавеску. За окном было голубо и солнечно, перрон многолюдно бурлил, пестрели цветы и яркие весенние шляпки встречающей публики.
— Вот это махнули! — зевнул Васюкеев, удивляясь тому, как поезд быстро домчал до столицы, и припоминая, как еще совсем недавно он залезал в вагон, набело заляпанный косой заполярной пургой, и как вот этот старикан проводник, пряча фонарь за полу казенной шинельки, горбился от снега в три погибели, разглядывая его, Васюкеева, билет в мягком вагоне.
Он садился в Воркуте и был озабоченно-деловит перед лицом провожавшей беременной жены Кати, которая все твердила, чтобы зря не пил и не сорил деньгами. Прощаясь с женой, Васюкеев стоял на подножке вагона, заслонив проход медвежьей шубой.
С багровым и мокрым от колючего снега лицом смотрел он вниз, на Катю, на ее вздернутый живот и кричал в пургу, в ветер:
— Ты, Кать, крепись тут. Я скоро! Мухой, говорю! Не поднимай тяжелого!
Ехал он в отпуск на Орловщину, но не просто прогуляться, отдохнуть от шахты, а по неотложному делу. Через два месяца ожидали они прибавления и, обсудив по-семейному, как им быть дальше (Катя тоже работала в заводоуправлении и не хотела терять место), порешили, что он поедет и заберет свою мать, которая жила в деревне под Кромами.
Хватит, потопила печи, потаскала чугуны,— жалел он мать дорогой, сидя в пустом купе и поглядывая на зимнюю тайгу, убегающую беспредельно в обе стороны.
Летящие вдоль насыпи завьюженные километры, мягкое постукивание колес, строгая чистота, никель и зеркала купе и толстый бумажник, давивший грудь сквозь нейлоновую рубашку, будили в нем спокойное, горделивое чувство своей собственной значимости, хозяина жизни и всех этих диких промерзлых пространств. Здесь, в Заполярье, он был нужным, почитаемым человеком.
Ему припомнилась голодная послевоенная безотцовщина, вросшая в землю сумеречно-дымная хата, рвань телогреек и косяковых ватных одеял, в которую они, четверо голопятых, вечно нестриженных Васюкеевых, кутались, вповалку укладываясь спать на полу. Вспомнилась клокотавшая выварка, ее кислая бражная вонь, и то, как мать, безгрудая, иконоликая от худобы и глубоко провалившихся глаз, всю ночь топталась возле выварки, а под утро разливала по бутылкам мутный и теплый самогон, который она, занавесив окна мешками, тайком гнала на хлеб и одежку. Один за другим Васюкеевы, недоучившиеся, кое-как проходив по пять-шесть зим в школу, подрастая, покидали деревню и по вербовкам разлетались кто куда. Лишь младший Алешка дотерпел до десятого класса и по всем правилам поступил в Московский университет. Учился он уже по третьему году, и вот уже три года мать жила в деревне одна.
«Сколько же ей теперь?» — вспоминал Васюкеев, напрягаясь подсчитать материны годы. Но с горечью и укоризной закусил губу, поймав себя на том, что дажене знает, когда она, в каком году, в каком дне-месяце появилась на свет.
Растравив себя воспоминаниями, нахлынувшими сыновними чувствами и не вынеся одиночества, Васюкеев отправился на люди, очутился в вагоне-ресторане и больше не выходил оттуда, по-родственному зазывая за свой обильный стол разную подорожную братию.
— Давай, земляк, подсаживайся!—делал он широкий жест рукой, пьяно мигая отяжелевшими веками.— В отпуск еду.
За матерью. Мать у меня, понимаешь… Ты знаешь, какая у меня мать? Во-о, понял? — Васюкеев отставлял от огромного кулака большой палец и показывал его всему застолью.— Душу за нее выну, понял?
Когда проводник растолкал его в Москве, поезд уже был пуст и состав собирались отвести на запасный путь.
Васюкеев натянул порыжелую медвежью шубу и оглядел заваленный закусками столик. Среди снеди стояла початая бутылка коньяку, про которую он даже и не помнил, когда и как она вместе с закуской появилась в купе. Васюкеев плеснул коньяку в ладонь, умыл заспанное лицо и вытерся подкладкой шапки.
— Закуси тут за меня,— сказал он проводнику, стащил с полки чемодан и выскочил на перрон.
Через полчаса Васюкеев был уже на Курском вокзале. Он сдал вещи на хранение и тут же, на площади, узнал в справочной будке, как ему разыскать брата Алексея. В Москве Васюкеев бывал не впервой, но уверенно чувствовал себя только на вокзалах и в дорожных ресторанах, да еще в метро, которое напоминало ему родную шахту,— ценил в нем хорошую вентиляцию и строгий график на рельсах.
Безо всякой путаницы Васюкеев добрался в метро До университета и сразу, выйдя на поверхность, увидел его соборно-строгую громаду.
«Куда затесался!» — подумал он о брате, чувствуя, как трудно ему задирать свинцовую после попойки голову, чтобы разглядеть вознесенный в небо золотой шпиль.
Он не сразу разыскал вход в здание, долго обмерял его то справа, то слева, широко мельтеша унтами, наконец, робея перед строгостью мрамора и тяжелых дверей храма науки, вошел вслед за какими-то черномазыми девками в просторный вестибюль. Черномазые девки в длинных до пола цыганских юбках, поводя синими белками, заинтересованно косились на его меховую одежду-обужу, и он, польщенный вниманием, подошел к ним и спросил озабоченно:
— Извиняюсь. Брат у меня тут. Алексей Васюкеев.
Девки широко, толстогубо заулыбались, блестя крупными фасолинами зубов, и одна из них, кивая, переспросила:
— Алекс?
— Ага! — обрадовался Васюкеев.— Алексей Ильич.
Одна из них достала из папки карандаш и блокнотик и приготовилась записать:
— Алекс Басюкееф?
— Да, да! Брательник я ему, понимаешь? Родственник.
— О, карашо! Один момэнт, товаришч.
Девки заулыбались, вошли в лифт, и та, что разговаривала с Васюкеевым, еще раз сказала ему «карашо» и поводила в воздухе узенькой синей ладошкой.
Ожидая результата, Васюкеев топтался у поминутно хлопающих выходных дверей, испытывая неловкость от своего здесь присутствия и нечаянной встречи с заморскими девчатами, в то же время мысленно примеряя их на свой вкус. Он не чувствовал к ним никакого мужского интереса, а только удивлялся, как непонятной и неизвестно для чего существующей диковине.
«Черные, а тоже бедовые,— думал он снисходительно.— Шныряют по лифтам, как дома».
Брата он не видел лет пять, еще с тех пор, как наведывался домой в отпуск, помнил его маломерком, по-домашнему, обыденно, в ватнике и резиновых сапогах, и никак не мог представить его здесь, среди мрамора, но когда из лифта вышел рослый плечистый парень в куцем волохато-зеленом пижонском пальто, без шапки, Васюкеев сразу радостно встрепенулся. Алексей еще издали, расплываясь знакомой васюкеевской редкозубой улыбкой, закраснев чистым широким лицом, твердо прошел через вестибюль, протягивая руку, и совсем просто сказал:
— Привет. Откуда ты?
— Да вот зашел. Домой, понимаешь, еду.— Васюкеев переступил унтами.
— В отпуск?
— Ага! Дай, думаю, съезжу. Значит, тут ты…
— Как видишь.
— Солидно!
— Да ничего, жить можно.
Они еще раз оглядели друг друга и рассмеялись. Алексей дружески толкнул брата в плечо, тот хохотнул и полез в карман за папиросами.
— Пойдем, покажу тебе свою комнату,— предложил Алексей.
— Да не…
— Пошли, чудак! На самый верх свожу. Вся Москва видна, как с самолета.
— Эта самая… с тобой, что ли, учится? — попытался перевести разговор Васюкеев.
— Сембелл? Нет, не со мной, но я ее знаю. Из Камеруна она.
— Слыхал такой.— Васюкеев мял пальцами папиросу, не решаясь ее зажечь.
— Так поднимемся?
— Да не. Как-нибудь в другой раз.
— Деревня! — усмехнулся Алексей.
— Пошли, проводишь. Мне вечером на поезд.
Солнце по-весеннему яростно сияло меж кудлатых облаков, небо, подпираемое шпилем университета, казалось особенно высоким. Асфальт на проездах ослепительно блестел вешней бегучей водой. С карниза, откуда-то с огромной высоты, сорвалась сосулька, раскатисто, со стеклянным звоном жахнулась о дымящийся просыхающий тротуар.
— Куда потопаем? — Алексей зажмурился от солнца.— Хочешь, покажу Третьяковку?
— Погоди.— Шалый ветер, который не чувствовался там, внизу, в старой Москве, не давал Васюкееву прикурить, и он торопливо жег спички.— Погоди. Поговорить надо…— И, увидев такси, замахал шапкой.
Они поехали в центр.
— Где у вас тут хороший ресторан? — спрашивал Васюкеев, поглядывая на шумную сутолоку улиц.
— А тебе какой надо? С музыкой?
— Ну… Чтоб посидеть… Поговорить, как брат с братом.
— Этого добра хватает.
— Ну, давай, Леха, вези… Посидим, потолкуем.
Выбрали «Берлин». Ресторан Васюкееву понравился: бархатные диваны, фонтан в зале, лепные девицы под потолком. Заказали обед, а для начала — бутылку коньяку, икры, осетрины, каких-то салатов с розовым крабьим мясом, свежих огурцов, которые Васюкеев попросил не резать, а подать целиком. Старый чинный официант вскинул косматую бровь на Васюкеева, на его заветренное до глянцевого блеска лицо, понимающе кивнул седым стриженым ершиком: «сделаем».
И пока официант подавал на стол, Васюкеев нетерпеливо покряхтывал, будто у него ломило поясницу. Лицо его было страдальчески озабочено.
— Ну, давай, Леха.— Он отодвинул игрушечные в его руках коньячные рюмки и разлил бутылку по пивным фужерам.— Давай по лампадику.
Чокнулись, Васюкеев с дрожью старательно выцедил весь фужер, Алексей отпил половину.
— Ты чего? — озабоченно, понизив голос, спросил Васюкеев.— Не жалей, еще возьмем.
— Не могу сразу.
— Ерунда! Ну ладно, давай рубай.— Он захрустел огурцом, откусывая прямо от цельного, из кулака.— А помнишь, как мы с тобой калачики за амбаром лопали?
— Было.— Кивнул Алексей, намазывая икру на булочный ломтик.
— Проснемся, а в хате хрен ночевал: ни хлеба, ни… И давай эти самые калачики теребить. А они небось все курами пообгажены.— Васюкеев сипло, безголосо захохотал.— Во жизня была, а? Как вспомню!.. А то еще бздюку рубали.
— Паслен по-научному,— усмехнулся Алексей.
— Не знаю, как там по-научному. А только потом за ушами скребло.— Васюкеев разлил остатки коньяка.— А теперь, гляди, что едим, а? Как Черчилли какие. Брехня! Теперь выкарабкались! Иван с Илюхой пишут: тоже хорошо живут. Иван «Волгу» купил.
— Слыхал.
— Вот только ты еще не при деле. Долго еще?
— Два года осталось.
— М-да… Стипендии сколько платят? Полста дают?
— Хватил!
— Ну ты давай рубай.— Васюкеев с сочувствием посмотрел на брата.— Харчишься, поди, неважнецки?
— Жив, как видишь.
— Пальто за что справил?
— Летом на целине заработал.
— Ну ладно, я тебе подкину маленько. А вообще зря ты по этой ботанике пошел.
— Почему?
— Пшик один.
— У нас геоботаника. Разведка ископаемых.
— Ну ладно, тебе виднее… Вот только с матерью надо что-то делать. Ты бываешь в деревне, как она там?
— Да как… Крышу ей перекрыли. Иван в колхоз писал, чтоб помогли. Садочек развела. Копается помаленьку.
Васюкеев помолчал, поводил вилкой по скатерти.
— Хочу, понимаешь, ее к себе забрать. Хватит ей там сидеть. Как думаешь?
— Не знаю… Как она.
— А что она? Хату продам. Деньги ей на книжку положу. Пусть свои у нее водятся. Квартира у меня хорошая: ванна, все такое. Печку не топить, воду не таскать. Гастроном прямо подо мною. Вот Катюха скоро родит. Пусть с внуком копается, стариковское дело…
— Ее Илья к себе зовет. У них двойня родилась.
— Илья обойдется. У него жена не работает.
— Съезди, поговори.
— А чего говорить. Заберу, и все.
Подали клецки по-немецки с копченостями и по курице. Васюкеев попросил еще бутылку коньяку.
— А не много ли? — покосился на бутылку Алексей.
— Ерунда! — усмехнулся Васюкеев.— Посидим, поговорим…
— Я больше не буду.
— Эх ты, интеллигенция! — Васюкеев долгим засосом, как ситро, вытянул двухсотграммовый фужер и понюхал огурец.— Эта твоя ботаника доведет.
Вторую бутылку он выпил один, покраснел до багровости, на бровях заблестела испарина — захмелел. Он курил одну за другой папиросы и стряхивал пепел на нетронутую курицу.
— Ты давай тоже ешь,— посоветовал Алексей.— Да давай выбираться отсюда. Лучше в Третьяковку сходим. Ведь не был же ни разу.
— Брось, Леха! — поморщился Васюкеев.— Что ты мне со своей Третьяковкой? Я, может, поговорить с тобой хочу, понял?
— Понял,— усмехнулся Алексей.
— А Иван — трепло. Расхвастался. Подумаешь, машину купил! Да я хоть завтра могу!
— Чего ж не купишь?
— Дура ты, Леха. Куда я на ней? Это тебе не Иванов Донбасс. У нас не дюже раскатаешься — кочки да болота. Вот поеду мать заберу. Не знаешь ты, Леха, какая у нас мать с тобою. Ни черта ты не знаешь…
— Отчего это я не знаю?
— Сопляк ты еще, понял?
— Ладно тебе кобениться.— Алексей отвернулся и принялся смотреть в окно.
— А Илюшка зря мылится. Он матери ни рубля не послал. Во ему мать, понял? — Васюкеев свернул кукиш.— У него баба дома сидит, женю наела. Пока он собирается из своего Братска, а я уже еду.
— Смотрите, а то еще подеретесь,— усмехнулся Алексей.— И матери достанется.
— А что? И морду набью. Илюшке? Жмоту этому? Набью! Подумаешь, крышу перекрыл! Осчастливил… Да я за мать душу хоть кому выну. Понял?
Васюкеев поднялся и, косолапо шаркая унтами по красной ковровой дорожке, пошел искать туалет.
Возвращаясь, он остановился возле фонтана. Там в кругу любопытных какой-то шкет с усиками пытался сачком изловить живых карпов, увертливо сновавших в мелкой воде.
Под хохот и визг девиц шкет, все больше конфузясь и зверея, шлепал по воде сачком, норовя накрыть рыбу. Но карпы успевали вышмыгнуть.
— А ну дай я! — Васюкеев бесцеремонно потянул к себе сачок. Парень с усиками было закочевряжился, заупирался, но подвыпившие мужчины поддержали Васюкеева.
— Отдай, отдай. Пусть сибирячок попробует.
Васюкеев, спрятав за спину сачок, не спеша побрел вокруг фонтана, давая карпам успокоиться и собраться в стадо.
— Ты давай лови,— презрительно проворчал шкет.
— Тихо! Тихо, понял? — Васюкеев выставил перед физиономией шкета растопыренную ладонь.— Не возникай!— И в тот же миг сделал выпад, воткнул сачок ребром в дно фонтана. Вода закипела. Васюкеев выхватил сачок, провисший под тяжестью двух рыбин. Оркестр заиграл туш. В толпе и за столиками захлопали. Васюкеев поднял сачок над головой, чтобы всем были видны его трофеи. Карпы трепыхались в сетке, обдавая соседние столики водяными брызгами.
— Прикажете зажарить? — спросил подскочивший официант.
— Зажарь, папаша!
— Одного? Двух?
— Давай обоих.
Вскоре за сдвинутыми столиками Васюкеев угощал жареными карпами и коньяком почитателей своего рыбацкого таланта. Карпы, окрапленные зеленым крошевом лука, были поданы на метровом подносе в окружении румяно зажаренной картошки. Время от времени Васюкеев передавал бутылку коньяку в оркестр и заказывал играть, что взбредет в голову.
— Домой, понимаешь, еду,— говорил он капельмейстеру.— Мать у меня там. Знаешь, какая у меня мать? У-у! — Васюкеев мотал головой и скрипел зубами.— А ну давай сыграй. «Вечера» давай, «Вечера». Подмосковные.
Заказав через швейцара такси, Алексей наконец выдворил Васюкеева на улицу и усадил в машину.
— К ГУМу давай,— сказал Васюкеев шоферу.
Поехали к ГУМу.
В универмаг поспели перед самым закрытием. Купив с ходу рюкзак, Васюкеев в распахнутой шубе метался по этажам и, наваливаясь на прилавок, манил к себе пальцами молоденьких продавщиц:
— Подай, люба, вон ту шалку, с махрами которая. Он разворачивал шаль и нетерпеливо бросал:
— Где касса?
Потом под звонки и предупредительное мигание гумовских люстр купил матери сапожки на меху, плащ-болонью, хотел еще что-то прихватить, но секции начали закрываться, и его попросили сойти вниз. В гастрономическом отделе он успел купить яблок и банок болгарского конфитюра и, ссыпав все это в рюкзак, помахал на себя полами шубы.
— Уф!.. Давай, Леха, поехали!
Алексей пошел забирать чемодан и компостировать билет, Васюкеев же надумал бриться и из-за этого чуть было не опоздал на поезд. Едва только успели запихнуть вещи на площадку первого попавшегося вагона, как поезд тронулся.
— Ну, Леха, ты тут давай шуруй, учись! — крикнул с подножки Васюкеев, оставляя на перроне конфетный запах одеколона.— Пока!
Замельтешили красные и фиолетовые путевые фонари, потом над Яузой промелькнула древняя церквушка, слабо озаренная отсветом городских огней, и потянулась скучная неразбериха складов, автобаз и серых пригородных домишек. Васюкеев докурил папиросу, стрельнул окурком за дверь под колеса и пошел искать свой вагон.
Ему следовало идти в головные вагоны, но он побрел не в ту сторону и долго открывал и закрывал за собой тамбура, шел, толкаясь и задевая рюкзаком за боковые дверные ручки купе, по пустым коридорам ночного поезда, не встречая ни единой живой души. Лишь в самом конце он наткнулся в тамбуре на молодых солдат. Солдаты, без поясов, в расстегнутых гимнастерках, дымили папиросками.
— Какой вагон, служивые? — спросил Васюкеев, протискиваясь в задымленный до синевы тамбур.
— Надцатый! А тебе какой? Васюкеев не ответил и полез дальше.
Этот самый «надцатый» был заселен довольно густо. Ехал всякий тульский, орловский, курский и прочий этого направления неказистый люд, экономивший на сидячем билете. В полутьме отсеков на охряных лавках рядком сидели постнолицые, закутанные платками бабенки и меднокожие небритые мужики. На верхних багажных полках теснились мешки, чувалы, перевязанные веревками и ремнями самодельные рундуки, вздутые чемоданы или же торчали ноги сморенного дорожной сутолокой ездока, решившего растянуться вопреки сидячему билету, на дурнинку. Крепко шибало неистребимым духом общего вагона: сырыми ватниками, взопревшими сапогами, кислым кизячным дымом цигарок, которые смолят тут же, в «рукав», несмотря на сварливые запреты проводницы. Ради этих двух-трех хвостовых третьеклассных вагонов и мчался в ночи южный скорый, вихляясь на путях длинным пустым телом с пустыми, безлюдными окнами купе, до которых еще не дошла курортная лихорадка.
Васюкеев не стал возвращаться в свое спальное купе, ехать было ему теперь не долго, не более пяти часов, и он, отыскав свободную лавку, сбросил на нее рюкзак и стащил душную шубу.
Наверху, выставив обтянутые острые коленки, спал голенастый солдат, похожий на зеленого кузнечика. Васюкеев, обвыкаясь, некоторое время наблюдал, как дрожали от качки солдатские коленки, потом перевел взгляд вниз, где в полутьме нижней полки ехала какая-то маленькая старушка, крест-накрест спеленатая под мышками толстой шерстяной шалью. Старушка сидела в терпеливой неподвижности, сложив руки в подол длинной ватной одежки. На ногах у нее были черные валенки, которые, не доставая до пола, торчали, как у куклы, чуть вперед, обнажая подшитые побелевшей дратвой подошевки, на одной из которых прилепилась блескучая обертка от вокзального эскимо. Нависшая шаль скрывала ее лицо, торчал только сухой морщинистый подбородок, но и по нему Васюкеев догадался, что старушка была ветхая, древняя, чуть живая. Ему показалось, что она спит, но, приглядевшись, приметил, как под шалью, в темной глубине шалашика, взмелькивала какая-то живинка: старушка наблюдала за Васюкеевым.
— Жива ай нет? — спросил он, наклоняясь и заглядывая под шаль. В нем еще бродило хмельное желание задеть кого-нибудь, побалагурить.
— Жива покудова,— отозвалась каким-то далеким голосом старушка.
— Чего не спишь? Добро бережешь?
— Какое у меня добро? Шило да мыло…
— Тогда ложись да спи. Лавка порожняя.
— Опрокинусь да и просплю станцею-то.
— А какая твоя станция?
— До Орла мне. Да там еще до Ливен.
— Ха! Землячка, выходит,— оживился Васюкеев.— Я тоже орловский. Давай ложись, я покараулю.
— Да кто ж тебя знает…
— Боишься, обкраду? — Васюкеев засмеялся.
— Выпимши ты. Самого укачает.
— Это верно, выпил,— кивнул растрепанным чубом Васюкеев.— Домой, понимаешь, еду. Мать у меня там. Вроде тебя. Помоложе, конечно, а тоже уже старенькая. Вот хочу забрать ее к себе.
— Далече забирать-то?
— На Севере я. Воркута, город такой. Ну а она в деревне. Чугунки-горшки всякие. Зачем ей это, когда у меня полный ажур. Живу — во! От души, понимаешь?
— Детки есть?
— Об чем разговор! Во какой Гагарин растет!
— Один маленький-то?
— К маю еще один космонавт будет. За нами не заржавеет. Можно и третьего настрогать… Не в это все упирается. Вот мать заберу, тогда полный ажур будет. Мы с Катюхой вкалывать на молочишко, а бабка с внуками, как водится. А то бабка без пользы теперь. Одна обитает. Садочек завела со скуки — кому это нужно? Верно ай нет?
Васюкеев, довольный своей рассудительностью, посмотрел в темноту, под полку, ожидая, что она скажет, но старушка не отозвалась, а только послышался ее тихий вздох. Васюкеев расчувствовался, полез в рюкзак и выбрал самое большое румяное яблоко.
— На-ка, погрызи маленько.
— Чего удумал. Нечем мне кусать. Напоказ нетути.
— Сколько годов-то?
— Да зажилась, зажилась,— спокойно ответила старушка.— По пачпорту девяносто второго года я. А так, господь знает, кодышняя.
— А у тебя и паспорт есть?
— Мне-то он без надобности, да в городе без него жить не дают.
— В городе, стало быть, прописана?
— Кизеле. Может, слыхал: на Урале Кизел-то. Сын у меня там, Петя. На заводе мастером.
— С Урала едешь?
— Да нет. Зачем с Урала… С Череповца еду, за Москвой который.
— А говоришь, в Кизеле прописана.
— Прописана-то в Кизеле. А жила у Степана, в Череповцу. Дак я и в Череповцу допрежь была прописанная. Это до того, как в Кизеле. А опосля Череповца еще и в Туймазах жила, у дочки, у Надей. Глянуть, дак у меня весь пачпорт в печатках. А самая последняя печатка в Кизеле поставлена. А еду-то я, чтоб тебе понять, не из Кизела, а с Череповцу. От Степана, стало быть.
— И сама небось запуталась! — зареготал Васюкеев.
— Да чего путать. Я те дороги зажмурючись сыщу. По нескольку разов проезжала. Дети у меня там. Петр, который мастером-то, тот в Кизеле. А в Череповцу Степа, меньшенький. Инженером он по литейному. А в Туймазах дочка
Надея. Та по нефти. Лабо… лаболан… и не выговорю ее звания.
— Лаборантка, что ли?
— Во-во. Так-так. Теперь ее там нетути, в Туймазах-то. Выехала. Далеко она теперь. А то еще Николай сын. У того, правда, не жила. Тот тоже далече, за границей аж. В Египту… Это которые живые. А которые побиты, так то Митрий и Алексей, самые первые от рождения.
— Катаешься, значит.
— Да ужо укаталася,— вздохнула старушка.
— А у меня тоже браты к себе мамашу зовут. Да только я им не дам, к себе заберу.— Васюкеев подтянул чемодан, достал семужий балык и бутылку пятидесятиградусной «Северной водки».— Давай, мать, позанимаемся, раз мы земляки с тобой. Я тоже свою покатаю, покажу свет белый. А то сидит там…
Он ополоснул водкой кем-то забытый на столике стакан, налил с палец и протянул старушке.
— Маленько, а? На это зубов не надо.
Старушка, не расцепляя рук, даже не пошевелившись, сказала из-под шали:
— Что ж так-то пьешь, мать не повидамши. Ить выпимши уже, ну и будет. Спрятал бы ты баловство это.
— Нельзя! Домой еду, душа просит. Волнуюсь, стало быть.
— Встренет пьяного — не обрадуется.
— Обрадуется! Пять лет не видались.— Васюкеев трудно, содрогаясь, выпил и, щелкнув складником, принялся кромсать балык на газетке.— А тебя, стало быть, тоже сыны нарасхват?
— Дак что поделаешь. Всем надо было, у всех детки. Теперь ить семьями не живут, чтобы все вместе. Теперь вроде утиные выводки пошли: едва наклюнулся, втемеже и бежать от матери: то в ФЗО, то на курсы, то по вербовке. Бывало, полна хата народу, положить некуда, а то и одна осталась. Петя на Урал махнул, Степан себе уехал. Николай себе… Надея на ноги поднялась — тоже полетела. Это поначалу-то, сразу опосля войны,— сказала старушка, помедлив.— А потом Петя объявился. В Кизеле который. Пристал: поедем да поедем… Вроде тебя. Ничего с собой, говорит, не бери, все есть, только поедем… Что ж, думаю, одна сидеть буду. Хатку скоренько продали, коровку продали, поросеночка было завела, закололи, опалили в дорогу. Перины, подушки, всякий чебур-хабур домашний по родственницам да по соседям пораздавала. Все, как есть, порушила, весь свой корень извела начисто, поехали. В Кизел-то… Ну, Петя сразу пачпорт на меня схлопотал, прописали. Квартира, правда, хорошая, заводская. Двое деток у Пети, жинка тоже работает. Ну, живу, обстирываю, обшиваю.
— Полный ажур,— подсказал Васюкеев.
— Ага, ага… Хлоп — Степа письмо присылает. Зовет – молит, чтоб я к нему приезжала. Петя ему телеграммою: не поедет, дескать, заболела, все такое… Опять Степа шлет письмо: получает новую квартиру, да мало дают площади. А ежели я приеду, то на меня лишнюю комнату и дали бы… Что ж, думаю, такой подходящий случай будет из-за меня упускать. Говорю Пете: поеду. Он ни в какую, не пущает меня, и все тут: дети малые, жене придется хорошую работу бросать… И Петю мне жалко, и Степу жалко — квартиру, боюсь, упустит… Ну, кое-как уговорила Петю, пообещала вернуться вскорости, да и поехала в Череповец.
— Квартиру-то дали ему? — поинтересовался Васюкеев.
— Дали! Хорошую, на три комнатки. Да… А он возьми да и пропиши меня, чтоб, стало быть, к Пете-то не верталась. Живи, говорит, у меня, и все тут. Вот, говорит, тебе отдельная комната, отдыхай, хозяйствуй. Ну, живу, деток обхаживаю, года три так-то прожила… Вот тебе Надея пишет: поздравь, мама, замуж вышла. В Туймазах-то этих… Зовет письмом к себе. Раз зовет, другой раз зовет, а то и обижаться стала. Мол, почему у братьев живу, а единственную дочь позабыла… Да как забыть — помнила я. А только Степа не отпущает, самое детки в такой поре, глаз да глаз нужон. Дескать, чего тебе не хватает — поедешь к Надее… А Надея возьми да и сама прикати, в Череповец-то. Поссорились они из-за меня, война поднялась, никуда я, говорит, без матери не поеду. Надоело мне, говорит, аборты делать… Пришлось мне поехать, раз такое неотложное дело. Да и застряла у нее было, пока Надея с мужем не разошлась. Запил так-то, загулял с бабами, драться начал. Меня тоже однова так больно в грудь толкнул, так больно… Нехороший человек попался… Ну, Надея возьми да и махни от него, от супостата, аж на Дальний Восток. А меня опять Петя к себе в Кизел забрал. А опосля к Степану переехала. Да так вот и ездила туда-сюда.
Васюкеев, опершись о столик рукой, начал было задремывать от качки, от монотонного журчания старушкиного
голоса, но все же уловил, когда та замолчала, и спросил вяло:
— А теперь куда едешь?
— А теперь на свою прежнюю родину еду. Руки отказываться стали. Ни постирать, ни по кухне чего сделать… Степина-то жинка говорит: чтой-то ты, мамаша, заскучала? Съездила бы ты к Петру, может, говорит, тебе там получше будет. А откудова мне теперь лучше-то быть, совсем укаталась, за столом, за чашкою среди бела дня стала задремывать… Поехала я прошлым летом в Кизел, к Пете, побыла там маленько. Ну а что быть без толку? Я и чулочка детского теперь натянуть на могу, силушки моей не осталося. Да и какие, правду сказать, чулочки? Детки все повыросли, повыучились, женихаться по лестницам, по подъездам, как кутята, стали. Старшенький, Витька, дак тот и жинку уже с положением в дом привел… Время подошло, куда от него денешься-то. Петя мне и говорит: мы, мама, коечку в кухне пока поставим. А в комнате твоей пусть молодые поживут. Пока своей площадью обзаведутся. А там мы тебя опять на прежнее место водворим. А то, ежели хочешь, у Степана покамест побудь… Пожила я на кухоньке, вижу, одна помеха людям. Они допоздна сидят, телевизор смотрят, потом чай надумают пить, а я тут с раскладушкой на кухне расшапериваюсь, к плите не подойти. Собралась я да и опять к Степану. А Степа меня и прописывать даже не стал, дескать, раз в Кизеле прописана, дак зачем же еще и у него, в Череповце, прописываться. Живи, мол, так, без прописки, сколько захочется. Правда, сам Степа ничего насчет этого не говорил, молчал, а она, невестка,ему об этом наговорила… Ну да бог с ней. А и то сказать, жить У них тесновато стало. Гарнитур новый купили, каждому чтоб по отдельной кровати — ей и Степе, мода такая пошла. Ну, поколготилась я у него зиму, а недавно невестка меня и спрашивает: как там Надея живет, что пишет? Если надо к ней съездить, насчет денег не стесняйтесь, на дорогу дадим. А куда я к Надее-то? Близок свет — на островах где-то живет, на консервных… Да только делать нечего, собралась я к Надее. Думаю, как-нибудь доберусь, язык до Киева доведет. В последний раз съезжу, да там у нее и останусь, на островах на тех-то… Ну, дали мне денег на дорогу, телеграмму отбили, чтоб Надея-то встретила. Раскланялись мы по-хорошему, Степа всплакнул даже, дескать, может, в последний раз видимся… Поехала я. До Москвы доехала, чтоб, стало быть, самолетом лететь, да так заскучала я, так замутилась душа, смерть, что ли, почуялась? Не приведи господь, думаю, еще в самолете помру, куда тогда денусь? Да домой сюда и поворотила, на прежнее свое жительство…
Старушка говорила спокойно, рассудительно, все так же сидя неподвижно, говорила одним только сморщенным подбородком, выступавшим из-под шали. Васюкеев, запустив пятерню в кудри, давно уже дремал за столиком. Ему даже приснилось, будто он залез на свою хату и отдирает новую, недавно покрытую солому. Ветер подхватывает пуки и далеко рассевает по огороду. Он рвет кровлю, а мать не дает, хватает его за руки. Не хватай меня за руки, смеется Васюкеев, ты лучше трубу ломай. А то не поспеем, отпуск кончится…
— Куда ж мне теперь…— говорила свое старушка, не замечая, что Васюкеев спит. — Укаталася… Пока у людей побуду до часу своего. Кладбище у нас в деревне хорошее, сирень кругом. Вот зацветет скоро…
Наверху заворочался солдат, приподнялся на локте, сонно посмотрел вниз. Васюкеев встрепенулся, крякнул, прогоняя дремоту, налил стакан водки и протянул солдату:
— На-ка, служивый, ополоснись.
Солдат, долго не раздумывая, заспанно сопя, выпил и полез в тесный карман галифе за куревом.
— Где едем? — хрипло спросил он.
— Да где…— Васюкеев отдернул занавеску и хмельно вызрелся в окно.
Над пустынными пашнями взошла обкусанная с одного бока луна и летела за поездом, ударяясь о встречные деревья и путевые будки. В призрачной синеве мартовских снегов, подернутым глянцевым настом, маячили, будто наколотые иглой, точки далеких деревенских огней.
— Все по России едем. Где ж еще…— сказал Васюкеев.
В Орел поезд пришел около двух часов ночи.
Васюкеев, выгрузившись, побежал в буфет подкупить еще каких-нибудь гостинцев. Потом озаботясь, испытывая
сладко-щемящее чувство от близости родной земли, направился к выходу.
Заглянув в помещение пригородных касс, он увидел свою недавнюю попутчицу. Она пристроилась в пустом зале, на жестком эмпеэсовском диване, напротив заставленного картонкой кассового окошечка. Сидела, как и в поезде, сложив в подол руки и выставив вперед подшитые валенки. Блескучая фольга от эскимо все еще держалась на подошве. Видно, она приготовилась сидеть так до утра, дожидаться поезд на Ливны.
Зал начали убирать, полы наполовину мокро блестели.
Васюкеев задержался в дверях, поглядел, как уборщицы, мелькая из-под халатов рейтузами, мыли тряпками пол, и, поправив плечом рюкзак, пошел к городскому выходу искать такси на Кромы.