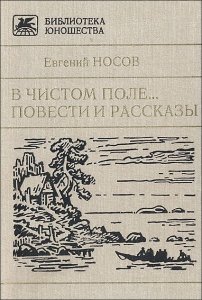
С мельничной ямы, что на реке Полной под Красной Горкой, в тот день я возвращался ни с чем. Да и на что было рассчитывать, когда вовсю клокотали ручьи, лед на реке вспучило, вода замутилась, а вдоль берегов налились закраины, в которых с радостным кегеканьем полоскались красногорские гуси, отмывая в полой воде заношенную одежку.
Стояла первая теплынь без солнца, без дуновенья ветерка, отчего торосистый снег рушился особенно споро и воздух был полон тонкого и непрерывного позванивания распадающегося наста. А над хутором, в старых его деревьях, все горланили ошалело днями прилетевшие грачи, срывались и блаженно кружили над теплым протаявшим убережьем или вдруг все разом облепляли жухлый, перезимовавший скирд соломы, одиноко маячивший среди глыбистого зяблевого поля.
А когда я поднимался от реки в гору, на высокий хуторской взлобок, внезапно с нарастающим шуршанием налетел такой плотный снежный заряд, что вмиг все вокруг растворилось, исчезло в непроглядных хлопьях куры, и было странно и непривычно слышать за этой белой кутерьмой все тот же возбужденный и радостный грачиный грай.
Вокруг сделалось брезжуще-светло, ново и так отрешенно, что я, нахлобучив капюшон, не заметил, как прошел мимо хутора, в нескольких шагах от его плетней и сараев, как вышагал за околицу, что называется, в белый свет, определяясь лишь по отдаленным перестукам электрички.
И без того невнятная хуторская дорога была заметена за каких-то несколько минут, я с трудом различал ее едва приметные признаки и потому не сразу разглядел следы прошедших впереди меня людей. Следы были только что протоптаны в свежей пороше, но уже успели округлиться и сгладиться почти до неразличимости. Я прибавил ходу и вскоре едва не налетел на совершенно заснеженные фигуры мужчины и женщины. Она была по-зимнему укутана плотной клетчатой шалью, он — в опущенной ушанке, расхожем ватнике и с обвязанной мешком ивовой корзиной, которую нес за плечами на вдетом под обе ручки ремне. Шел он с какой-то нездоровой развалкой, опираясь на самодельный костыль. На их плечах, шали и шапке и особенно на корзине налипли толстые пласты и нашлепки снега, и, когда я окликнул, здороваясь, оба не просто оглянулись, а, приостановившись, поворотились ко мне всем туловищем вместе с налипшим снегом, словно не решаясь разрушить и осыпать его причудливые нагромождения.
— Вот это так сыпануло! — воскликнул я весело, представляя, как и сам вот так же оброс наметью. Снег столь густо роился и мельтешил меж нами, что я даже не разглядел лица женщины, таившегося где-то в темной пещерке шали. Лицо же мужчины, в обрамлении белой, забитой снегом овчины, было мокро и багрово, а на бровях и усах копились и тяжелели натаявшие капли.
— Уже и ни к чему бы…— продолжал я деланно сетовать на погоду.
— Поздний снег по осени жернова вертит,— степенно и хрипловато возразил мужчина, снимая и ставя к сапогам корзину.
Краем ладони он бережно соскреб и сбросил с мешковины толстый снежный пласт, и мне показалось, что в корзине затрепетало, забилось что-то живое.
— Рыбка? — догадался я опрометчиво.
— Откуда она, рыбка-то? Об эту пору рыбка только у вора.— Мужчина остро взглянул в мою сторону, снова перекинул корзину на спину и пошел развалисто торить дорогу, тыкая впереди себя корявой грушевой палкой.
— Это пету-шо-ок у нас! — уважительно, с протяжкой назвала женщина живность в корзине.
— На продажу?
Мужчина как-то упрямо, напористо шагал в нескольких шагах впереди и, должно быть, не слыхал, а может, не хотел слушать меня, а потому отвечала теперь только женщина.
— Не-ет! — откликнулась она из заснеженной шали-пещерки.— Себе купили-и!
— Сами-то откуда? Из каких мест?
— А сами мы запла-а-вские! — Она возвышала голос до той напевности, с какой всегда говорят-выкрикивают разгоряченные ходьбой крестьяне.— Заплаву слыхали? Дак оттуда мы.
— Что, у вас в деревне своих петухов нет — так далеко зашли?
— Как нет? Е-есть! Многие держат. Дак как теперь держат-то? Больше по привычке. Лишь бы курица. Почти у всех — белые, пустомясые. Иная в хороший ветер и до дому не добежит.— Голос женщины наполнился смехом, будто светом, и она, поддерживая в себе смешливое, продолжала: — Лапами ко двору скребет, перебирает, вроде как бежит, а ветром ее на сторону относит. А то есть петухи, дак и кукарекать не умеют.
— А у вас что ж за петух, какой породы?
— Про породу не скажу, не знаю. У него, у Степана, спрашивайте. По мне б, дак который постатней, покрасивше. Чтоб на петухе кустюм хороший был. А ему — перво-наперво голос. Он этого петуха, говорит, за три километра услыхал… Мы с ним допреж на Севере работали. На путевом обходе. Между Хановеем и Воркутой. Места глухие, безлюдные, зимы до-о-лгие! Весь истоскуешься, пока тепла дождешься. Дак Степан еще там хотел петушка завести. Ну да где уж: вокруг — ни деревни, ни двора, леса да болота. В апреле, а то и в мае там еще снег лежит, а Степан размечтается, бывало, на зимнюю хмарь глядючи: а у нас, в Заплаве, уже молодая травка и петухи вовсю поют… Ничего ему так не напоминало родину, как петушок. Ни другая какая птица, ни дерево или еще что… А потом он захворал, клещ его укусил. Вся-то козява с гречишную кожурку, а какой беды натворила: отнялись у него ноги, ослабли глаза. Лечили всякие врачи, даже шамана приглашали из стойбища, а уж сколько денег на это самое мумиё извели — прорву, и никакого результата. Дали ему инвалидность, залег дома обездвиженно, часами в окно глядел, тогда и заладил: поедем и поедем отседова. Ну и снялись с насиженного. В позапрошлом годе приехали в свою Заплавушку. После свекрови три года хата заколоченная стояла. Отбила я окна-двери, кое-чего подладила, бурьян с заброшенного огорода сдернула, под зиму перекопала. Все я да я, он-то был не помощник. Так-то перезимовали мы с ним в ожидании тепла, и вот она наконец нагрянула, весна долгожданная! Наша, заплавская! Нет, ничего такого не скажу, там, где мы жили, тоже по-своему красиво: белые ночи, речка Уса по каменьям шумит, ягоды всякой прорва, грибы аж на железнодорожную насыпь лезут… Но свое, родное, кажется во сто крат краше. Особенно, когда вот так, как мы, натоскуешься. Попросился он на улицу, вынесла на закорках, пристроила на завалинке. Там, на Северном Урале, и летом под валежником мерзлота лежит, земля стылая, без запаха. А тут едва брызнуло весеннее солнышко, как запарила, задышала землица! А она у нас, сами знаете, какая: черным-черна, что вороново крыло. А дух-то какой, господи-и! Полной грудью хватаю, а надышаться не могу-у! В хату заходить неохота с благости такой. И как погнало, как пошло все расти на глазах! Вот тебе уже и травка под забором, и крыжовник озеленился, и верба зацвела. Загудела пчела, выползли божьи коровки, скворцы туда-сюда носятся, пух собирают. А петухи — будто у них районная спевка: ну как дерут горло, ну вытягиваются друг перед дружкой — на все голоса, на все лады, на всякие стороны, одни кончают, другие подхватывают. Иные где-то далеко, за тридевять дворов, будто это вовсе и не петушиный крик, а звон в ушах — от весны, солнца, от гама и пересвиста, от теплой огородной хмели. Что значит родные места! Все-то тебе любо, приметливо. Гляжу, сидит мой Степан в затишке, запрокинул подбородок навстречу солнышку, закрыл глаза. Думала, пригрелся, задремал. Подошла одежку поправить, а у него по щекам — слезы…
С того разу каждый день стал проситься вынести его за порог. Приладился кое-чего мастерить: то тяпку навострит, то бельевых прищепков настрогает. А иной раз забудется, сложит на коленях руки и затихнет: петухов слушает. Своих, заплавских, уже всех по голосам узнавал: этот на переезде голосит, а это шутовский кочет кричит, за мостом. И все мечтал себе хорошего из хороших выбрать. Вот ты, говорит, не веришь, а они вроде лекарства. Пригоже на душе делается.
Несколько шагов она прошла молча, должно быть, глядя, как и я, на маячившего впереди, за курой, Степана, потом раздумчиво спросила:
— А может, и правда, есть такое петушиное слово? Я не нашелся, что ответить, как поддержать в ней эту непрочную веру, и она снова заговорила, как прежде, напевно, как бы выдыхая слова:
— А как-то слышу, кричит со двора: «Нюра! Нюра-а! Скорей!» Аж сердце оборвалось. Подбегаю, господи, что такое? Глаза круглые, не пойму, не то испуганные, не то удивленные, руками колени ощупывает. «А ноги-то, кричит, потеплели! Вроде как мураши по ним лапками заскребли! Туда-сюда забегали!» На другой день, гляжу, костыли себе принялся ладить. Да к маю и встал мужик! Вот тебе и петушиное слово! Не хочешь, да уверуешь. Сперва по стеночке, по стеночке — только бы самому из хаты до завалинки добраться. А потом и за калитку стал выскондыбывать. Да и пошел, пошел помаленьку с палочкой. Сколь потом деревень обошел, все искал себе разлюбезного. И меня затаскал: пойдем, говорит, вместе послушаем, есть у меня один на примете.
Уже перед самой станцией снег начал слабеть, а вскоре вовсе изредился. Самого солнца по-прежнему не было, а только процеживалось его ровное, рассеянное свечение, не дававшее теней, отчего белое поле казалось беспредметным и беспредельным. И лишь позади нас его первозданная белизна была грубо взрыта нашими следами.
Возле вокзального зданьица женщина в оранжевом жилете деревянной лопатой расчищала подходы к двери, и все входившие останавливались, стряхивали с себя снег, топали ногами и шаркали подошвами о брошенную у входа метлу.
Степан аккуратно выколотил шапку о голенище сапога, отвернул кверху ушки и завязал тесемки, потом помог Нюре снять и вытряхнуть тяжелую шаль, и та взяла ее под мышку, оставшись в одном кашемировом посадском платке, расшитом красными розами. Они прошли в зал, выбрали в дальнем углу свободный диван и облегченно присели, поставив корзину у ног.
У Нюры оказалось простенькое,- еще свежее, но по-крестьянски заветренное лицо, на котором светло голубели некрупные застенчивые глаза, не приученные, должно быть, открыто шарить по чужим лицам. Обвыкаясь и отдыхая после уморной ходьбы, она некоторое время сидела совершенно недвижно, глядя перед собой на кафельный рисунок пола, потом повернулась и что-то прошептала Степану. Тот согласно кивнул, нагнулся, развязал корзину, обеими руками бережно вынул петуха и так же бережно спустил его на пол. Нюра плеснула ему с ладони подсолнечных семечек.
Петух не обратил внимания на еду, а сперва оглядел помещение, легкими толчками поворачивая голову и направляя на людей то правый, то левый округло-строгий янтарный знак, лишь на мгновенье задергивая его снизу вверх бело взмель-кивающим веком, похожим на шторку фотоаппарата. Когда мы шли полем, я воображал себе петуха какой-либо необыкновенной, огненной, что ли, как у жар-птицы, расцветки. Он же оказался просто серым, и это даже разочаровало меня. Но, приглядевшись к нему, я обнаружил, что каждое его перышко, чешуйчато и плотно пригнанное одно поверх другого; обведено по краю черной окантовкой, отчего представлялось, будто на нем была надета кованая боевая кольчуга. И гребень его не был тем легкомысленным, картинным головным убором, столь лихо вознесенным наподобие чепца наполеоновского капрала или даже свисающим на сторону и застившим один глаз, вроде красной гайдуцкой шапки,— нет, гребень его был без всяких излишеств, низок и широк, по всей поверхности усаженный крепкими зубцами, и скорее походил на боевое навершье витязя, из-под которого выдавался красиво очерченный, с благородной орлиной горбинкой и словно выточенный из слоновой кости клюв. Он, будто витязь, был статен, могуч и величествен в своей стальной кольчуге и, должно быть, осознавал эту свою стать и достоинство, потому что, когда его выпустили из корзины, он не побежал куда глаза глядят от скопища народа, а, внимательно оглядев всех присутствующих, приподнялся на мощных своих ногах, обутых в желтые и тоже кольчужные ичиги, и, неспешно, сановито расправив онемевшие в корзине крылья, трижды взмахнул ими, выметая из-под себя насыпанные Нюрой семечки.
— Глянь-ка: петух! — выкрикнул кто-то в зале, и все повалили глядеть, будто на невидаль.
Так бы не хлынули, не повскакали с мест, окажись здесь кошка или собака, гусь или, допустим, поросенок. Кто-то, ожидаючи поезда, от нечего делать, возможно, и пошел бы поглазеть на гуся или собаку. А кто-то, и, наверное, таких большинство, остался бы сидеть: место на диване дороже. Но вот взглянуть на этого петуха, которого так долго искал Степан со своей Нюрой почему-то пришли почти все. Пришел даже дежурный по станции в своей красной фуражке.
— Что тут такое? Плохо, что ль, кому?
— Да нет — петух!
— А ну, дайте гляну… Ух ты! — изумился дежурный и тоже, как и все, притих в невольном почтении.