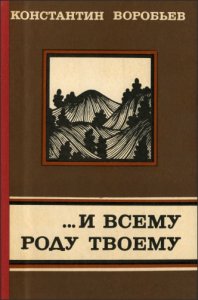
В середине лета на толстого ленивого выползка берет лещ. Рыба эта умная, осторожная и солидная. Она обходит суетного удильщика с неустойчивым или сварливым характером, не любит мрачных и похмельных рыбарей и хорошо и полновесно идет к тому, кто приносит на озеро вместе с удочками и приманкой тайно прикопленную благодарность в душе за свою близость и причастность к большому живому миру. Тут ничего нельзя поделать, тут, наверно, нужно загодя и исподволь готовиться к свершению какого-нибудь тихого доброго дела или просто поступка, нужного людям, и тогда, если ты рыбак, поезжай на озеро и удача тебя не обминует…
Я уверовал в это не сразу,— до того была тусклая вереница воскресных невезений, но в середине прошлого месяца моя затянувшаяся работа поманила меня на лещевое озеро,— я неожиданно закончил ее и, грешным делом, приготовился к встрече с опоздавшей радостью.
Тогда была золотисто-начальная заря в небе, была сиреневая тишина в улицах, а в глубинах пустынных дворов еще копились потемки, пахнувшие яблоками и укропом. В такую пору испокон веков дети «летают» во сне и у них в немом восторге трепещут ресницы; в эту рань повсюду и всегда разговаривают шепотом те, кто расстается до вечера; в войну на рассветах устанавливалась тишина в окопах, а у раненых затухала боль. Мне хотелось думать «красиво» и картинно,— это всегда вычеркивалось редактором из моих ранних рассказов, и я шел и размышлял так, как в юности, потому что был совершенно один, а кривой узкий переулок казался бесконечным, и его затоплял кроткий полумрак и сон. Тут все было хорошо и непреложно нужно,— и смеженные ставни домишек, и растрепанные головы подсолнухов за изгородями палисадов, и целомудренная воркотня просыпающихся голубей. Оттого, что мне надо было «забрать» все это с собой на озеро, я не заметил, когда и откуда появились впереди меня те четверо. Какими-то понужденно балетными шагами они рассредоточенно, загородив переулок, шли мне навстречу, засунув руки в карманы брюк, и по их безразлично-напряженным взглядам на крыши низеньких пригородных домишек я догадался, зачем им понадобился рассыпной строй. В моей рыбацкой сумке лежала краюха хлеба, светлая бутылка и малосольные огурцы, а на самом дне, под газетой — пестрая банка из-под халвы: в ней таились выползки и мои несокрушимые надежды на день. Я переложил сумку в левую руку, а правой достал сигарету и зажег спичку. Я проделал это на ходу и не стал оглядываться назад,— там раздавались лениво шаркающие шаги еще двух или трех переростков, тоже рассредоточенных на облаву. Мне нельзя было менять ни темпа шагов, ни положения рук, ни наклона головы,— в этом случае ночной грабитель смелеет и торопится, потому что воспринимает ваше приготовление, как замешательство и панику. Я лишь спустился с тротуара на середину мостовой и там, шагах в пяти от встречающих, коротко подумал, что на рассветах — в четыре двадцать зимой и в два сорок летом — немцы выводили на расстрел заключенных и что укус змеи в такое время смертелен…
Они показались мне на одно лицо, как четырняшки сплоховавшей лет семнадцать тому назад родительницы, и я напрягся и пошел сквозь строй парней левым плечом вперед, подвинув одного из них вежливым и в меру твердым толчком. Оглядываться в таком разе не стоит,— затылок и так все «видит» и чувствует, и я шел как на параде — стройно и чутко.
— Во, бляха, просквозил! Понюхали только!
Это было сказано обиженно, неверяще и сокрушенно — все вместе, и я остановился и сумел спросить, как давно надоевших родственников:
— Курить, что ли, хотите?
— А есть? — не сразу и снисходительно спросил кто-то один. К ним, четырем, издали направлялись еще двое, что ранее были в моем тыловом прикрытии. Тут нельзя было допустить, чтобы они все шестеро пошли ко мне разом: согласная сплоченность их в спящем переулке показалась мне ни к чему, и я двинулся к ним сам, а мне навстречу шагнул только один. Я достал сигарету и протянул ее на ладони вместе с коробкой спичек. Парень молча взял и то и другое, глядя на меня вприщур. Глаза у него были мягкие, синие и продолговатые, а ресницы редкие и длинные, как у всех застенчивых людей. В юности обладатели их обычно не хотят признавать за собой это далеко не порочное свойство характера и подделываются под морских и сухопутных бродяг. Парень курил и критически-скучно разглядывал мою сумку и тренинг, давно утративший пору свежести.
— Возьмите своим приятелям,— сказал я и достал пять сигарет.
— А ты, оказывается, культурный! — ввернул он и изысканным манером сплюнул мне под ноги.— Мои мальчики, видишь ли, не курят. Они только нюхают!
Мне показалось, что это было смесью упрека «мальчиков» в оплошности и призыва к действию, и я повторил все сначала — пошел к ним первым с сигаретами в руке.
— Кто хочет курить? — спросил я вполне своим голосом: ситуация, как говорится, сложилась для парней затруднительная,— даже бродячий пес не кусает мирно протянутую к нему руку. Сигареты взяли все пятеро — молча и угрюмо. Я понимал, что изъявление вежливости с их стороны почти невозможно, так как оно разрушило бы идею и замысел рассыпного строя, и я без всякой паузы сказал: «Благодарю». Наверно, можно было перекинуть сумку в правую руку и идти, и я перекинул ее, но не пошел: мне вспомнилось утро, как две капли воды схожее с этим, мирным, нынешним, и будто огромный паук — склизкий и мерзкий — обволок мое тело стыд за себя, за только что испытанный мелкий страх и суетную угодливость перед этими шестерыми, что стояли и дымили моими сигаретами…
Тогда, двадцать один год тому назад, был такой же золотисто-шафранный июльский рассвет. Накануне к нам, восемнадцати партизанам, прибился Яша Ларве — пятнадцатилетний мальчик, бежавший из гетто. С его острых плеч нелепо и жалко свисал желтый широкий плащ, а на голове сидела какая-то немыслимая по форме и цвету шляпа. Яшкины босые ноги путались в полах плаща, а шляпа сваливалась на нос. Ему предложили кое-какую одежонку, но он сказал, что плащ и шляпа дедушкины, и заплакал. Винтовка, выданная Яшке, была немецкой и казалась сантиметров на двадцать больше его самого. Всю ночь, минуя шоссейные дороги, мы пробирались навстречу своим наступавшим войскам, а на ее исходе путь нам благословенно преградил брошенный лесной хутор. В сарае, стоявшем на краю придорожной канавы, была прошлогодняя солома, и командир разрешил группе отдых. Он наказал часовому разбудить его, если тот заметит в ночи что-нибудь подозрительное или чужое, но часовой не сделал этого и опростал автоматный рожок в небо, когда заслышал будто бы немецкую речь на дороге. Нам понадобилась неполная минута времени, чтобы очутиться метрах в ста от сарая, где мы «временно оставили» все свое нехитрое бродяжье имущество, кроме оружия. Командиру хотелось знать, сонный стрелял часовой или бодрствуя, и тот клялся, что «чув германьский гомон». Было тихо и сумрачно. По земле стлался предзоревой зыбкий туман. Мы пошли к сараю открыто,— не поверили часовому, и тогда со стороны леса, с дороги, раздался вопрошающий оклик по-немецки. Мы остановились, и командир подозвал Яшку. Оклик повторился, а Яшка чуть слышно сказал:
— Немец! Спрашивает, кто стрелял!
— Ответь по-ихнему: «Немецкий асовой!» — шепотом приказал командир.— Басом крикни, Яш! — попросил он.— Мы их…
Он, наверно, думал, что чудовищная непечатная фраза сообщит мужество ребячьему голосу, и Яшка выслушал ругань как молитву и пронзительно крикнул: «Дойче постен». Эхо отозвалось повторными, в пути нарастающими зовами; казалось, что сотни рассеянных взыскующих голосов подхватили Яшкин крик. В туманной дали долго молчали. Там, вероятно, совещались и прислушивались, потом к нам донесся чужой гортанный ответ.
— Зовут, чтоб шел к ним,— перевел Яшка. Командир поспешно разъяснил ему, что он — на посту, охраняет штаб, и какого, мол, черта! Яшка трижды еще перекликался с немцами, привставая на цыпочки, затем мы бесшумным броском достигли придорожной канавы и залегли. Нас будто никогда тут не было, а на дороге остался один Яшка…
Это предстало разом, будто я взглянул на ослепляющую картину, зачем-то снятую до того со стены и поставленную в угол ликом к потемкам. Мне нужно было мысленно досмотреть ее, но в это время к нам подошел тот с синими глазами, что закуривал первым. Он осведомился у своих мальчиков, нанюхались ли они, а у меня почти застенчиво попросил сумку.
— Временно. Подержать,— сказал он.
Я подал ему сумку рывком и сказал, что держать надо осторожно, потому что там водка и черви.
— Черви? — растерянно спросил он.— Какие?
— Лещевые! Выползки!-—сказал я.
— Вот это блюдо! А я думал китайские, маринованные! — обрел он прежний тон.
— Так вот слушай!— раздельно сказал я, подступив к нему, и он опасливо помигал на меня и выставил вперед мою сумку.— У Яшки были такие же ресницы! Точь-в-точь, как у тебя! Он тогда остался один на дороге, и немцы приблизились к нему почти вплотную, черт бы вас драл!..
— Все понятно,— серьезно проговорил синеглазый.— Ровесник наш Яшка пустил в свое время под откос эшелон с живой силой и техникой противника! Верно? Прими своих червячков, рыбак… Мы ведь шутили!
— Геш, ты чего? А где его удочки?
Кто-то из «мальчиков» усомнился в истинности моей принадлежности к рыбацкому сословию, а заодно и в ценности содержимого сумки, но я сказал, что удочки мои в машине, черт возьми, а она ночует недалеко тут, в сарае. Синеглазый с непритворным уважением заметил, что я шикарно живу.
— И резиновая лодка там. Новая!— как дополнительную угрозу сообщил я. Это мое показное признание почему-то удручающе легло на парней,— они насупились и сникли, а синеглазый как-то внимательно посмотрел на меня и бережно, будто пожалел-приласкал себя, погладил ладонью косой срез своей белесой челки. Я пошел нарочито медленно, утверждающе ступая на каблуки, потом обернулся и безразлично сказал:
— Может, кто хочет порыбачить? Лодка на двоих. Я смотрел на синеглазого. Он растерянно оглядел на себе куртку и что-то спросил у «мальчиков». Они засмеялись, и кто-то проговорил, чтобы я слышал:
— Давай, Геш! Он тебя с ходу забурит на перевоспитание!
— Обещаю не забурить! — сказал я. Как по команде, парни всунули руки в карманы брюк и пошли прочь, а синеглазый заколебался, вертя в руках не то штопор, не то перочинный ножик.
— Ну, решай быстрей,— сказал я,— а то заревой клев прозеваем!
— А это… честно? — вполголоса спросил он и оглянулся на своих, скучно удалявшихся приятелей. Я утвердительно кивнул, и он крикнул:
— Жек, скажи потом бабушке, ладно?
— Чего?
— Что я поехал на рыбалку… К обеду, мол, вернусь, ладно?
— Но мы вернемся вечером,— предупредил я.
— Это ничего. Лишь бы она не волновалась,— сказал он. Дружки дважды окликали его, подзывая на какое-то таинственное и угрозное слово, но он повторил просьбу — сказать бабушке о рыбалке — и пошел со мной. Было заметно, что ему немного не по себе, и я недвусмысленно сказал:
— До озера сорок два километра. Через час будем в лодке. И нигде больше!
Он усмехнулся — понял — и ответил:
— Да я не боюсь… Вот только бабушке не передадут, а она… с ног собьется.
— Давай заедем и скажем сами,— предложил я.— Это далеко?
— Нет, тут вот,— уклончиво сказал он, не называя адреса.— Самому нельзя, не пустит…
— Как знаешь,— сказал я.
На ветхих воротах чужого сарая, где хоронился мой «Москвич», висел большой старинный замок, и когда я открыл его без ключа, синеглазый почему-то нахмурился. В машине он не то что присмирел, а как-то затаился и напрягся; мне показалось, что он не предпринял бы никакой попытки к отступлению, если б я завернул к центру города. Но я не завернул. Мы быстро выбрались на асфальтированную дорогу, и мой напарник освобожденно прислонился к спинке сиденья, и я видел, что сейчас ему самое время закурить. У нас все было серьезно и благопристойно — и «благодарю», и «пожалуйста», но для того, чтобы сохранить этот уровень взаимоотношения на весь предстоящий день, требовались кое-какие формальности, и я спросил:
— Геша — это кличка или имя?
— Генка, значит,— смущенно сказал он.
— В таком случае я буду звать тебя, если не возражаешь, Геннадием,— сказал я.— Ты тоже не церемонься со мной и называй меня по имени-отчеству. Согласен?
Он кивнул и стал глядеть в боковое окно, а минуту спустя спросил:
— Подтяжку креплений давно делали?
— Не помню,— сказал я.— А что?
— По-моему, хвостовик болтается… Или вы педаль сцепления отпускаете рывком.
Я не стал возражать, возможно, и рывком, и спросил в свою очередь:
— Бабушке-то твоей сколько?
— Под семьдесят,— подумав, ответил он.
— И она… не догадывается?
— О чем?
— Ты знаешь сам.
Шоссе было пустынным. Мы шли на девяносто, и надо было уже сворачивать на проселочную дорогу, а Геннадий все молчал и молчал.
— Жаль, что у нас нет картошки, а то б уху, может, сварили,— отвлекающе сказал я. Геннадий уперся руками в сиденье и медленно повернулся лицом ко мне.
— Моя бабушка ничему б не поверила. Она правильная!— мечтательно сказал он и невесело усмехнулся.— Но я хотел спросить… неужели вот вы совсем-совсем ничего такого не делали в юности?
— Какого? — сказал я.
— Ну мало ли! Когда у тебя никого нету… Когда до смерти скучно, обидно, а тополя цветут…
Я посмотрел на него удивленно и, наверно, гневно, потому что он поспешно сказал: — Вы насчет сумки? Конечно, это плохо… Но мы же нарочно, все равно вы о нас неправильно думаете!
— Кто это «вы»? — пряча свое «фронтовое» раздражение, спросил я.
— А все, старшие.
— Так вот и все?
— Ну большинство. А пенсионеры — так сплошь!
— Что мы неправильно о вас думаем?
— Всё! Мы и такие, и сякие, и негожие. Не верим, не любим, не молимся на вас! Вот и вы… когда я пошутил с сумкой… Сразу о войне. А почему вы думаете, что мы не могли б так, как тот Яшка?
Он ждал ответа, а я молчал — тут нужны были какие-то глубинные, трудные и сердечные слова, а у меня на языке вертелись ладные, давно и не мною придуманные фразы с вывесочно-лозунговой неоспоримостью.
— Вот ты упрекнул старших,— попытался я начать издалека,— но ведь бабушка твоя тоже из этого поколения.
— Так она же, может, одна такая на всем свете!— по-ребячьи восторженно и ревниво сказал Геннадий и чему-то, засмеялся. Я выбился из русла начатого разговора и невольно завистливо спросил:
— Хорошая?
— Правильная! — мотнул он головой.
Проселочная дорога, на которую мы въехали, была узкая, и колосья поспевшей ржи с веским шорохом мелись по крыльям машины. Вставшее солнце било в заднее стекло, и никель распределительного щитка вспыхнул зеленовато-рубиновым светом, отчего в кабине стало нарядно и празднично.
— А вы, если не секрет, где работаете? — почему-то невесело спросил Геннадий, и я вспомнил, как он приглаживал в переулке свою челку, когда услыхал о моем «шикарстве». Была пора поставить себя на свое собственное место, и я продекламировал:
Ни трудом и ни доблестью
Не дорос я до всех.
Я работал в той области,
Где успех — не успех.
Где тоскуют неделями,
Коль теряется нить,
Где труды от безделия
Нелегко отличить…
Ну куда же я сунулся?
Оглядеться пора!
Я в годах, а как в юности
Ни кола, ни двора…
[Стихи Н. Коржавина]
Геннадий сидел тихий, задумчивый и какой-то успокоенный, и мне подумалось, что нам с ним пора закурить…
А озеро было, как зоревой сон в детстве. Оно курилось легким розовым паром, сверкало всплесками и метилось кругами,— резвилась малая и большая рыба. Из всего, что нам предстояло на берегу,— накачать лодку, перекусить, продолжить разговор и чуть-чуть, может, выпить,— сбылось только первое: было невозможно сладить с захватно-властным зовом предстоящего таинства лова. Очутившись на воде, мы сразу утратили ту сдержанно-вежливую степень взаимоотношения, что обрели в дороге: за какую-то мелкую оплошность я обозвал напарника тюхой, а не рыбаком, но он не обиделся и будто не услышал, и сам называл меня по имени, как своего ровесника, и оба мы знали, что иначе общаться нам тут нельзя, не нужно. Мы плыли блуждающе,— приходилось то и дело невольно устремляться к тому месту, где возникал и не скоро таял круг всплеска.
— Решай, черт возьми, где стать! — сказал я Геннадию, хотя греб не он.— А то будем елозить до вечера!..
Он не то что не умел насаживать выползка, а просто страшился взять его в руку,— у червя была цепко-шершавая расплющенная хвостовина, и весь он отливал змеино-радужным отвратным глянцем.
— Командовать мальчиками так ты мастер, а тут…— шепотом прикрикнул я, а Геннадий испуганно и брезгливо стряхнул с пальцев выползка и огрызнулся:
— Мальчики-мальчики! А что я сделаю?
— Так за каким дьяволом увязывался?
— Увязывался-увязывался…
— Не ворчи, как старая баба! — сказал я.— Дай сюда крючок и червя.
— Крючок — пожалуйста, а эту гадюку…
Не простое это дело — забросить удочку на семиметровой глубине так, чтобы выползок лег на грунт, а поплавок стал торчмя. Я проделал это за себя и за напарника и вручил ему удилище.
— Извольте. Подержать. Временно! — сказал я его тоном, когда он «просил» у меня сумку, но он вник в поплавок, и мы прочно умолкли. Не в лад с благодатью утра пронзительно и тревожно кричали чайки; стрекозы парили в воздухе и норовили усесться на замершие поплавки, и это странным образом рождало сомнение в удаче, подбивало на немую беседу с самим собой — «Ну и что? Совсем не обязательно, чтоб «он» клюнул. Все равно хорошо!» От пристального напряжения рябило в глазах. Освобожденность от всех минувших и грядущих забот сообщала телу оцепенение и невесомость. Было тихо и знойно. Напарник мой крепко спал, и его удилище лежало на борту лодки, как посох на гривке канавы, оброненный приморившимся странником.
Был уже полдень, когда малиновый поплавок удочки Геннадия колыхнулся и прилег на бок. Он как бы привял и свалился, но в этой его неподвижности угадывалась чуткая вороватость возни того таинственного и живого, что «работало» над выползком в синей глубине. Тут главным тогда оказываются не глаза и не руки, не голос и не слух, а сердце — ему одному предстоит справляться с волной смятения и радостного страха в ожидании того неуловимого мгновения, когда нужно будет подсечь! Тут главное — сердце: выдержит ли оно!..
Мое поступило тогда так: я неслышно привстал на колени и, заклинающе глядя на спящего, поменял удочки. Я подумал обо всем — и что они совершенно одинаковые, и что ему, прогулявшему ночь в рассредоточенном строю, не справиться с «ним», и что вообще хозяин тут я. Поплавок в это время встал, подрожал и ныряюще двинулся в сторону, а я укрепился у борта лодки и рванул удилище вверх и вбок… Сразу мне показалось, что зацепилась коряга, после я подумал о ведре с илом, затем неизвестно о чем, потому что вдруг ощутил мягкие и по-живому упругие потяги лески. Наверно, я как-нибудь нечаянно разбудил Геннадия: он неожиданно оказался рядом со мной, подняв подсачек, как стяг. Лещ завиделся издалека. Он был желтый и жаркий, как самовар, и влекся согласно, плашмя, лениво повиливая хвостом. Я зажмурился, когда Геннадий подвел к нему плетеное жерло подсачка, потом ощутил свободно обвисшую на удилище леску и услыхал тяжкий мокрый шлепок, колыхнувший лодку,— лещ был у нас! Мы сидели молча. Лещ тоже лежал спокойно.
— Видал, какой лапоть? — сказал я.— А как шел, варвар, а?
— У-ужасть! — пораженно проговорил Геннадий, и я понял, что это его «ужасть» — бабушкино.
Нам пора было поесть и чуть-чуть выпить. Разговаривать ни о чем не хотелось. Лещ лежал и вкусно чмокал ртом…
Домой мы возвращались в душных предгрозовых сумерках вечера. Кроме леща, у нас было еще несколько окуньков и плоток. Над белыми, истомленными засухой полями, низко нависали плотные аспидные тучи. Нам обоим, наверно, хотелось пожаловаться близкому человеку на усталость и лечь спать.
— А что он сделал? — уже на подъезде к городу спросил вдруг Геннадий.
— Яшка? — понял я.
— Да.
— Он ходил часовым. Не стоял, а ходил по дороге, понимаешь? — сказал я.— На нем был желтый плащ и шляпа… Он подпустил немцев к себе вплотную и упал после того, как мы начали стрелять из засады…
— Вы его убили?
— Да нет,— сказал я.— Но Яшка потерял тогда шляпу, и мы не нашли ее, а он весь день плакал…
— Ну и что из того? — разочарованно спросил Геннадий.
— Все из того,— сказал я,— но это трудно сейчас объяснить… Куда ехать?
— Я вылезу тут.
— Как знаешь,— согласился я.— Запомни номер моего телефона и забери леща. Скажешь потом, понравился он бабушке или нет.
Геннадий засмеялся и лукаво сказал:
— Лещ клюнул не на мою удочку, тащил его не я, так что…
— Ты же спал, как сурок!— перебил я.
— И не спал я вовсе,— сказал он и опять засмеялся.— А леща не возьму. Нельзя мне!
— Почему? — спросил я.
— Плохо это получится у нас…
— Черта с два! — сказал я.— Леща ты возьмешь, а о замке на сарае и о машине не проронишь мне ни слова! Я и так все понял…
Он посмотрел на меня пытливо и длинно, потом сказал:
— Ох, и удивится ж!..
Леща он понёс перехилясь, в откинутой руке,— боялся запачкать брюки, и тот сиял, как самовар, и вырезной хвост его мелся по тротуару…