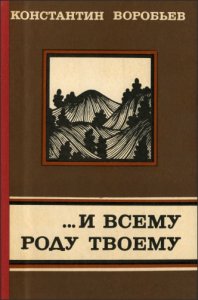
Так все его звали при встрече и за глаза, потому что фамилия у него была Ермаков. Был он коренаст, румян, постоянно весел, и ни одна гулянка в селе не обходилась без него, первого гармониста и плясуна. Он жил на отшибе за речкой в крошечной избенке, и каждую весну ее затопляло половодьем. Тогда Ермак перебирался к нам. Он приходил всегда одинаково — на одном плече гармонь и ружье, а на другом — сын, ровесник мой Колька. Матери своей Колька не помнил — померла, когда рожала его. Я тоже никогда не видел отца своего, потому что его у меня не было совсем.
Вместе с Ермаком и Колькой в нашу хату вселялся праздник. Мать вывешивала над окном расшитый петухами рушник и покрывала стол чистым наблюдником. Со дна сундука, на котором я спал, она доставала новый полушалок и сарафан, и я переставал узнавать ее — все тогда в ней менялось: глаза, походка, голос…
Я тоже наряжался в голубую сатиновую рубаху и сразу же просил:
— Сыграй, дядь Ермак!
Он закатывался дробным, воркующим смехом, а мать издали потревоженно заглядывала в его глаза и учила меня непривычными для нас с нею словами:
— Не надо так говорить, сыночек… Ты зови дяденьку дядей Гарасей…
Вечерами, когда за речкой догорал закат, Ермак садился у окна на лавку и брал гармонь. Не касаясь белых пуговиц клавишей, он сначала осторожно разжимал гармонь, и она вздыхала приглушенно и протяжно — точь-в-точь моя мать по ночам, когда я притворялся спящим. Потом сумрак хаты начинал звучать живыми переливами непонятной мне мелодии, оседавшей в моей душе щемящим восторгом, отчего было сладко и немного страшно, как при полете во сне.
Играл Ермак тихо и неторопливо, склонив голову на «ливенку», а мать тесно сидела с ним рядом и на длинные, худые пальцы наматывала пряди Ермакова чуба — темного, как грачиное крыло. Я тогда про себя называл эту мелодию песней, потом, не скоро, узнал, что это было «Страдание».
Однажды мать сказала Ермаку с затаенной болью в голосе:
— Непутевый мой… Приставал бы ты уж насовсем…
Ермак быстро взглянул в нашу с Колькой сторону и попросил негромко и коротко:
— Не надо… Погоди.
— Да сколько же мне годить! — почти выкрикнула мать.
Тогда впервые во мне шевельнулась непонятная обида на Ермака,— мне почудилось, что он выпросил у матери что-то хорошее и нужное нам с нею, а назад не хочет отдать. Это было утром в последний день пасхи. А в полдень Ермак с гармоньей, ружьем и Колькой ушел к себе. Мы с матерью шли почему-то сзади,— она вздумала вытряхнуть в притихшую речку крошки кулича из наблюдника. «Рыбам»,— сказала, а сама долго стояла на берегу и глядела в сторону Ермаковой хаты.
Жаворонков сроду не было видно в нашем неимоверно синем и высоком небе, но с утра и до ночи они звенели и трепыхались там, крохотные и радостно живые. В эти весенние дни на Ермака нападала тоска. Он оставлял Кольку одного, а сам уходил с ружьем в леса и болота.
— Пошел? — спрашивали его мужики.— А хлеб сеять не думаешь?
— Хватит мне вашего,— отвечал Ермак.
— Ты бы в казаки подавался,— серьезно советовали ему некоторые,— там, говорят, все такие…
В то время закончилась гражданская война, и домой возвращались уцелевшие солдаты. Из Красной гвардии пришел вскоре и наш сосед — бобыль Никифор Хомутов. Он явился в странной одежине — в бесполом пиджаке с длинным хвостом и в сапогах с разрезами в голенищах, зашнурованными желтой тесемкой. Невиданный пиджак Ермак с ходу назвал «храком», Хомутов обиделся, вступил с гармонистом в драку и был крепко избит им.
А через неделю Ермак смиренно попросил бывшего красногвардейца продать ему сапоги и «храк».
— Я этим делом не торгую, проваливай,— подозрительно ответил Хомутов и вдруг сказал в шутку, когда Ермак потерянно пошел прочь: — Двухрядку и ружье… чтобы в обмен, значит, хочешь?
Ермак упрямо тряхнул чубом и вместо ружья и гармоньи предложил «Моториху» — кургузую буланую кобылу, единственную живность в своем хозяйстве.
Обмен состоялся торопливо,— каждый считал, что он здорово тут выгадал, а через час по селу пополз слух: «Ермак хочет жениться на Дашке гузенной»,— престарелой дочери сельского богача.
В тот вечер мать рано уложила меня спать, а сама долго металась в полутемной хате, натыкаясь на углы стола и скамейки.
— Ты захворала, мам? — спросил я.
Она порывисто остановилась спиной к моему сундуку и, раскинув руки, бесшумная, ни своя и ни моя, приколыхалась ко мне и стала целовать солеными, распухшими губами. Затем на моей шее торопливо и туго сжались ее руки, и я сперва задохнулся, а потом увидел большой и жаркий, малиновый круг и в нем Ермака, себя и еще Кольку…
Не знаю, как это Ермак очутился в ту ночь на речке — возвращался, видно, домой с гулянки,— но он не дал матери утонуть. Он принес ее на руках к нам в хату мокрую, облепленную тиной. Над моим сундуком мать вспомнила что-то и закричала тягуче и страшно. От ее крика я ожил, подскачил к Ермаку и укусил его за короткий, горьковатый палец.
— Дур-рак! — удивленно сказал Ермак, но не оттолкнул меня, не ударил.
— Уйди! Уходи, погубитель ты моей жизни! — стонала на скамейке мать и судорожно прижимала меня к себе.
Ермак ушел, а мы с матерью так на скамейке и дождались утра.
На второй день Ермак с Колькой скрылись из села. Одни говорили, будто ударились они в казаки, а другие — на шахты. В нашей хате наступили покой и грусть, только на улице мать стали называть с тех пор «утонницей».
К Никифору Хомутову накрепко прилипло прозвище «храк», потому что не любил он его и злился. Жил он одиноко сразу же за тыном, и хаты наши здорово были похожи — серенькие, притихшие, как две испуганные куропатки.
Меня что-то сильно влекло к этому большому белобрысому человеку,— наверное, доброта его: он научил меня ездить верхом на «Моторихе», свил пеньковый кнут и подарил косенку — самодельный ножик из порванной косы.
По утрам, завидя меня издали, Хомутов совершенно серьезно спрашивал:
— Ну как, Петух, дела? Жив?
— Ага! — отвечал я и в свою очередь осведомлялся: — А ты тоже жив, дядь Никифор?
— Тоже,— удостоверял он, но однажды раздумчиво сказал, облокотившись на тын: — Пожалуй, зря я сюда ехал, Петух… Плохо тут у нас! Хотя, с другой стороны — родина!..
Я не много уразумел из его слов, но все же сказал:
— Скоро у нас помидоры поспеют, так я тебе принесу вот сколько, дядь Никифор!
Он поглядел на меня внимательно и спросил:
— Да тебе сколько годов-то?
— Сёмый пошел…
— Седьмой, стало быть… Эх ты, Петух-Петух! Заклюют тут тебя разные коршуны…
Иногда Хомутов заходил к нам в хату, но сидел как маленький: плутался в словах, глядел в земляной пол, отказывался от помидоров. После его ухода мать чему-то тихо смеялась, а потом задумывалась.
Как-то он пришел к нам испуганно-решительный и даже со мной поздоровался за руку. На непокрытый стол поставил большую, темную бутылку и проговорил одним духом:
— Вот, Наталья Сергеевна. Живем мы рядом, одни… И я давно уже хотел… Думал… Одним словом — идите за меня замуж! Я вот и его полюбил как… как своего,— показал он на меня и хотел сказать еще что-то, но мать подошла к нему почти вплотную — высокая, стройная и красивая.
— Никифор Гаврилович! — сказала она спокойно и четко.— Нешто я не знаю, что вы хороший человек? Но с сердцем своим, Никифор Гаврилович, не совладеешь… Нет. Спасибо вам за ласку, а… а ходить к нам больше не надо. Не надо, Никифор Гаврилович. Люди — злы, да я и сама не хочу этого…
После того Хомутов не появлялся у нас, зато я не переставал ходить к нему. Иногда я заставал его у печки — красного, смущенного неумелым обращением с горшками.
— Вот, Петух, кулеш варганю себе,— сообщал он и улыбался широко и добродушно.
— Женился бы ты, дядь Никифор,— подсказывал ему и добавлял: —На том конце, небось, тоже есть хорошие бабы… Не одна же моя мать только, правда?
Хомутов наклонялся к устью печки и оттуда спрашивал:
— Думаешь, не одна?
— Не одна, дядь Никифор. Да и ты уже вон какой вырос…
— Это верно, вырос,— соглашался он.— Да только, видишь ты, какое дело… Человек я бедный. И некрасивый. Вот оттого и… Давай-ка лучше кулеш есть, а?
Я по-взрослому скрывал в душе тайную радость от того, что мать не пошла за Хомутова замуж,— тогда нашей дружбе с ним пришел бы конец.
Из Ермаковой хаты кто-то унес сперва двери, потом рамы. А в один ненастный день, к непонятной для меня радости матери, хату разнесли миром легко и скоро,— бревна были трухлявые. Хомутов пробовал уговорить разорителей — хозяин же может возвратиться, но его не послушали.
А через три года Ермак вернулся взаправду. Он въехал в село в расписной повозке на железном ходу, которую мужики назвали «тавричанкой». Везли ее два вороных поджарых мерина. В повозке был подросший Колька, новая четырехрядная гармонь и будто бы много денег, потому что ни в каких казаках Ермак не был, а работал в шахте, возил на себе сани с углем, за что ему здорово платили.
Остановился Ермак на другом конце села и даже не спросил никого о своей хате — где она? Целую неделю он гулял, угощал мужиков водкой, но к нам не заглядывал. А мать в эти дни раскраснелась, помолодела и то и дело принималась петь «Страдание». Я знал, почему она такая стала, и за обедом, когда она, задумавшись, позабыла погасить на лице улыбку — тихую и мягкую, как колокольчик повилики в последний день цветения,— я с мужской убежденностью сказал ей:
— Дурочка ты какая-то у меня. Большая, а ума нажила вот столько! — показал я ей на свой мизинец.
Наверно, я не перестал бы с тех пор учить мать жизни, если бы она прикрикнула тогда на меня, заругалась. Но она виновато поглядела в мои глаза и призналась как взрослому или как своей подруге:
— Ну что же я поделаю? Нешто это от меня? Как же ты не поймешь?
Непостижимо быстро построил себе Ермак новую хату и покрыл ее красной жестью. Он поселился километрах в двух от села, на опушке Кашары — стройной березовой рощи, густо поросшей орешником и крушиной. В самой середине рощи, на круглой лужайке, Ермак рассадил несколько рамчатых ульев, которые купил в соседней деревне. Вместе с пасекой он привез для присмотра за Колькой старую, некрасивую женщину и в тот же день зачем-то прислал ее к нам. Мать спокойно и пристально оглядела ее и на прощание дала свой красный платок в белую горошину.
Веселости же у матери хватило ненадолго. Снова, и теперь уже чаще, чем это было когда-то, она грустила, плакала и часто жаловалась мне на резь в сердце. За ночные вздохи ее, за то, что в летние дни она подолгу вглядывалась из-под руки в сторону Кашары, где в знойном мареве полыхала, дрожа, красная крыша Ермаковой хаты, а ей все чудился там пожар; за то, что нас с Колькой звали в селе ермачатами и мы были до капли похожи друг на друга, и еще за что-то, смутное и непонятное мне самому, я жгуче невзлюбил Ермака.
Когда Хомутова выбрали членом сельсовета, я обрадовался — думал, что он разбогатеет теперь, но в жизни его все осталось по-прежнему. Возвращаясь из школы я сразу шел к нему в хату. Мы читали вдвоем Майн Рида, пекли картошку, толковали о жизни. Потом вечером, поили «Моториху», задавали ей корм на ночь и прощались до завтра.
Мне очень хотелось сделать для этого человека что-нибудь большое и хорошее — подарить, например, новый пиджак, потому что ходил Хомутов в рыжем и некрасивом зипуне, но где же мне было взять этот пиджак? Я и сам ходил в материной кофте.
Как только стаивал снег, я порывался бросить ходить в школу,— можно было наняться к кому-нибудь побогаче стеречь овец и заработать метров пять домотканой материи. Но Хомутов не разрешал мне это.
— Не дури, Петух! Пошли они к чертям со своей материей. Проживем и так. Учись до конца!..
Летом Хомутов постоянно брал меня с собой в ночное. До пастбища было версты четыре, и я всегда ехал верхом на «Моторихе», а он шагал рядом. Кобыла разжирела у нас, стала круглой и резвой, но я замечал, что Хомутов недолюбливает ее. Однажды он сказал мне:
— Все-таки досталась она мне неправильно, Петух. Почти что за так. Были б деньги — отнес бы я ему…
Это он говорил о Ермаке, и я возразил:
— Как же за так! А «храк»?
— А ну его к черту! — недовольно отмахнулся Хомутов.
Желая исправить свою оплошность с «храком», я сказал:
— Зря только ты не одолел Ермака, дядь Никифор. Помнишь? Ты бы взял тогда и подставил ему ножку, да руками ка-ак двинул от себя, он бы ка-ак резанулся!..
Хомутов насупился, поглядев куда-то в сторону, и произнес строго:
— Ты не говори о нем так, слышишь?
— Отчего? — удивился я.
— Так. Нельзя тебе,., А я свое взыщу с него. Придет время — и взыщу.
Почему-то я не поверил тогда угрозе Хомутова, а случай «взыскать» с Ермака представился нам скоро, буквально через несколько дней.
На опушке Катары паровал клок хомутовской земли, и мы собрались взметать его,— с вечера приготовили плуг, налили в бочонок воды, завернули в капустные листья хлеб, огурцы и соль.
— Ну, гляди, не опоздай, Петух. Как только забрезжит — вставай,— предостерег меня Хомутов.
Но я проспал, потому что ничего не сказал матери, а Хомутов не решился зайти к нам на заре в хату. Выехали мы, когда солнце взошло от земли на целый дуб. Над «Моторихой» вились оводы, она крутила хвостом, отфыркивалась и то и дело порывалась на рысь.
— Вся в хозяина, стерва! — сказал Хомутов, сдерживая кобылу.— Тот тоже такой: аршин роста, а прыти на троих…
Земля была сухая, звонкая, заросшая сурепкой и пыреем. Уже на третьем круге «Моториха» потемнела от пота. В знойном, неподвижном воздухе отчетливо слышался натужный гуд Ермаковых пчел, пахло душным цветом гречихи, привялым орешником и мятой.
Все, что произошло вскоре, было для меня как вспышка молнии — ярко, коротко и жутко. «Моториха» как-то не по-лошадиному взвизгнула, поднялась на дыбы и в диком галопе рванулась по полю в сторону Кашары, в кусты. Сзади нее волочился плуг и запутавшийся в вожжах и постромках Хомутов. Я опомнился и бросился вслед лишь тогда, когда этот грохотный и пыльный смерч скрылся на опушке рощи…
У берез не было теней,— наверное, их белые стволы насквозь просвечивались солнцем. Только под бугром, у самой Ермаковой пасеки, в кустах орешника, копился зеленый сумрак и прохладная тишина. Там я и увидел «Моториху». Она лежала на, спине, высторчив кверху ноги и странно шевеля ими — каждой отдельно. В ее мелко подрагивающем розовато-синем животе тяжко увяз отвал плуга. На меня — немого, искромсанного испугом и жалостью — «Моториха» глядела огромными, живыми глазами, моргала и плакала… Хомутов стоял рядом — бледный, большой, оборванный. Из обнаженного правого плеча его текла кровь. Он меня не видел, когда шагнул к пасеке. С дымарем в руках и с сеткой на голове там стоял Ермак и глядел в нашу сторону. Я притаился в кустах, а Хомутов перепрыгнул изгородь и пошел к Ермаку. Тот снял сетку и спокойно ступил ему навстречу.
— Распустил своих насекомых тварей, гад! — сквозь зубы сказал Хомутов и левой рукой неловко ударил Ермака в грудь.
— Погоди… ты что это? — спросил Ермак, но Хомутов тем временем ударил его снова.
И тогда я враз все понял: «Моториху» ужалили пчелы, оттого она взбесилась и понеслась. Вот, оказывается, почему Хомутов говорил мне, что пахать тут надо только рано утром или вечером, вот зачем он несколько раз предупредил меня, чтобы я не проспал!
Моя вина показалась мне такой большой и неизбывной, что я не имел даже сил заплакать,— душу мою придавило предчувствие новой беды — конца нашей дружбы с Хомутовым. Теперь уже ничто не могло спасти ее, и рядом не было человека, который бы наказал меня за сделанное себе несчастье. Мне было слишком тяжело и плохо с собой, и, схватив куст крапивы, я принялся больно опалять ею свои щеки, нос, губы…
Это заняло каких-нибудь две минуты времени, и когда я снова взглянул в сторону пасеки, то глаза мои схватили прямой и быстрый выпад руки Ермака и падение Хомутова. Он не спеша и мягко осел на колени и закачался, пытаясь встать, и если бы Ермак ударил его еще раз, я, наверно, не вылез бы из кустов и продолжал наблюдать за поединком дальше. Но Ермак не ударил. Наклонившись к Хомутову, он сказал тоном укора:
— У тебя же плечо разбито, рюха!
Я понял, что он пожалел Хомутова, и первое, что во мне ворохнулось, было чувство чего-то почти нежного к Ермаку, но затем оно сменилось чем-то обидным и гневным. Я выбежал из кустов и крикнул:
— Ты чего дерешься, Ермак, черт! Вот я тебе как врежу палкой, так будешь помнить!..
Он меня узнал сразу, рывком угнул голову и зачем-то спрятал руки в карманы. Хомутов поднялся и пошел прочь.
— Ты зачем тут? — негромко спросил меня Ермак, сам не двигаясь с места.
— А твоя, что ли, Кашара? — ответил я.
— Ну, иди в курень, раз пришел…
— Я не к тебе пришел! Мы приехали пахать парину, а твои пчелы взяли и зажрали нашу…
Передо мной всплыли розовые глаза «Моторихи», я заревел и побежал вслед за Хомутовым.
— Погоди! — позвал Ермак.— Мне надо сказать тебе что-то…
За Кашарой я догнал Хомутова и долго шел сзади, потом пристроился сбоку и взял его за руку. Домой мы дошли молча.
Прошел еще год. Я был пионером, носил буденовку и сильно гордился своей близостью к председателю сельсовета Никифору Гавриловичу Хомутову. Мне было хорошо и радостно от того, что он посильнел в словах и жестах, одевался в кожанку, ездил на казенных дрожках, а меня называл Петром, как большого. Но встречались мы теперь редко: Хомутов часто и надолго отлучался из дома.
Колька Ермаков сидел со мной в одном классе, и не проходило дня, чтобы мы не подрались с ним, потому что между нами не было победителя.
Незаметно, небыстро и тихо угасала мать. Без ее и моих просьб Хомутов несколько раз привозил из города доктора. Тот находил ее здоровой, но оставлял
какие-то сладко пахучие лекарства, от которых нельзя было отогнать Катьку — нашу старую ленивую кошку.
А Ермак по-прежнему будоражил по ночам село протяжным плачем гармони, изредка заходил к нам, когда меня не было в хате. Жил он вольно, никого не таясь и ни перед кем не заискивая, отдавал в работу своих вороных меринов безлошадным мужикам, и те за это пахали его землю.
За красивую крышу хаты, за «тавричанку» и пасеку проникались сельские богачи уважением к Ермаку, забывали старые и не замечали новые его причуды.
Как-то перед самой жнитвой лавочник Кузьма Веревкин, у которого Ермак когда-то пас овец, заманил его в гости и целую ночь угощал брагой и дружбой. А через неделю Веревкин с сыновьями пятериком возил с поля снопы. Дорога шла в гору мимо нескошенной десятины Ермаковой ржи. На потеху всем голый — в одних штанах только — Ермак налаживал косу в дальнем конце своего клина и, завидя возы лавочника, крикнул:
— Кузьма Иванович! Дорогой человек! Погоди!..
Без сердечной боли хороший хозяин не остановит свою лошадь под тяжестью на крутом месте, а тут пять лошадей, но что было делать? Веревкин натянул вожжи — он ехал передом — и выжидаючи свесил голову с воза:
— Ай стряслось что, Герасим Андреич?
— Погоди! — просил Ермак, не торопясь подбегая к дороге.— Понимаешь, горе какое! Взял из дома яйцо, а разбить не обо что. Так я вот об твою повозку. В знак нашей дружбы и уважения…
— Сукин ты сын!— не сразу сказал лавочник.— Был ты раскурдяем — им ты и остался!..
— Спасибо, Кузьма Иванович! — притворно низко кланялся Ермак,— дай бог тебе здоровья, а жене твоей овдоветь!
— За что, лахудра? — потерянно спросил Веревкин.
— А все за то же, уважаемый мой! За прежнее… А еще через неделю Ермак навсегда потерял себя в глазах тех, кто понимал толк в червонцах: он раздал бедноте мед и будто бы сделал это кому-то назло, а себе на кураж.
Произошло это так.
На Спасов день, когда каждой семье полагалось есть мед, от Кашары к селу понеслась «тавричанка». Она была убрана ветками берез и кленов, в хвостах и гривах меринов плескались красные и голубые ленты. Бричкой правил Колька, а Ермак, хмельной и веселый, сидел на большой бочке, рвал меха гармони в удалом «камаринском». Под окнами хат без ворот и заборов Колька лихо осаживал коней, а Ермак кричал:
— Налетай на мед с горшками и кувшинами!
К нашей хате Колька подъехал медленно. Ермак сошел с брички, подхватил на руки ведерный бочонок и, нелегко повернувшись, взглянул на наши окна как-то виновато и крадучись.
Я с ним не встретился. Я спрятался в огороде и долго там плакал под огневыми головками подсолнухов… Тогда я и понял, что рядом с крутой и темной обидой к Ермаку во мне живет ревнивое желание походить на него, подражать его непокойной и непричесанной душе, его приметному самочинному облику. И была такая минута, что стоило ему обойтись со мной ласково, поманить-покликать нас с матерью,— принес бы я ему в ладонях свое сердце, переполненное пестрой смесью горячих чувств, название которым, пожалуй, и не придумать!..
Но этого не случилось.
Приближался тысяча девятьсот тридцатый год.
Все то новое и большое, что несло время в наше село, заключалось для меня в одном человеке — в Хомутове. Теперь он казался мне слишком значительным, сильным и смелым — почти загадочным, и я искренне дивился тому, что не замечал всего этого в нем прежде. По примеру старших, я начал испытывать к нему тихое почтение, смешанное с непонятной скованностью и застенчивостью. Это губило давнее и мне нужное — нашу свободную и равную дружбу. При встречах с Хомутовым я уже не делился с ним всеми своими радостями и горестями, а больше помалкивал. Он, видно, заметил во мне эту перемену и однажды, когда я впервые назвал его по имени и отчеству, рассердился:
— Ты что-то стал дурить, брат! Какой я тебе, к чертям, Гаврилович! Мне это от кулаков надоело слушать!..
— А ты больше не будь сам таким! — облегченно попросил я Хомутова.
— Каким? — изумился он.
— Ну… чужим и умным. Будто городской уполномоченный…
Я видел, что мои слова понравились ему,— много ли человеку надо! — но все же он сказал:
— Делов у меня много, Петр. Тут поневоле поумнеешь… Нынешней ночью опять пленум,— он как-то не по-своему нахмурился, отчего снова отдалился от меня, и вдруг решил: — Вот что. Давай-ка ввязывайся в работу по линии сельсовета. Не хватает у нас членов ударных бригад… Ты хотя и несовершеннолетний, но зато… Одним словом, нужен будешь. Приходи завтра!
И три дня я почти не ночевал дома, свозя добро раскулаченных в сельский кооператив. С этим делом я справлялся легко и радостно,— в моей жизни мало было развлечений, захватывающих дух,— разве только качели? А на четвертый день наша бригада во с Хомутовым собралась в Кашару.
По какому-то молчаливому уговору с Хомутовым у нас никогда не заходила речь о Ермаке. Не назвали мы его имя и в этот день, только перед самым отъездом Хомутов спросил меня:
— Может, останешься дома?
— Зачем?
— Ну… матери, может, понадобишься. Мало ли.
Но я поехал.
Ермака мы встретили на дороге между селом и Кашарой. Он мчался куда-то верхом, а поравнявшись с нашими подводами, задержал мерина, в упор взглянул на Хомутова.
— Ко мне?
— Да! — твердо сказал тот.
— Та-ак…— раздумчиво произнес Ермак.— Значит причислил меня к чужим?
— Ты сам себя причислил,— глядя куда-то в сторону, ответил Хомутов.— Наемную силу держишь? Бедноту эксплуатируешь? Чего тебе еще?..
Не спеша и пристально Ермак оглядел каждого члена бригады, а натолкнувшись взглядом на меня, вельнул бровями, тронул мерина к Хомутову.
— Мальчишку зачем везешь? Эх, Никифор, ошибку делаешь! Не думал я, что ты… ходишь для меня в душе с этим!..
— Ладно, хватит! Поехали! — сказал Хомутов и вдруг туго прижал меня рукой к себе…
Во дворе Ермак спрыгнул с мерина и бросил поводья на колени Хомутову.
— Бери. Второй в лесу. Бричка вон, хата — вот!
— Возьмем, не беспокойся,— пообещал Хомутов и первым ступил в хату. А я побежал на опушку рощи, потому что снова, как тогда на пасеке, во мне вспыхнул и не хотел гаснуть трепетный огонек чего-то хорошего к Ермаку. Наверно, я не справился бы сам с этим своим ненужным мне тогда ощущением, если бы не Колька. Он подошел ко мне не всегдашней ермаковской походкой с откинутой головой и руками, готовыми «дать», а так, будто я был трудный пример по арифметике. «Ага, попались!» — подумал я, и все во мне сразу встало на прежнее место.
— Знаешь чего? — шепотом сказал Колька, глядя мне в ноги.— Возьми медведя и вынеси мне… Он в чулане на полке. А то «храк» себе заберет. Ладно?
Медведя этого — ростом с живую собаку — я видел раньше, когда Колька привез его с шахт, но у него давно лопнула спина и передние лапы, поэтому я сказал:
— Черт с вами, забирайте. Не жалко. А на Хомутова ты не бреши. Мы себе ничего не берем! Все идет в кооперацию бедному народу, понял?
У крыльца в согласном, деловом молчании курили члены нашей бригады, стояла запряженная «тавричанка», и на ней, поверх подушек, пылала перламутром клавишей гармонь. Дверь в хату была открыта настежь. Я остановился на пороге в тот самый момент, когда Хомутов потянулся за ружьем, висевшим на стене в углу, где у других были иконы.
— Повесь на место! — сразу же раздался тихий и внятный голос Ермака. Он стоял у дверей чулана — невысокий, кряжистый, навсегда в чем-то уверенный. Хомутов качнул на руках ружье, медленно обернулся к Ермаку и оглядел его не то с удивлением, не то с вызовом в прищуренных глазах. Пальцы его левой руки, сжимавшие ствол ружья, все больше и больше белели от натуги, а покрывавшие их рыжие волоски встали торчмя. Ермак, как во сне, отделился от дверей, коротко зажмурился и как стопудовую тяжесть отнес руки за спину.
— Повесь… будет кровь, Никифор! — просто и страшно сказал он Хомутову, и мне показалось, что он сейчас упадет,— так мертвенно бледны были его щеки, нос, губы и даже глаза.
А Хомутов почему-то молчал, не двигался с места и не отпускал ружье. Он продолжал с прежней напряженностью глядеть на Ермака, подходившего толчками к нему сбоку.
Может быть, только я один услыхал слово, в шепоте упавшее с белых губ Ермака,— он сказал: «Ну?» — и, может быть, только я один понял, что оно значило. Я подскочил к Хомутову, опалясь горячим ужасом, и, схватившись за ствол ружья, крикнул:
— Отдай, дядь Никифор! Скорей!
Хомутов не сразу отпустил ружье,— я раза два изо всех сил рванул его к себе, и когда оно было у меня, Ермак стоял с нами рядом и тяжко клонился левым плечом вперед, готовясь к чему-то.
— Не надо! — закричал я, протягивая ему ружье.— Не надо!
Он мотнул головой, выпрямился и осторожно принял ружье из моих рук. Потом закинул его за спину и тоном, которому я не мог не подчиниться, приказал:
— Иди сюда!
В сенях, куда мы вышли, он сунул руку в карман и, не оборачиваясь, протянул мне красную пачку тридцаток.
— Отдай матери!
Вернувшись в хату, я показал деньги Хомутову.
— Где ты их взял? — строго спросил он меня.
— Он дал… сказал — матери…
— Ну и спрячь,— впервые разозлился на меня Хомутов.— И отдай! Дур-рак!
Я отнес Кольке медведя и почему-то полем, а не по дороге, медленно побрел домой.
За Кашарой дотлевало небо. Говорили, что там, верст за сорок от нас, начинались дремучие леса, название которых всегда почему-то будило во мне неосознанное желание уйти куда-то вдвоем с матерью…
В хате уже давно плавали звонкие потемки, верещал за печкой сверчок, и по-живому всхлипывала квашня под лавкой.
Я сидел на подоконнике и ждал мать.
А подо мной, на улице, кто-то тоже давно и призывно свистел в половинку ореховой скорлупы. Я выпрыгнул в окно и узнал Кольку.
— Чего ты? — спросил я его издали.
— Так,— сказал он и присел на завалинку.— Хочешь орехов? Молозивые, а хорошие. На!..
Был тот задумчиво чуткий час, когда в селе додаивали коров и собирались вечерять. Над речкой всходил пар и растекался по садам и огородам,— наступало самое время отрясти чью-нибудь яблоню. Я только что собрался предложить это Кольке, но он проговорил вдруг:
— Ну… я пойду. Утром мы с папашкой уходим…
— Далёко? — по возможности бесстрастно спросил я.
— Опять на шахты… Что ж нам теперь тут… Ну, пока, Петьк!
— Пока,— сказал я.
— Может, когда-нибудь встретимся, правда, Петьк?
— Может,— сказал я и долго слышал, как грустно шлепали по пыли босые Колькины ноги…
…А матери все не было. Не пришла она и утром, и днем, и вечером. Только на четвертый день сельсоветчики нашли ее в речке аж в конце села — водой, видно, отнесло. Похоронили мы ее с духовым оркестром — Хомутов так решил…
Мне тогда шел двенадцатый год, но желание встречи с Ермаком у меня было взрослое…
…За десять лет, проведенных мною после не в одном и не в двух городах, я получил не десять и не двадцать писем от Хомутова. На мои торопливые сообщения о том, что я жив-здоров, он писал длинно и обстоятельно обо всем на свете и под конец опять стал называть меня «Петухом» — старел, видно. Жил Никифор Гаврилович по-прежнему на старом месте, только работал не в сельсовете, а в МТС — возглавлял партийную организацию. Оттого ли, что он чувствовал себя не совсем вправе или берег меня от ненужных воспоминаний, а может, самолюбие ему мешало, но только он ни разу не намекнул мне о приезде в село, о встрече. А я ждал этого и потихоньку, копил ему любовь, а себе деньги на дорогу. Но война помешала мечте.
Прямо как в солдатской песне,— был я на Волхове, дрался на Ладоге, отступал, правда, но не один, а со всеми, потом долго лежал в госпитале.
Когда рана моя присохла, враг уже пятился назад, и далеко от Москвы я догнал свою часть. Но оттуда меня направили в штаб фронта.
— Лейтенант Выходов! — сказал мне там полковник, хотя был я сержантом роты связи,— завтра в два ноль десять вы отбудите в партизанский отряд, дислоцированный…— полковник назвал леса, что были за Кашарой и которые манили меня когда-то и куда-то…— Указания, погоны, документы и снаряжение получите сейчас же у майора Младенцова. Все!
Было совсем не заманчиво впервые лететь на самолете, когда впереди, с боков и сзади него бесшумно и медленно распускались в темноте желто-малиновые тюльпаны снарядных разрывов. Не испытал я особого восторга и в тот момент, когда сопровождающий уверенно помог моему мужеству у люка…
В госпитале я читал в газетах, что в таких случаях парашютистов обнимают и бурно тискают, но встретившие меня недалеко от сигнальных костров четверо партизан сказали всего лишь два слова:
— Пошли, браток!
Шли мы долго. Лес иногда расступался, то становился еще темнее и гуще, и я порядком устал. Шедший все время впереди низенький партизан наконец остановился у двух исполинских сосен и проговорил:
— Вот тут. Лезь.
— Куда? — не понял я.
— Вниз. По порожкам.
Я полез, насчитал восемь ступенек и догадался, что это командирская землянка. Вошел я в нее без стука,— дверь заменяла плащ-палатка,— и остановился, ослепленный яркой карбидовой лампой. По левой стене землянки тянулись березовые нары, по правой висело оружие и карта мира, а посередине стоял стол, и за ним, на белом круглом чурбаке спиной ко мне сидел человек в брезентовом пиджаке и прямо из котелка ел картошку.
В спину ему я и доложил о своем прибытии.
Он обернулся всем корпусом, по-бирючьи, а я невольно шагнул в сторону — то был Ермак! Он глядел на меня и, сидя, дожевывал, должно быть, горячую картошку — черная борода ходуном двигалась на его худых скулах. На столе, рядом с лампой, козырьком ко мне лежала кожаная фуражка, и на ее порыжелом околыше прижилась маленькая солдатская звездочка. Я стал на прежнее место и зачем-то сильно прижал руки к бокам.
Ермак постарел, изменился.
Он показался мне значительно ниже ростом, чем был когда-то, а в глазах уже не было прежних озорных искр,— глаза выцвели, выветрились и сидели глубоко, покойные и внимательные. Без прежней упругой легкости, а как-то тяжело и неспоро он подступил ко мне и спросил хрипловато, обрадованно:
— Ты?
Я понял, какое ответное слово хотелось ему услыхать от меня, но слову этому мне надо было учиться с детства, а не в двадцать два года, и потому я повторил свой рапорт:
— Товарищ командир! Лейтенант Выходов прибыл в распоряжение отряда. Вот мои документы!
— Не надо,— угасше сказал Ермак.
В остаток ночи я понял, что не смогу до конца и точно выполнить задание Большой земли: мне было не под силу осмыслить увиденное,— в сердце приютились недоумение и тревога.
Наша радиосвязь с майором Младенцовым должна была начаться лишь через три дня, но я решил во что бы то ни стало вызвать его сегодня же. Текст шифровки в уме получался длинным и путаным, после каждого моего слова о Ермаке у майора непременно возник бы нелегкий, должно быть, вопрос ко мне, и я вспомнил, что не представился еще комиссару отряда, если он только есть у Ермака, не переговорил обо всем с ним.
Утром я снова по всем правилам устава обратился к Ермаку с вопросом — как мне повидать комиссара отряда.
— А, да!— произнес он раздельно,— комиссаром у нас Хомутов…— и, выждав столько, чтобы мы встретились и разминулись глазами, докончил: — Никифор Гаврилович.
Это хорошо, что мы поглядели в глаза друг другу,— иначе я оскорбил бы Ермака за неуместную шутку. Но он говорил правду.
— Ага! — выдохнул я.— Ну, теперь все верно! Теперь…— и, поздно поняв, что говорю не то, что нужно, и могу сказать еще и не такое, я приложил руку к пилотке и попросил разрешения уйти из землянки.
…Хомутова я нашел скоро.
Он тоже постарел, но, как мне показалось, раздался в плечах и вырос. Звонко и радостно, как на параде, я доложил ему о себе. Неумело — ладонь лодочкой — Хомутов держал у виска руку, смешно двигал лохматыми, выгоревшими бровями, а глазами торопил — кончай!
— Петух!.. Чертяка ты мой родной! Ну здравствуй же!..— Обнимались мы долго и крепко. Хомутов лупил меня ладонями по спине и прятал глаза. Растрогался и я — близок и дорог был мне этот человек, большой и нужной ношей лежала в моем сердце мужская бессловесная любовь к нему…
— А ты уже видел… командира? — вдруг спросил Хомутов.
— Да,— ответил я, и оттого, видно, что рядом с Хомутовым незримо стояло мое детство, во мне с прежней болью шевельнулось давнее и нелегкое чувство к Ермаку.— Надеюсь, что мою работу в отряде будешь контролировать ты,— сказал я.
Хомутов промолчал, глядя себе под ноги, и тогда я спросил почему-то шепотом:
— Скажи, дядь Никифор… о нем знают там?
— Где это? — насторожился Хомутов.
— Ну… командование.
— Конечно. А что знать-то особое надо о нем?
— Все.
— А именно?
— Что знаем мы с тобой…
…Мы шли по топкому, седому мху, и под мягкий шелест шагов Хомутов кидал круглые, до краев наполненные какой-то суровой и непонятной мне силой
слова:
— Знают, что он рабочий. Правильный человек. Русский. Привел сюда группу шахтеров. Да у меня тут было полсотни своих. Встретились. Соединились. Зародился отряд. Сейчас нас шестьсот. Воюем. А о тебе… о матери — не знают.
— Это и знать никому не надо!— перебил я. — Но вот о том, когда он не отдал ружье и чуть-чуть было тебя… помнишь?
— То был не он!— мрачно, почти угрожающе сказал Хомутов и взглянул на меня как на чужого.
— Неправда! Я же был тогда и все видел…
— А я говорю тебе, что это были не мы! Не я и не он, понял?
— Если тебе так хочется, то понял,— ответил я, а через несколько шагов не выдержал: — Приспичило ему, видно, вот он теперь и…
— Что приспичило? Кому приспичило? — остановился Хомутов.— Сейчас всем честным людям приспичило, всему нашему народу… Дур-рак!
Мы долго молчали — я растерянно, а Хомутов выжидаючи.
— Дружите, что ли? — спросил под конец я.
— Видишь же сам — воюем!.. Ну, хватит об этом. Хватит!
Взаимные симпатии у них были большие; они даже называли друг друга уменьшительными именами,— как маленькие.
— Дорвались? — спросил я как-то Хомутова.
Он понял, что я имел в виду, грустно взглянул на меня и сказал:
— Злой ты, Петр… хотя и неповинен в этом! А жизнь все равно заставит тебя понять и принять…
— Кого?
— Отца.
— У меня его нет.
— Не было, рюха! А теперь есть. Есть же он!..
И постепенно я начал отдаляться от Хомутова, потому что его посредничество между мной и Ермаком странным образом губило нашу прежнюю с ним дружбу и мешало теперешней. Он замечал это и сам, но, видно, новым нельзя человеку жертвовать ради старого…
Моя боевая работа требовала частых встреч с Ермаком. Я нехотя приходил к нему в землянку, коротко докладывал суть дела и замолкал.
— Все? — спрашивал он.
— Все,— отвечал я.
— Мало. Ну, садись.
Я повиновался, но тут же доставал перочинный ножик и принимался ковырять доску стола. Со временем в нем образовалась глубокая дырка, но не делать этого я не мог. Сидя, мы изредка взглядывали друг на друга, встречались глазами, и в его я видел усталость и жалобу, а он в моих не знаю что.
В первое время, когда сидеть так становилось невмочь, я говорил;
— Разрешите идти.
Он молча кивал головой и еще больше ссутуливался на своем пне. Потом я ронял уже другие слова:
— Ну, я пойду.
— Ну, иди. Гляди, чтобы все было… в порядке,— наказывал Ермак и, когда я подходил к выходу, просил: — Да, вот что: принеси мне завтра в восемь ноль-ноль вчерашнюю радиограмму…
И все-таки мы оставались с ним чужими. Что же я мог поделать с собой, когда сердце было с детства ранено человеком, которого оно хотело любить и считать своим! Значит, права была мать, когда говорила мне, что «это не от нее». О том, что «это не от меня», понял и Ермак.
Однажды после долгого молчания в его землянке он вдруг подошел ко мне вплотную и спросил глухо:
— Не можешь?
Я прямо поглядел в глаза его — темные, в густой тоске — и сказал:
— Нет.
— За что? — еще глуше спросил он.
Разом, как будто душу мою опалило чем-то горько-горючим и спасение ее было в одном — в плаче, я зарыдал некрасиво, по-мужски противно и выбежал из землянки…
Три дня мы не встречались с Ермаком,— готовился большой рейд на выручку соседнего отряда, попавшего в окружение. Еще через три дня мы достигли вражеского кольца. В течение двух суток шел жаркий бой, и, значит, надо было Ермаку трижды самому кидаться в атаку и погибнуть…
Похоронили мы его в лесу — навсегда успокоившегося, но не умиротворенного: брови над переносьем были сердито сдвинуты, а пальцы рук сжаты в кулаки. .. Пирамидки над могилой не ставили,— в изголовьях рос молодой, но уже окрепший дуб.
С братом своим Колькой я встретился в сорок шестом году. У него был ножной протез и погоны капитана пехоты.