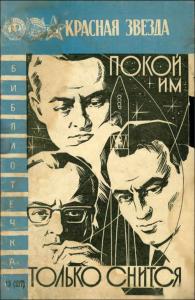

Эта история-быль рассказана на космодроме. Инженер-ракетчик рассказал об одной ночи из жизни академика С. П. Королева. О ночи перед историческим полетом Юрия Гагарина, перед началом новой космической эры.
В ночь перед полетам Гагарина мы покинули, стартовую площадку. С холма оглянулись на ракету, освещенную прожекторами. Стояла она красиво, гордо, по-богатырски удерживая на плечах корабль. Мы не торопились уходить. Спешить некуда. Впервые за многие сутки свободны, и время не сужалось, не торопило, а раздвигалось вширь. Целая ночь впереди. Можно и поразмыслить на досуге.
Что мы испытывали, уходя с площадки? Чувство небывалой ответственности: снаряжали корабль и ракету для первого полета человека в космос. Трудились по-особенному, как в бою. Вечером сказали Гагарину: «Лети спокойно. Даем гарантию: надежность минимум на сто процентов».
Мы ушли, и стартовая площадка притихла, опустела. Словно отгремел бой и осталось одинокое, покинутое поле. Непривычно смотреть. Ничего, осталась одна ночь. Ночь передышки. Мы помахали руками кораблю и ракете: до завтра! Завтра проводим в космос.
Центр притяжения переместился на жилую площадку. Гостиница специалистов залита огнями, распахнуты окна. В окнах — знакомые ребята. Кричат: «Привет трудягам-ракетчикам!» Приветствуют наше шествие. Кто-то выставил на подоконник портативный транзистор, полилась бравурная музыка. Наш ведущий испытатель вдруг погасил улыбку и погрозил специалистам кулаком. Показал на домик космонавтов. В домике погашен свет, полуоткрыты окна. Спит Гагарин, спит его дублер Титов. А мы расшумелись. Как-то сразу померкло это дружеское торжество, захлебнулась музыка.
— Ребята, мы тут хозяева? — спросил ведущий испытатель.
— Мы, ракетчики.
— А поступаем не по-хозяйски. Не вижу заботы о наших космонавтах, — продолжал он. — Смотрите, какое у них неспокойное соседство: гостиница с горластыми обитателями, рядом шоссейная дорога… Прогудит какой водитель, разбудит любого, даже космонавтов.
— Вразумить специалистов? — спросил кто-то.
— Придется, — согласился наш ведущий, и сразу трое ребят побежали к гостинице. — Но это полумера. По-моему, из нашей среды надо выделить ответственное лицо. Дежурного по тишине, что ли. Он и будет охранять покой космонавтов.
Он очень решительный, ведущий испытатель: сказал, что надо выделить «дежурного по тишине», и мгновенно подыскивает кандидатуру. Вижу, косит на меня глаза. Я почувствовал — не избежать мне дежурства, кивнул головой: «Согласен».
Товарищи ушли, а я сел на скамейку около домика космонавтов. Кругом тихо. Гостиница замолкла — кажется, подействовало вразумление наших ребят. А водители автомашин не гудели. Напротив домика космонавтов даже притормаживали движение. Понимали, видно, — нельзя тревожить покой космонавтов. В общем, пока никаких тревог. Я сидел на своем посту, дышал чистым воздухом (оказывается, он пахнет весенними травами) и наслаждался красотой ночи. Запрокинув голову, смотрел вверх. Сколько звезд! В предстартовые дни и голову некогда поднять от земли. А тут все небо перед глазами, живет, дышит надо мной. Узнавал старых знакомых: яркий одинокий Сириус, дорожки Млечного Пути, ковши Малой и Большой Медведиц… «Почему в эту ночь с таким интересом я разглядываю небо? — спрашивал себя. — Ведь оно в общем такое же, как и раньше». И сам себе отвечал: причина одна — необычная эта ночь. В сторону звезд впервые в жизни полетит наш человек. Сейчас он спит рядом, за стенкой домика, набирается сил для своего рейса. Звезды ему, может, пока видятся во сне. Но он скоро пролетит над ними. Еще никто из космоса не видел Землю, звезды. Он увидит первый… Голова кружится, невозможно воспринять ни умом, ни сердцем этот шаг в неведомый мир. Слишком он велик, необычен. Мы привыкли жить устоявшимися, земными понятиями. А теперь, выходит, так нельзя жить. Меняются многие представления. Полет первого космонавта как рубеж, разделяющий нашу прежнюю жизнь от последующей. Словно две половины, две жизни — до и после полета.
По дорожке прошуршала галька: кто-то осторожно прошагал к домику. Я встал: что за полуночник? При свете тусклой лампочки у крыльца разглядел — Королев. Видимо, решил посмотреть на спящих космонавтов. Я представил, как он осторожненько открывает дверь, заглядывает в комнату… К космонавтам у него отцовское чувство.
Я встречался с Королевым обычно в рабочей обстановке, на стартовой площадке. Там он по-деловому строг, требователен. У него весомо, значительно каждое слово. Когда встречали, космонавтов на аэродроме, кто-то проговорил: «Земля подсохла. Уже сеют». Королев ответил: «И мы скоро посеем». Мне понравились эти слова: «И мы посеем»…
На крыльцо он вышел не один — вместе с врачом. Видно, настроение веселое.
— Так и сказал: «Кажется, я ненормальный человек — совсем не волнуюсь перед полетом?»
— Да, и, кажется, расстроился… Такой обнаружил в себе, «психологический дефект». Герман посмотрел на него, засмеялся. Тогда и Юрий заулыбался, — рассказывал врач.
— Гагарину хоть бы что… он «ненормальный», — отозвался Королев. — А я не могу… По молодости лет волнуюсь.
— Не поменяться ли вам местами?
— Я бы с удовольствием. Мне тоже хочется махнуть туда. С каких пор мечтаю. Не пускают. Остается позавидовать Гагарину. Он увидит космос.
Я стоял в тени под деревом и чувствовал себя неудобно — как будто нарочно подслушивал разговор. «Выручили» меня беспокойные соседи. Опять в гостинице рявкнул приемник. Я выскользнул из засады и ринулся к возмутителям спокойствия. Просунул голову в открытое окно:
— Прекратите, ребята!
— Что за указчик нашелся? — задиристо спросил кто-то.
— Королев просил, — почему-то ответил я.
Музыка оборвалась. Слово «Королев» произвело магическое действие. Я повернулся и тут увидел Сергея Павловича. Он подходил к гостинице. Неужели слышал наш разговор?
— Музыка мешает, — залепетал я.
Он тоже заглянул в раскрытое окно, узнал инженеров, кивнул головой. Он всех знает.
— Тихонько, ребята. И мы послушаем. — Повернулся ко мне: — Рубить не надо. Они ведь тоже мученики. Себя успокаивают. Музыка смягчает волнение.
— Сергей Павлович, заходите к нам, милости просим, — наперебой приглашали инженеры. — И ты, Володя…
В комнате три койки, а встретило нас человек двенадцать — объединенное землячество. Пододвинули нам стулья. Один из инженеров подкручивал приемник, выискивал музыку, но почему-то на всех волнах слышалась разноязычная речь. Кто-то сказал:
— Что они, интересно, заговорят завтра?
— На всех волнах будет три слова — Советский Союз и Гагарин, — ответил Сергей Павлович.
— Всколыхнем мир. Сегодня он какой-то сонный.
— Понятно. Еще не знает о предстоящем полете. А то была бы такая музыка…
Все замолчали. Возможно, подумали о завтрашнем старте. Посмотрели на часы: уже начинается «завтра». Второй час утра.
— Мы думали: кто он, Гагарин, необыкновенный человек или самый обычный? — заговорил один из молодых инженеров. — Посмотришь на него: простой, веселый парень. Ничего вроде такого примечательного. А ведь он, а не кто-то другой, первым в истории планеты оторвется на космическом корабле от Земли, вторгнется в царство безмолвия, вечных загадок… Выходит, свершит необычное.
— Я видел — у Гагарина мощное подкрепление. Пятеро молодцов-космонавтов вместе с ним. Они тоже скоро полетят? — поинтересовался другой инженер.
— Гагарин откроет дорогу — многие полетят, — Королев взмахнул рукой. — Первым, конечно, будет потруднее. Они идут в неведомое. Бой с космосом, пожалуй, не легче других сражений, которые вело человечество. Первые космонавты — разведчики. Они должны дать полную картину о силах «противника», чтобы мы знали, против чего бороться.
Вышли на улицу. Рассветало. Но по дороге безостановочно проносились машины. К утру усилился поток. Чувствовалось приближение старта. Отовсюду доносились несвязные звуки. Неусыпен космодром.
Мы поднялись на холмик. Отсюда видна ракета и пристыкованный к ней корабль. Сергей Павлович стоял молча, смотрел. Из-за горизонта брызнули первые лучи солнца, упали на ракету, и она вся засветилась, засияла.
— Знаете, вчера я летал, — заговорил он. — Часа полтора сидел в корабле. В иллюминаторы светило солнце. Казалось: я в космосе… Ну, ладно. Пора возвращаться. Скоро — полет.
Солнце в полную силу вставало над космодромом. Начиналось утро полета, утро необычного, потрясшего мир дня, утро космической эры.

Это новая, рожденная нашим временем профессия — испытатель космической техники. В недавнем прошлом ее не было и в помине. Так же, как и другой славной, героической профессии — летчик-космонавт. Они дети космической эры. Два прочных, самостоятельных звена в одной цепи. А цепь эта гигантская: «Земля — космос».
Летчики-космонавты сразу же заявили о себе в полный голос, на весь мир. У испытателей космической техники скромная судьба. Они были и остались в тени. Их не слышно и не видно — словно невидимки. Они разделили судьбу тех незримых и пока неизвестных героев, которые подняли космонавтов на орбиты, а сами остались на Земле.
Испытатели — разведчики неведомого, авангард космического наступления. Они проложили и прокладывают дорогу для взлета космонавтов. Эти люди все время в пути, держат суровые экзамены, всю тяжесть которых не передашь словами. Каждый эксперимент — это новый бой с неведомым, новое проявление мужества, упорства, воли…
Что они за люди, испытатели космической техники? Давайте познакомимся с одним из них, типичным представителем этого мужественного племени.
Типичный представитель? Откровенно говоря, вначале я был немного разочарован. По рассказам космонавтов, инженеров, врачей у меня сложилось наивыгоднейшее представление об испытателях. Мне казалось: в какой-то мере это необычные люди. Разве может обычный человек, такой же, как мы, выдержать всю тяжесть невиданных испытаний? Начальник испытателей сказал:
— Есть у нас универсалы. Все прошли. Например, Богдан. Кстати, он испытывал космические корабли «Восходы». Подолгу сидел в них, работал, приземлялся…
Это «кстати» меня заинтересовало. Какой он, испытатель кораблей? И вот представьте мое удивление — вижу невысокого, худощавого, с вихрастой шевелюрой, любопытными, по-озорному поблескивающими глазами паренька. Ничего такого в нем нет, что привлекает взгляд. Да, первое чувство — разочарование.
Я встретился с Богданом не один раз и скоро стал смотреть на него уже другими глазами. И не только на него. Понял: у меня было приблизительное представление об испытателях. Но интерес к ним не уменьшался, а, наоборот, возрос. Полезно спускаться с небес на землю. Тогда начинаешь по-иному видеть и настоящее в людях, и их многотрудные дела.
Мне хочется передать, ничего не убавляя и не прибавляя, наш первый разговор с Богданом. Вот что я записал в блокноте.
— Расскажите о своей жизни.
Богдан мнется, пожимает плечами.
— Все слишком просто, не знаю, что и рассказывать, — наконец отвечает он. — Вырос в рабочей семье. Отца у меня нет — вернулся с войны и вскоре умер. Работали мать, брат, сестра и я немного. Я больше учился и занимался спортом. Боксер первого разряда. Что еще? Мне кажется, жизнь моя началась, когда я стал испытателем. Нашел, что ли, сам себя. До самозабвения люблю свое дело. Я весь в нем. Без него вроде и не могу жить.
— А что в нем привлекает?
— Все! — воскликнул Богдан. — Наша работа — это хождение в неизвестное. Идешь на эксперимент и не знаешь, какие ждут неожиданности. В общем и целом многое представляешь. Но ведь все не предугадаешь. Бывает, что и самому надо на что-то решаться. Конечно, без партизанщины. Советуешься с врачами, инженерами. Тут сама обстановка, как нигде, заставляет собрать в кулак силу воли, быть сосредоточенным, хладнокровным. Тут романтика.
— Романтика у вас тоже в почете?
— А как же. Без нее все тускнеет. И дело наше может показаться повседневной, будничной работой. А мы идем на эксперимент, как на праздник. С окрыленной душой.
Часто весь полет в корабле проигрываешь. Нередко с запасом: космонавты летят, скажем, на сутки, как экипаж Владимира Комарова, а мы намного дольше «летали» на земле… Чтобы проверить возможности и техники, и человека.
— После вас в испытанные корабли садились космонавты?
— Я испытывал «Восходы», а «Востоки» — мой друг Сергей, — уточнил Богдан. — Он первый начал, и ему, конечно, было труднее. Первый ведь… Сами понимаете. Я перенимал у него опыт, как бы шел по готовым следам!
Тут я должен сделать маленькое отступление от разговора, передать свое отношение к этому откровенному и честному признанию Богдана. У меня всегда появляется чувство особого уважения к людям, которые не зачеркивают, а, наоборот, возвышают заслуги своих предшественников. На мой взгляд, это самый высокий признак цельности, чистоты, мужественности человека. Поднимая предшественника, он как будто снижает свои заслуги: шел, мол, по готовым следам. На самом деле ничего не теряется в его облике. В моих глазах он лишь возвысился. Теперь я знаю: Богдан и сам, испытывая «Восходы», оставался первопроходцем. Правда, несколько по-иному. Но об этом позже. Вернемся к нашему разговору. Я поинтересовался, что пригодилось Богдану из опыта своего друга.
— Прежде всего — моральный фактор, — убежденно ответил он. Видимо, сам не раз размышлял о примере товарища и пришел к этому мнению. — Тогда, перед полетом Гагарина, было много сомнений. Техника есть техника. А вдруг откажет какая-то система? Тогда космонавту придется летать уже не виток, а длительный срок. Он должен запастись и огромной волей, и силой, и выдержкой, и выносливостью… В общем, показать себя крепчайшим человеком.
Можно ли в корабле провести, скажем, с десяток суток? На этот вопрос и давал ответ Сергей. Его «полет» продолжался длительное время. Он не просто сидел там, а проиграл длительный полет. В корабле повышали и понижали температуру. Он был весь мокрый, потом белье отжимали. Потерял шесть килограммов веса. На своих плечах вынес всю тяжесть полета. И ничего, вышел оттуда с улыбкой. Все его обнимали. Ученые признали: человек способен на многое, ему открыта дорога в космос. Вот что значит моральный фактор!
В чем же показал себя первопроходцем Богдан, испытывая корабль «Восход»? На этот вопрос он сам не ответил — из скромности, возможно: А может, и не видел в своих экспериментах какого-то открытия. Испытал корабль — и все.
— Мое дело — проверить, как ведет себя корабль при земной работе, — сказал он. — Ну, и при посадке. Я приземлялся на «Восходе». «Контрольный эксперимент» — назывался этот полет. Конечно, важны были моя работа, мое поведение. Я был вместо космонавта. А все основное — требования к кораблю, к системам, к приборам, в том числе и мои замечания, рекомендации, — учитывали конструкторы, инженеры, врачи. Вот тут, понятно, были открытия.
Можно рассказать, как Богдан вначале один испытывал корабль, потом вместе с молодым конструктором, с которым и познакомился тут же, «в отсидке», как после трех суток, когда уже оба настроились выходить, им продлили эксперимент еще на несколько дней («сложен был психологический барьер. Требовалось его преодолеть», — говорил Богдан), можно рассказать, как они переступали другие грани… Все это далеко не просто и требовало немалого мужества. Но Богдан видит венец «полета», самое сложное испытания при посадке. Раньше человек не приземлялся в корабле. Впервые такое свершалось. И это сделал Богдан. Вот как он рассказывает о своем приземлении.
— Один я сел в корабль. На место командира. Рядом со мной — манекен, третье место — пустое. Сам привязал себя ремнями. Сижу, жду спокойно…
— Совсем не нервничал? — вырвалось у меня.
— Не поверите… Честное слово, не нервничал, — улыбнулся он. — Я ведь раньше испытал ударные перегрузки. Меня сбрасывали вместе с креслом… Десятки раз. Знаю, как земля проваливается вниз, как сдавливают перегрузки… Я уж был готов к полету. После всех тренировок выработался прочный рефлекс и на удар, и на падение, и на приземление… Отсюда и спокойствие.
— Так вот, сижу, поглядываю в открытый люк, — продолжал Богдан. — Вижу, подходят конструкторы, космонавты… Юрий Гагарин спрашивает: «Высоты не боишься?» — «Нет, — говорю, — я старый высотник. Частенько заглядывал в космос в барокамере, правда, на вашей высоте еще не был». — «Побываешь. У тебя все впереди, хотя и старый высотник». Видно, слова «старый высотник» не вязались с моим возрастом — мне двадцать один год, — они всех рассмешили. Закрыли люк. И конструкторы, и космонавты пожелали мне счастливого полета. Слетал. Подбежали космонавты. Павел Попович говорит: «У меня спина заныла, когда увидел падение вниз».
На лице Владимира Комарова удивление: «Ты улыбаешься?..» В общем, всех почему-то смутила моя улыбка. Вышел я из корабля, сел на стул. И тут посыпались вопросы от космонавтов. Расспрашивали обо всем: какие были перегрузки? Как «вели» себя ноги, руки? Открывал ли я рот при падении?.. Больше всех интересовался Комаров. Он ведь собирался лететь на первом «Восходе». Юрий Гагарин, слушая меня, признался: «Пока все, что мы делаем, не укладывается в голове». Вспомнил, что я чувствовал при его полете. Не укладывалось в голове, что в космосе летает человек. Я был потрясен… Видно, все новое, что происходит впервые, действует необычно, не сразу вырисовывается в нашем воображении.
Мы всегда на пороге чего-то нового. Всегда нас ждет неизвестность. И мы шагаем в нее. Нам надо раскрыть ее до начала полета. На это и уходит наше время, наши поиски. Как поется в песне: «У нас еще в запасе 14 минут…»
Мы идем с Богданом по улице. Шагаем не спеша: не хочется расставаться с хорошей погодой. Утро теплое, ласковое. Дышится легко, свободно. В ближнем сквере на все голоса заливаются птицы. Богдан останавливается, слушает.
— С собой бы взять эти голоса, — говорю я, намекая на его длительный эксперимент.
— И возьму, — отзывается он. — Все утро возьму…
Нос к носу столкнулся с ним какой-то паренек, ругнулся и вдруг встал как вкопанный — на груди Богдана увидел красную с белыми просветами планку ордена Красного Знамени. Это его поразило, Они, видимо, сверстники. Уважительно уступил ему дорогу, проговорив:
— Извините…
Я оглянулся: паренек смотрит вслед Богдану, и на лице у него написано любопытство. Страшно хочется ему знать, за что таких же ребят, как и он, в мирное время награждают орденами Красного Знамени. Некоторое время мы шли молча.
— С чем вы идете?
— У меня одно желание — оправдать надежды всех, кто руководит этим экспериментом, — ответил Богдан. — На меня смотрят, от меня ждут… Как же я могу ударить лицом в грязь? Сделаю все, что возможно. Поверьте, это не фраза, не хвастовство. Все мы, испытатели, идем на эксперименты с таким чувством.
— Один идете теперь?
— Нет, вдвоем. Вместе со мной врач. Кажется, человек подходящий для длительного эксперимента.
— Что значит «подходящий»?
— В любом эксперименте очень важно сходство характеров. Как в горах у альпинистов. Долгие дни и ночи вдвоем… И никого рядом. Все пополам. В такой обстановке самое подходящее, когда люди дополняют друг друга. Лучше, если оба разные по характеру. Один — спокойный, другой — кипучий. Если второй вскипит, то другой смягчит…. И все будет хорошо.
— А если этот врач такой же, как вы?
— Ничего, я приспособлюсь. С разными характерами имел дело. Не ссорились.
— Значит, спокойно идете на эксперимент?
— Мы уж давно приняли на вооружение правило космонавта Николаева: «Главное — спокойствие».
Я понял: Богдан несет в свой новый эксперимент, в свое неведомое зрелое мужество, качества испытателя-многоборца и человека-многоборца. В свои двадцать с небольшим лет он уже опытный, сильный разведчик будущего.
Богдан появился неожиданно, просиял улыбкой:
— Давненько не виделись…
— А где борода?
Мы договорились: он придет с шикарной бородой, чтобы сфотографироваться на память… Ведь не каждую неделю возвращаются с «полетов». А он прибыл все в том же виде — побритый, в модном костюме, легких полуботинках. Словно вернулся с городской прогулки.
— Жалко, но что поделаешь, — развел руками Богдан. — В корабле брился… Каждое утро. Врачи заставили.
Он сел за стол напротив меня. Только теперь, при свете, я заметил, как побледнело, осунулось лицо моего нового друга. Сказал ему об этом.
— Я уж отдохнул… три дня хожу по земле, — улыбнулся он. — Вчера рано проснулся. Встал у открытого окна и долго слушал, как шелестят листья, бегает ветерок по деревьям, поют птицы… Смотрел на синеву неба. Чудесно. Милее всего на свете. После длительных экспериментов по-другому смотришь на мир, на всю жизнь. Выходит, полезны разлуки и встречи.
Я пожалел, что у меня не бывает этих разлук и встреч — все время хожу по земле и, что скрывать, далеко не всегда воспринимаю окружающий меня мир звуков, красок, необычность жизни. Богдан не впервые выходит из сурдокамеры, барокамеры, корабля, после длительной «отсидки», не впервые встречается вот так необычно с солнцем, небом, зеленью деревьев, земными звуками… И каждый раз — удивление, восторг. Значит, чуткая, восприимчивая у него душа. Или это свойство всех испытателей, побывавших в длительном «полете»?
— По-моему, всех, — ответил Богдан. — И не только испытателей. А космонавты? Ведь мы люди. Возвращаясь домой, никогда не перестаем радоваться многообразию жизни.
Вспомнилось, что неделю назад я позвонил на работу Богдану. Мне ответили: «В командировке». Значит, он еще «летал» в корабле. Я подумал: что он, интересно, делает в этот день? Обычное, похожее на предыдущее или что-то другое? В календаре кружочком обвел тот день. Богдан провел рукой по кудрям, задумался.
— День как день, — проговорил он. — Обычный. Начали готовиться к «посадке». А на другой день узнали: еще побудем в корабле… Продолжим наш «полет».
— Тяжелее был другой день?
— Несравнимо.
— Опять преодолевали «психологический рубеж»?
— К этому рубежу нельзя привыкнуть. Всегда по-иному его чувствуешь и заново одолеваешь, — объяснил Богдан. — Утром мы настроились на «посадку». Врач Борис сказал: «В выходной отдохну дома, с семьей. А в понедельник — на работу». Я тоже наметил: в воскресенье поеду за город… Поеду куда глаза глядят, в какой-нибудь лес. И буду бродить целый день, пока не устану…
Только мы размечтались, видим в иллюминатор — промелькнули два озабоченных конструктора, врач, еще кто-то. Почти каждый день они приходили, группировались на командном пункте, спрашивали по радио о нашем настроении. Потом, как обычно, мы докладывали обширную информацию за сутки. Всякие замечания о работе приборов, систем, выводы. Они дотошно расспрашивали. У каждого — свои вопросы. А тут — ни привета, ни ответа. Прошмыгнули мимо, словно и забыли о нас.
Мы забеспокоились. Видимо, какое-то летучее совещание у них. Слышим в динамике вопрос: «Как работают такие-то системы?» Отвечаем: «Отлично». Опять — перерыв. Наконец излагают суть дела: «Нам нужно до конца проверить, как действует эта система, не можете ли еще «полетать»? Ответ ждем через полчаса». Мы переглянулись: «Еще полетать…» Наши планы о воскресном отдыхе рухнули, как карточный домик. Ладно, бог с ним, с этим воскресеньем. Обойдемся без него. Важнее другое.
— Усталость?
— Нет, заметной усталости не было, — уточнил Богдан. — Некоторая «обездвиженность». В корабле не разойдешься — это не квартира. Куда ни повернись, наткнешься на стенку. Движения ограничены: два раза в день делали гимнастику руками, ногами… До трехсот взмахов с резиной. И все. Остальное время лежишь в удобном кресле. Покой, тишина, только стрелка ползет по циферблату. Руки, правда, часто заняты, а все тело — без движения. Немного слабеют ритмы сердца, мышцы теряют прежнюю силу, ухудшается координация движений. И в отдыхе тела есть свой рубеж, за который переступать не очень приятно.
Эксперименты показывают, что уже после двух-трех дней вынужденного «сидения» в человеческом организме заметны кое-какие отклонения от нормы. А у нас — «отсидка». При ограниченных движениях. Это труднее. Кстати, космонавтам при полете еще тяжелее, чем нам. Ко всем земным факторам добавляется невесомость. Она снимает последний «тренер» организма — силу тяжести. Как говорят, положение усугубляется…
Какая же защита от этой «обездвиженности»? Средство только одно — собственная активность. До длительных экспериментов мы вырабатываем необходимые навыки организма. А в полете стараемся их сохранить. С помощью комплекса упражнений. Так что я не перешагнул за «барьер отдыха». После «отсидки» — забегу вперед — вначале стоял на полусогнутых ногах. Ноги не очень слушались. Но это обычное явление. Через час-другой ходил уже тверже.
— Немного, кажется, я отклонился, — с улыбкой продолжал Богдан. — Как видите, частичная «обездвиженность» — далеко не самое главное. Когда я говорил «важнее другое», имел в виду минуты апатии, которые нет-нет да и появлялись под конец «полета». Вся активная работа осталась позади. Количество экспериментов, различных проб — в общем, все дела по программе резко сократились. Мы оказались почти безработными. Все, что можно снять, сняли, упаковали. Ждали команды к «посадке». Не хотелось даже читать.
Кстати, за дни и ночи в корабле я прочитал только три книги — «Дипломат», «Золотой теленок» и еще какую-то, без конца и начала… «Золотой теленок» перечитывал. Часто беру ее с собой в сурдокамеру или корабль. Подходящая книга. Можно хоть посмеяться. Читаю я в корабле немного, хотя и люблю художественную литературу — маловато свободного времени. Да и глаза уставали, сливались буквы. Целый день перед глазами кнопки, приборы, разные указатели. Рябит от них в глазах. Не удивительно: после этого не тянет к книге.
Вот какое положение — и от работы не бегаешь, и работой не занят. Неприятное время для испытателя. Словно после перегрузок повисаешь в невесомости. Всякие мыслишки залетают в голову, которых раньше и в помине не было. И все потому, что ничем не занят. Нет, нельзя испытателю под конец эксперимента оставаться с самим собой, без дела. Это тяжелее всего.
Сколько еще нам повисать в этом невесомом положении? Сутки, двое, трое? Неизвестно. Конечно, мы не откажемся продлить «полет». Раз конструкторам, ученым это надо, какие могут быть возражения! Покажем максимум выдержки.
Это наша задача.
— Не будем загадывать о сроках отсидки, — предложил я соседу-врачу.
— Правильно. Никаких раздумий об этом, — согласился он. — Только давай чем-то займем себя. Лучше всего поиском, как и раньше. Не хаотичным, как в жмурках, а целевым, направленным…
Я хочу уточнить: с соседом-врачом мне не скучно. Характер у него живой, подвижный, веселый. В свободное время он рассказывал такие забавные истории, что я от души смеялся. Общительный человек. Я чувствовал не только его соседство, но и душевную близость. Люблю таких людей, у которых развит бескорыстный интерес к товарищу, чувство солидарности. С ними легко работать, с ними и сам делаешься сильнее, увереннее. И дальше, в продленном «полете» мы бы смогли заполнить разговорами время, не скучать.
Я не скучал и один, когда нес вахту, а сосед спал. Были минуты и отдыха. Лежа в кресле, я как бы видел своих товарищей — испытателей, родственников, раздумывал о жизни. Ведь скучно бывает тому, кому не о чем говорить с собой или с соседом. Но человеку еще нужны целенаправленные действия, поиск. Без них пусто, возникает апатия. Вот почему мой сосед и заглянул «в корень» — занять себя целевым поиском. Шуткам-прибауткам — минуты, активной работе — время.
На командном пункте о нашем «кризисе», безусловно, знают. Но пока молчат. Заодно вместе с согласием о продлении «полета» передаем и просьбу «подкинуть» нам посложнее задачу. Мы требовали больших перегрузок. Уж встряхнуться, поработать, так в полную силу.
— Вначале увеличьте физическую нагрузку, — передали нам.
— Вас поняли, — отвечаем.
Физическая нагрузка, видимо, должна предшествовать какому-то сложному заданию. От нас требовался запас прочности. Мы начали упражнения. Гимнастика — самая приятная процедура. Сто движений ногами и руками. Еще добавок — нам велели увеличить нагрузку. И вскоре начали поступать команды. Мы выполнили полный цикл ориентации корабля, ликвидировали аварийную ситуацию, переходили на ручное управление… Как в настоящем полете! В этих экспериментах было много нового. А новое всегда интересно. Настроение поднялось, как стрелки приборов в корабле. Ужинали с аппетитом. Вот так и преодолели «психологический барьер».
Я далек от стремления обособить, противопоставить эксперименты Богдана другим. Знаю: по важности и сложности условий с ними соперничают и ударные перегрузки, и высотные, и многие другие. Там тоже место действия испытателей. Но, как говорит Богдан, участвовавший почти во всех экспериментах, испытание кораблей — это и особенно трудно и особенно интересно. Он совмещает два понятия воедино. Правда, оговаривается:
— Не всегда так бывает. Как-то я сидел в корабле. Истомился, так и хотелось все бросить, постучаться в двери. Конечно, не постучался. Мы не бегаем с экспериментов, даже с самых нежелательных. Запасся терпением и просидел до конца. Но удовлетворение самое малое. Почему? Настроился по-боевому на сложный опыт. А работа легкая, с малой отдачей. Это не для меня.
Что же для него? То самое, где сложно, где надо думать, искать, побеждать и себя, и препятствия. Иначе говоря, где особенно трудно, там и особенно интересно. Много ли таких экспериментов? Большинство. Последний — не исключение. Кое в чем он по трудности и превосходил предыдущие. Богдан сравнивает:
— Такой насыщенной программы, пожалуй, еще не было. Перерыв сделали только в последние дни, перед «посадкой». О реакции на это послабление и я рассказывал. А в остальное гремя — сплошная «запарка». Мы еле успевали. Одно на другое наплывало: работа с аппаратурой, определение параметров орбиты, радиоразговоры с командным пунктом, записи в бортжурнале… Всего и не перечислишь. Когда выпадал час отдыха, мы принимали его с удовольствием. Но проходило минут двадцать-тридцать, опять брались за работу. Досрочно, выходит. Мы уже не могли без нее жить. Она захватила, целиком увлекла нас. Интересный был «полет».
Проще всего это утверждение Богдана о взаимосвязи, сочетании трудного и интересного объяснить особенностью характера. Такой уж человек — подай ему сложное, кипучее дело, активную деятельность с преодолением препятствий, и он полностью развернется, покажет себя с самой лучшей стороны. Да и характер что-то значит. Без него нечего делать на длительных экспериментах. Иначе он не удастся. Я встречал одного испытателя, который везде молодец — и на центрифуге, и на вибростенде, и на катапульте, и на «перепадах»… А вот на «корабельные» эксперименты не идет. Знает: это не для него. Тут у него не хватит терпения, воли, спокойного мужества. Иначе говоря, характера.
Но характер характером, а главное, по-видимому, в норме поведения. Богдан и его товарищи-испытатели привыкли жить по самым высоким нормам, делать все по большому счету, шагать широко, в ногу со временем. Они проложили и еще проложат немало дорог для взлета космонавтов. На то они и испытатели — разведчики будущего.
Они идут первыми. А первые — самые сильные, крепкой советской закалки люди. Как и те первые, что шли на штурм Зимнего, что строили Днепрогэс, Магнитку, что в сорок пятом году вступили в поверженный Берлин, что строят ныне новые города, преобразуют землю. Они из одного племени, из одного отряда — авангарда наших бойцов ленинской партии и комсомола. С эстафетой, принятой от героев прошлого, они продолжают движение вперед, прокладывают новые орбиты. Они тоже ускоряют историю, побеждают время.
Они — первые, они — первопроходцы. А первым всегда труднее. Но они готовы ко всему. Они — советской закалки люди.

Легковая машина остановилась впритык к тротуару, чуть не задев меня. «Лихач», — с неудовольствием подумал я о водителе и, махнув рукой, зашагал дальше. Тут же забыл о нем, о машине — отвлекли другие мысли.
— Мил-человек, оглянись на ближнего.
Я услышал позади знакомый, с усмешечкой, мягкими нотками голос и встрепенулся: неужели Александр Васильевич, Саша-конструктор? Только он так говорит: «мил-человек», только у него такие бархатистые, улыбчатые «позывные». Этого человека, даже не глядя, узнаешь по голосу. Смотрю: ну, конечно, он и есть. Сидит за рулем «Москвича», состроил дружелюбно-шутливую гримасу на широком румяном, почти мальчишеском лице. У меня уже на языке вертелись обычные при таких встречах слова: «Давненько не виделись…», «А ты цветешь!», но Александр Васильевич не дал их проговорить.
— На ловца и зверь бежит, — сказал он, распахивая дверцу машины. — Садись. Вот тебе мой подарок. — Вытащил из кармана нашу газету, развернул. — Прихватил номерок с твоим очерком. Как будто шестое чувство подсказывало: встречу тебя. Проработай внимательно. Не сейчас, а потом.
Я не удержался, с ходу «проработал» замечания Александра Васильевича. В очерке подчеркнуто его рукой одно техническое слово, которому я давал краткие объяснения, и они не совсем устроили моего приятеля — он набросал длинную резолюцию по всему полю газетной полосы. Оказывается, у одного слова нашлось множество оттенков.
— Теперь я знаю: у меня есть самый внимательный, дотошный читатель, — съязвил я.
— Почитываю… в свободное время, — добродушно, с ухмылкой отозвался он. — Только этого времени у меня почти нет. Вот неожиданно повезло: заболел — пять дней валялся дома. Ну, и прочитал твой очерк. Как не порадеть близкому человеку? — Он повернулся ко мне, уже всерьез дополнил: — Пиши, мил-человек, о людях. Люди — это все, как сказал один мыслитель…
Ему, черту белобрысому, одержимому Саше-конструктору (все друзья, знакомые так и зовут его), легко говорить: «Пиши о людях». Как-то я хотел написать о нем (мы часто встречались на космодроме, подолгу беседовали ночами, и я знаю, насколько интересна, своеобразна, поучительна его судьба, его путь в науку, его поиски), но он решительно воспротивился моей попытке. Не из лишней скромности. Высказал мне свои опасения: «Может получиться перекос. Невольно отделишь меня от товарищей, от коллектива. А я один что? Просто единица. Все мы делаем сообща, и все у нас общее. Если можешь, покажи коллективные поиски… Вот тогда и я встану на место». — «Неужели ты ничего не создал сам?» — не сдаваясь, допытывался я. «Сам — ничего, — отвечал он. — А вместе с коллективом — кое-какие системы для корабля. У нас, повторяю, совместные думания, поиски. Мы и мыслители, и исполнители — и «головы», и «руки» одновременно».
Однажды, в праздничный день, я увидел своего знакомого при «полном параде» — у него лауреатская медаль, ордена. «За что, Саша, получил?» — поинтересовался я. «За то же самое, о чем и говорил, — за свой вклад в общий котел», — ответил он. Я ухватился: «Значит, увидели этот вклад?» — «Увидели… как и у других, — уточнил он. — Не я один получил награды».
Вот тут и попробуй разобраться, что свое, а что общее, — все идет в общий «котел», в общие «системы». И никто не забыт — щедро отмечается творческий труд каждого.
Как прояснить некоторые понятия? Представляю, что такое коллективное действие. Не раз видел, как оно проявлялось на стартовой площадке. Тут сочетались усилия сотен людей, объединенных общей целью космического запуска. В сплаве — знания, опыт, воля, даже выдержка, оптимизм, мужество. Это действительно коллективный подвиг. Но есть еще и коллективное думание, подвиг мысли. Как оно выглядит, трудно представить, понять. Поэтому я и не воспользовался советом Александра Васильевича — показать коллективные поиски.
Машина развивала скорость. Куда едет Александр Васильевич? Спросил. Оказывается, нам не по пути. Он махнул рукой:
— Ладно, сделаем крюк, довезу тебя до места. Когда-нибудь оценишь, на что способен несносный шоферишка…
Только сейчас я заметил: у него нога в бинтах. Видимо, повредил или вывихнул где-то. Он ведь говорил, что пять дней валялся дома, я не придал этому значения. Но по виду его, да и по тому, как он ведет машину, не видно, что страдает.
— Мне повезло, — повторил Александр Васильевич. — Нога — пустяк, заживает. Но зато какие светлые были эти пять дней! Кто-то из больших ученых, кажется, Эйнштейн, советовал каждому человеку почаще садиться на скамейки, чтобы можно было поразмыслить, что-то обдумать… Вот я и воспользовался одной из таких скамеек. Раздумывал на полную катушку: никто не отрывал, не мешал. Жена с утра и до вечера на работе. Меня, кажется, осенили светлые мысли…
— Видишь, все-таки думал один, а не коллективно, — снова ухватился я за старый разговор. — И мысли осеняют одного…
— Все наоборот, — перебил меня Александр Васильевич. — Сегодня позвонили товарищи: у них тоже кое-что проклюнулось. Говорят, идеями у всех полна голова. Вот я и еду на свидание с ними. Проработаем все предложения, варианты. Конечно, до ночи хватит споров. И, возможно, ни к чему не придем. Вполне возможно. Тогда — долгая и упорная генерация идей. Может быть, останутся два-три варианта, измененные, дополненные. Вот они-то и составят основу. Только — основу. А потом — расчеты, документация. До металла еще далеко.
— Так обычно и рождаются новые идеи? — спросил я Александра Васильевича.
— Бывает и по-другому: из двух-трех десятков редких, интереснейших предложений (какими они кажутся вначале) не остается ни одного. В ходе массового обдумывания выясняется, что они «бредовые», основаны на неверных предположениях. И что же? Все начинается сначала.
— Частенько, значит, садитесь на скамейки?
— А как же, — подхватил Александр Васильевич, — прежде чем создать какую-то систему или прибор, продумываем сотни вариантов. Надо предусмотреть все случаи, чтобы автоматика не подвела, не вышла из строя. Все предусмотреть…
Объемным «все предусмотреть» он как бы укладывал в одно целое и сложнейшее — понятие — рождение идей, и годы напряженного труда, где кроме праздников немало и черновой, будничной работы, кропотливой, нелегкой, и точность, надежность, новизну детища конструкторов — космического корабля. Само собой, подразумевал и необычность дерзания людей своего фронта, идущих по целине. У них нет аналогии, они все время решают разные и новые, совсем необычные задачи. Нет похожих решений. Стало быть, и спрос только на новые, необычные идеи.
Отошло время прозрения одиночек, даже гениальных. Сила в коллективных поисках, в слитности, единении разносторонних талантов. Так учит, такой пример подает наша партия. Коллективное творчество — это прежде всего соединение, направленность на одну цель различных индивидуальностей, где каждый дополняет другого, выявляет себя и помогает всем вместе. Идеи, возникающие после общих поисков, обдумывания, всесторонней проработки и «взвешивания», становятся самыми надежными. Они уверенно находят дорогу. И сами люди в коллективе растут быстрее, становятся истинными творцами. Они не обезличивают свои индивидуальности. Ни в коем случае. Вот в чем глубинный смысл большого понятия: коллективное творчество.
Я вспоминаю: встречал ли раньше, в прошедшие годы столь наглядные примеры коллективного творчества? Да, видел отдельные проявления как ростки нового. Они росли, укреплялись в коллективах, а теперь выявились в полную силу. Видимо, наступило самое благодатное время для бурного прорастания нового. Прекрасные тенденции, заложенные в самом нашем общественном строе, можно сказать, решительно вышли наружу, любовно приняты, взяты «на вооружение» нашими творческими коллективами. Иначе говоря, как никогда, возросли связи человека с обществом, личности с коллективом. И этот ленинский завет стал прекрасной, многообещающей приметой нашего времени.
Почему-то мы часто связываем два понятия: коллективное творчество и космическое наступление. Вот здесь-то, в таких неприземленных сферах, ощутимо проявляется красота творческого содружества, совместных поисков, находок. Сотни, тысячи людей разных специальностей, коллективов сливают свои усилия, соединяют их в могучее русло. Это — высшая ступень содружества, общественных связей людей. Люди, участвующие в космическом штурме, связаны с самой передовой техникой, с самыми сложными, дерзновенными проблемами времени. У них передовая организация и методы труда. Они идут впереди нашего движения, впереди времени. Первопроходцы двадцатого века. Где же и проявиться вершинам коллективного творчества, как не среди людей крылатых, устремленных в высоты, в космические дали?
Вот какие мысли вызвал разговор с моим старым знакомым, конструктором Александром Васильевичем. Он сидел рядом со мной, спокойно покручивая баранку своего «Москвича», и, видно, не подозревал, о чем я думаю. Он не прерывал мои раздумья. А может, и его осенили какие-то идеи? Или разболелась нога, и ему не до разговоров?
— Саша, ты не рано оторвался от кровати? — спросил я.
— Врачи пронюхают — влетит, — заговорщически подмигнул он. — Но что делать, ребята ждут…
— Разве они не знают, что ты еще болен?
— Знают, конечно. И уговаривали полежать. Говорят, подождем. Но я-то знаю: они кипят, как на огне. Скорее надо проработать накопившиеся идеи. Без меня не могут. Может быть, у меня как раз те самые счастливые… подходящие, прогрессивные, что ли. Я не знаю, и они не знают. Обсудим, и будет видно.
— А что изменится, если обсудите, скажем, через три дня? Все-таки, думается, можно подождать…
— Многое изменится. Пропадут три дня. Сами пишете; «космическое наступление». А в наступлении каждый час что-то значит, — горячо и убежденно проговорил мой сосед.
Я понял: он не мог не поехать к товарищам, к коллективу. Не мог, хотя у него и нога перевязана, хотя, конечно, самочувствие далеко не такое блестящее, как можно заключить по внешнему виду. На заднем сиденье валялся костыль: выйдя из машины, он кое-как, превозмогая боль, поковыляет с помощью его по лестницам, коридорам. На обычном языке это называется самоотверженностью.
Но если взглянуть глубже, увидишь и нечто другое, более значительное — прежде всего обостренное чувство ответственности за свое большое дело и братскую солидарность с коллективом. Если надо, он поедет куда угодно, хоть на край света, пусть и болен — иначе не может. Дело — прежде всего. Космическим кораблям — жизнь без остатка. У одержимых такая жизнь.
Помню, как перед одним пуском я встретил его осунувшимся, побледневшим, с синими мешками под карими глазами. «Двое суток копались в системе. Что-то замыкает. Оказывается, сущий пустяк. Еще не спал», — объяснил он. Другой раз на моих глазах Александр Васильевич поспорил с одним ученым — он предлагал какие-то поправки, тот — отклонял. Конструктор не унимался, доказывал ретиво, упорно, до пота на лице. Они разошлись, каждый при своем мнении. К вечеру опять сошлись. Конструктор достал бумагу — заключение, где были подписи десятка людей. Тогда ученый сдался. Чувство ответственности не позволило Александру Васильевичу отступить как в первом, так и во втором случае. Это поведение для него естественно, привычно, повседневно. Это — обычная его норма жизни. Так же, как и братство с товарищами по делу, с коллективом.
У каждого времени, даже года, есть свои особенности, свои песни. Они не рождаются вдруг, на голом месте, а вытекают из процессов нашего социалистического развития, из всего хорошего, прекрасного в нашей жизни. Созрев по-новому, звучат в полный голос. Песни нашего времени — в коллективном творчестве людей, в братском содружестве, в повышенном чувстве ответственности за свое прекрасное дело. Не это ли рождает и чудеса нашего времени — спутники, лунники, космические корабли?

«Помнишь Александра Ивановича (назовем его Носовым), бывшего ведущего испытателя, первопроходца и героя полигона, именем которого названа одна из улиц нашего города? Как-то мы шли с тобой по этой улице, ты спросил у ребятишек, знают ли они, кто такой Носов? Белобрысый паренек ответил: «Это — большой ракетчик». Устами ребенка глаголила истина.
Так вот какая новость. Был у нас один Носов. Теперь их двое. Сын Александра Ивановича Виталий — тоже ракетчик. Окончил военное училище и встал на смену отцу. Профиль у него иной, но суть не в том — мы ведь все в одной «ракетной державе». В то же училище поступил и младший сын Александра Ивановича — Юрий. Значит, будет трое ракетчиков Носовых. Почему трое, если старший Носов погиб? Для нас он остался живым.
Не знаю, как ты воспримешь эту новость, а наш брат ракетчик оценил ее очень высоко. Не как интересный жизненный факт, а как рождение новой традиции. И в нашем, самом молодом виде Вооруженных Сил появились свои династии, свои отцы и дети. Мы считаем: не случайно начало положено Носовым. Тут прямая закономерность. Детей вводят в свой мир отцы. Сыновья усваивают все лучшее, что есть в отцах, и шагают дальше, продолжая их путь.
Почему я пишу тебе о Носовых? Догадался? То-то же… Учти, это не только моя просьба. Всем нам, ракетчикам, кого ты знаешь и не знаешь, хотелось бы прочитать в газете историю рождения ракетной династии Носовых, как наглядную примету нашего времени, пример для нашего брата ракетчика…»
— С раннего детства дети жили на полигоне, вместе с нами, родителями. Отец всегда был, сколько они помнят, ракетчиком-испытателем. Раньше он воевал, прошел через огни и воды, но это происходило до них, не на глазах сыновей и, конечно, воспринималось подобно сказке или легенде. А что видели, знали сами, отложилось как свое, близкое. Они росли при отцовской опоре, при его постоянном влиянии. Вот из этих-то детских «запоминаний», которые целиком связаны с воздействием отца, и сложилось у них «ракетное убеждение».
Вначале, когда полигон только начинался и еще не успели выстроить большие дома, длинные улицы, мы жили во времянке, на краю поселка. Рано утром Александр Иванович выходил на крыльцо и ждал автобуса. Остановку в шутку прозвали «Носовкой». Виталий всегда его провожал, младший еще был несмышленышем. Посмотришь в окно: стоят вдвоем, обнявшись, ведут «мужской разговор». Подкатывал автобус, наполненный людьми, забирал Александра Ивановича. Виталий долго стоял, провожал его взглядом. Я чувствовала: очень хочется ему поехать с отцом, в этой братской компании ракетчиков, хоть одним глазком посмотреть на таинственные ракеты, что сверкают огнем, летят в небесные высоты, увидеть и загадочное отцовское «государство». Мальчишек всегда влечет тайна.
Нам дали ордер на квартиру в новом доме. Александр Иванович положил его на стол и сказал: «Давайте решать, как с ним поступить». Его мнение: ордер не надо брать. Он повторял упрямо: «Совестно мне». Совестно, как объяснил, смотреть в глаза многосемейным товарищам, какому-то Васе-технику, у которого только что родился сын, совестно перед подчиненными, которые еще плохо устроены. Он апеллировал к сыновьям: «Поживем пока здесь, правда? Вы же не маленькие». Сыновья целиком приняли сторону отца. Чтобы не остаться в «меньшинстве», и мне пришлось проголосовать «за».
Когда подрос Юрий, отца, они стали провожать вдвоем. Вдвоем и встречали. Как только взлетала ракета, они выбегали на дорогу. Раз взлетела ракета, то скоро приедет и отец — верная примета. Увидев его, опрометью кидались навстречу, повисали на его сильной руке. С лица Александра Ивановича слетала усталость, заботы. Ребята знали: сейчас он придумает что-либо увлекательное — то ли потянет на рыбалку, то ли будут возиться с приемником, то ли устроит плавание наперегонки. Он всегда создавал вокруг себя какой-то добрый, веселый, интересный мир.
Как-то приехал гость, старый друг Александра Ивановича. Увидел Виталия, Юрия и ахнул: вымахали, как дубки. Они росли крепышами. Оба по-своему внешне похожи на отца. Александр Иванович ответил:
— Растут… при свете ракет.
Юрий повел плечами: когда ему что-то не ясно, всегда так делает. Паренек он любопытный и прямой.
— Как это… при свете ракет? — спросил он.
— У тебя, кажется, глаза на затылке, сынок, — сказал Александр Иванович. — Живешь при сиянии ракет и ничего не замечаешь. — Он попросил Виталия: — Растолкуй брату.
На лице Виталия — раздумье. Он еще в затруднении, не разобрался целиком в отцовской фразе. Но отец ждет, все ждут. Нам, взрослым, понятен ход Александра Ивановича: пусть «старшой» сам осмыслит, найдет свой ответ. К чему отцу разжевывать? Он все время побуждал детей думать самостоятельно, вырабатывать собственное отношение к окружающей жизни. Это был его нерушимый принцип. И Виталий нашел свое объяснение:
— Мы видим, как взлетают ракеты. Днем и ночью. Ночью светло от них, как днем. Можно читать книги. На высоте ракеты встречаются с солнечным светом. Там, наверху, еще день. Льются синие, голубые, желтоватые краски… Удивительно красиво. Мы это часто видим. А другие ребята, что живут далеко от нас, не видят. Нам очень повезло. Мы живем при свете ракет.
Отец похлопал сына по плечу. Виталий заулыбался, точно получил пятерку. Гость сказал:
— Добрый будет ракетчик. Я бы с удовольствием послал к нему своих детей… на стажировку. Возьми, Александр Иванович, его на стартовую площадку.
— Зачем водить за ручку? Сам придет. Своей дорогой, — ответил Александр Иванович.
Александр Иванович больше «возился» с Виталием. Он старший, должен больше понимать? Не только. Отец видел: у Виталия более мягкий, уступчивый характер, чем у младшего сына, бархатный, что ли, характер. Вот и делал его прочнее, надежнее. Помню такую мелочь. Впрочем, есть ли в воспитании «мелочи»?.. Приемник, который они создавали втроем, испортился, «Виталий наладит», — сказал Александр Иванович. И Виталий, не самый сильный радиотехник в семье, принялся чинить его один. Увлекся. Под конец и Юрий примкнул к нему. Возились до полуночи. Я не выдержала: «Когда же спать?» Сыновья упрашивали: «Ну еще полчасика…» Александр Иванович подмигнул мне: мол, ладно, пусть закончат. Он приучал детей любое дело доводить до конца.
Помню еще случай на озере. Отец попросил Виталия разведать бухточку на противоположной стороне. «Старшой» поплыл, ну а вместе с ним и Юрий — он всегда следовал за ним. Уплыли далеко, еле видно. Я забеспокоилась: не случилось бы чего. Александр Иванович сказал уверенно: «Доплывут, не маленькие». Он не боялся пускать их в неизвестность.
Они еще были школьниками, когда отца не стало… Мы узнали: Александр Иванович готовил к пуску ракету, но не успел дать ей старт — погиб при исполнении служебных обязанностей. Обидная смерть. Конечно, она потрясла семью… Виталий как-то сразу сник, словно потерял какую-то пружинку. Отец для него был все. Но не сломался, не потерял себя — сказалась отцовская закваска. Судьба заставила его выбирать жизненный путь и решать самому, не опираясь на сильные плечи отца. Но все отцовское было с ним, и он сказал мне:
— Буду ракетчиком.
Я знала: это не мальчишеская прихоть, не мимолетное веяние, а твердое убеждение. Он выбрал ту дорогу, по которой шел его отец.
— Отцовские ракеты раньше я видел издали, в полете, а тут, в училище, а потом и в части разглядел их вблизи. Они стояли спокойно на земле, выстроившись в ряд, как солдаты на смотре — по ранжиру, одна другой выше. Самая большая выделялась на правом фланге, задрала свой любопытный нос к небу. На вершине ее играли солнечные лучи. Солнце — старый друг ракет.
Ракеты захватили меня красотой и мощью. Вспомнилось, как отзывался о них отец: «У ракет общечеловеческая красота». Тогда я не понимал его определения. Точнее, этого слова — «общечеловеческая». Не увязывалось оно с ракетами. Отец смотрел на них, как на живые существа. А что у них живое?
Потом я, кажется, начал понимать: пропорции, формы ракет — все на высшем, гармоничном уровне, как у самых совершенных созданий. Вряд ли что вокруг сравнишь с ними по красоте. Конструкторы, создав эти прекрасные творения, поднялись, может быть, до самой большой высоты. Общечеловеческой, как говорил отец. Не знаю, возможно, есть и другое объяснение, я не претендую на абсолютную точность. А сила, мощь… Они угадывались с первого взгляда. Как бы неуловимо проступали через серебристую оболочку.
На ракеты я смотрел с фамильной гордостью. Ведь их испытывал, выводил в свет, давал им путевку в жизнь мой отец. Конечно, не он один, вместе с товарищами, коллективом (в наше время ничего не создается в одиночку), но тут есть и его вклад. На серебристой обшивке не указаны даты выхода в свет, ракетные биографии. И все-таки у каждой из них — своя история, связанная с именем моего отца.
Вон та, на левом фланге, что поменьше, видимо, из разряда первенцев. Вполне возможно, она проходила испытания в то время, когда я провожал отца на остановке «Носовка». Вторая, вероятно, взлетала ночью — отец, помнится, двое суток не был дома, и мы не спали, ждали его. А этой, правофланговой, самой большой, отец, может быть, и не успел дать старт, пускали ее без него. Вся его послевоенная жизнь — в этих ракетах. Я смотрел на них и, не скрою, гордился. Заметный след на земле оставил отец.
«Сам придет. Своей дорогой», — когда-то сказал отец. Эти слова крепко врезались в мою память. Может быть, они стали моим указателем в жизни. Я пришел к отцовским ракетам уже не мальчишкой и не просто юношей, а человеком в военной форме, с курсантскими погонами. И сразу стал сопричастен ко всему, что создано годами его жизни.
Я познавал ракеты. Многое зависит от того, как познавать. Схемы, формулы, системы, механизмы сами по себе еще мертвы, если их не одухотворить. Так говорил отец. Теперь мне ясно, почему каждая ракета для него была живой, со своим «характером», «голосом». А для меня? Для меня они просто «родственники» — отцовское наследие. Пока безмолвные «родственники». Стояли молча, не открывали живую, ищущую душу отца. А он ведь оставил в них многое. Может быть, больше, чем я представлял. Мне надо было увидеть душу ракет.
Как переступить за грани невидимого, в тайный отцовский мир? Этот вопрос возник, когда я смотрел на ракеты. И опять мне помог отец. Вспомнил, однажды он советовал: «Проникай, сынок, сам в сложности жизни и смотри тройным зрением — глазами, умом и сердцем».
В училище обнаружились друзья отца. Одного из них, начальника, генерала, я знал давно. Когда-то называл его попросту — «дядя Толя». Теперь уж так не назовешь. Он — мой старший начальник. При первой встрече предупредил меня: «Смотри, отца не позорь. Спрошу с тебя вдвое строже, чем с других». Потом смягчился: «Какие будут вопросы, заходи…»
Об отце рассказали бывшие его подчиненные. Я узнал, что на стартовой площадке отца называли «двужильным» — он мог работать дни и ночи напролет, не показывая усталости, — что он сумел освоить весь ракетный комплекс, от начала и до конца, — был одним из немногих ракетчиков-универсалов.
Вспомнили и такой случай. Шел отец мимо гостиницы, слышит, гуляет какая-то компания. Заглянул из любопытства. Гуляли приезжие монтажники. Пригласили его за стол. Он сказал: «Перед работой никогда не пью. И вам не советую. Но раз вы выпили, не могу вас завтра допустить до испытательного корпуса. Работа у вас сложная, тонкая, можете и напортачить…» Ходили монтажники за ним всей компанией, упрашивали их простить, он остался непреклонен. Офицер-ракетчик, рассказавший мне эту небольшую историю, заключил: «Твой отец не проходил мимо ни плохого, ни хорошего — на все отзывался с душой, все оценивал строго, по большому счету».
Из всех воспоминаний друзей отца мне больше всего запомнилась эта простая история. И вот почему. Что-то похожее случилось и со мной. Справлял я один праздник в полузнакомой компании. Какой-то курсант-второкурсник, немного подвыпив, распетушился, поднял шум на весь дом. Я махнул рукой, отошел в сторону. Потом попало мне от генерала. Стоял перед ним весь в испарине, готовый провалиться сквозь землю. А он и не ругал, только сказал: «Забыл, что ты сын Носова». Вот что значит не слушаться отца, не смотреть на все в жизни так, как он советовал — глазами, умом и сердцем, в общем, тройным зрением. Да, так я и осваивал отцовское наследство. Одно утешало: понятые ошибки тоже шаг вперед. Они тоже обостряли зрение.
— Виталий приезжал на каникулы. Мать не отходила от него. Я — тоже. Старший брат для меня вроде ведомого, часто следовал за ним. А как он надел военную форму, заметно постройнел, возмужал, еще и завидовал ему. Что-то в нем появилось новое. Не только внешне, а и в характере. Потом я разобрался — уверенность. Как будто он открыл что-то важное для себя. Формулу, что ли, или закон жизни.
Однажды он принес альбом и разместил там семейные фотографии. Раньше они лежали где-то в глубине ящика, и никто к ним не прикасался — воспоминания об отце вызывали боль. Виталий подолгу рассматривал отцовские фотографии. На одной, большой, — вся семья, когда мы были вместе. В центре — живой, веселый, добрый отец, на кителе ордена. Золотая Звезда Героя. К нему прижались Виталий и я. Глядя на фотографию, я сказал:
— Теперь ты, Виталий, особенно похож на отца.
— А ты?
— Не знаю.
— Почаще надо смотреть на отца… тогда увидишь и себя, — сказал Виталий. — Увидишь, какой ты есть, что тебе не хватает, в чем еще слаб, неглубок… Будет ясно, как надо исправлять свой характер.
— Ты увидел?
— Да.
Я понял, откуда у Виталия эта уверенность в жизни — от отца, конечно. Живет по его примеру. Стал в семье первым и последовательным его преемником. А мама когда-то беспокоилась за Виталия: «Как бы не сбился с дороги». Он не собьется!
Каждый раз, когда Виталий приезжал на каникулы, я расспрашивал его об училище. Видно, уж очень дотошно выпытывал. Он догадался: неспроста. Спросил меня:
— Настроился туда же?
— А что, не советуешь?
— Советую… От всей души.
И уже сам начал рассказывать об училище, не жалея красок. Кое-что и обходил — не все мне положено знать. Но главное я уже представил, словно побывал там. Договорились: пока матери ничего не говорить. Узнает, расстроится — не весело жить одинокой. Но долго таиться было нельзя — я заканчивал десятилетку. И вот однажды, набравшись духу, я сказал:
— Мама, как ты смотришь… собрался я в то же училище, где и Виталий.
Она посмотрела на меня немного печальными глазами, но улыбнулась:
— Знаю… Давно уж навострился. Что с тобой поделаешь, поезжай…
— А ты как?
— Буду вас встречать и провожать. Обычная материнская судьба.
Виталий заканчивал предпоследний курс, я поступал. У обоих вместе экзамены: у него — очередные, у меня — приемные. Он сдавал по какому-то предмету (первый обычно отвечал) и бежал ко мне, стоял у дверей, тайком слушал. Как-то за этим занятием его застал преподаватель. Спросил грозно: «Что тут делаешь?» — «Слушаю, как Юрий отвечает». Оба они постояли, послушали. Преподаватель успокоил Виталия: «На пятерку тянет». Мне Виталий это рассказывал. А приемные экзамены я, и верно, в основном сдал на пятерки. Виталий тоже не подкачал.
Около года мы были вместе. Везде ходили вдвоем: в кино, на спортивную площадку, в бассейн… Оба увлекались баскетболом и плаванием. Одинаковые у нас интересы. Конечно, вместе смотрели и ракеты. Долго стояли, смотрели.
— Отец говорил: «Ракеты, как живые», — вспомнил я.
— Скоро и для тебя они будут живые, — сказал он. — Многое сам откроешь… И я, конечно, помогу. Только смотри сразу тройным зрением — глазами, умом и сердцем. Отец советовал, помнишь?
Я тоже теперь ношу военную форму. Я тоже в отцовской «ракетной державе».
«Виталий Носов — не новичок в нашем «хозяйстве». Мы встретились с ним впервые года два назад, когда он готовил дипломный проект. Тему он выбрал сложную, неразработанную, можно сказать, со многими неизвестными. «Не рано ли взялся за нее?» — спросили мы. «Попробую, что выйдет. Писать о готовеньком, известном, по-моему, неинтересно», — ответил он. Нам это понравилось. Далеко не все идут по непроторенным дорогам. А он еще курсант училища. Только вступает в жизнь. И сразу берется за новое.
По мере возможности я помогал Виталию. Но как? Путем разъяснения некоторой специфики. А все остальное он осиливал сам — вникал в каждую мелочь, делал для себя определенные выводы. В общем, до всего доходил сам. Аналитический ум у парня! «У вас очень интересно работать», — говорил он с восторгом. «Приходи насовсем», — приглашали мы. «Я бы с удовольствием», — отвечал он.
Дипломный проект он написал, по-моему, с блеском. Пришел к нам после училища. Мы хорошо знали его отца. Многие работали вместе с ним. Незаурядная личность. И сын растет в него. Хорошо начал свой путь».
Вот пока и весь сказ о ракетной семье Носовых, о становлении братьев. Биография их продолжается. То, что не успел доделать отец, сделают сыновья. В полную силу зазвучит носовская ракетная симфония.