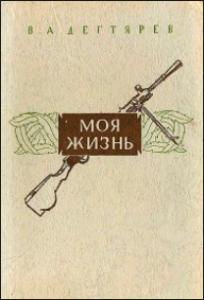
Книга является автобиографией выдающегося конструктора стрелкового оружия Василия Алексеевича Дегтярева. Книга воспоминаний знаменитого советского конструктора-оружейника. Родина высоко оценила труд Василия Алексеевича. О многом говорит следующий факт: первое звание Героя Социалистического Труда было Указом от 20 декабря 1939 года присвоено И. В. Сталину, а вторым Героем Социалистического Труда 2 января 1940 года стал В. А. Дегтярёв.
Впервые я встретился с Василием Алексеевичем Дегтяревым в 1928 году, когда он только что закончил работу над конструкцией пулемета, создавшего ему известность в нашей стране.
Уже эта первая встреча произвела на меня неизгладимое впечатление. Я убедился, что разговариваю с человеком, до тонкостей знающим оружейное дело, а главное — беззаветно любящим это дело. В его немногословных замечаниях чувствовался огромный опыт, накопленный годами работы, виден был пытливый ум. Меня поразила память Василия Алексеевича, помогавшая ему с удивительной четкостью воспроизводить виденное и слышанное им в различные периоды его жизни.
Большое впечатление произвела на меня исключительная скромность, с которой он говорил о себе, о своей работе, своих достижениях, и готовность поделиться опытом с людьми, которые в нем нуждались.
Соприкасаясь с другими людьми, работавшими с ним, я заметил, что Василий Алексеевич пользуется у них большим уважением.
Дальнейшее знакомство с Василием Алексеевичем подтвердило и еще более укрепило первые впечатления.
Предлагаемые читателю воспоминания В. А. Дегтярева ярко показывают, как простой русский человек благодаря своим способностям, тяге к знанию, упорству и настойчивости, беспокойному стремлению созидать своими руками новое вырос в талантливого конструктора.
Перед нами развертывается безотрадное детство мальчика из рабочей семьи, с трудом получившего в дореволюционной России начальное образование в приходском училище. Мы видим, как в юном Васе Дегтяреве растет и укрепляется чувство любви к своему народу. Не случайно привлекает внимание юноши фигура великого русского механика-самородка Ползунова, не признанного из-за рабского преклонения царских чиновников перед иностранщиной.
Знакомство с работой талантливого конструктора-оружейника С. И. Мосина, создателя отечественной винтовки, испытавшего огромные трудности при реализации своего изобретения, укрепляет в Василии Алексеевиче уверенность в творческих способностях русского народа и воспитывает в нем, как потомственном оружейнике, стремление к созданию оружия, которое доказало бы свое превосходство над заграничным.
Способности В. А. Дегтярева и его любовь к своему делу привлекают к нему внимание таких знатоков оружейного дела, как Н. М. Филатов и В. Г. Федоров, и с этих пор трудовой путь Василия Алексеевича окончательно определяется.
Однако в условиях дореволюционной России, несмотря на свою талантливость, В. А. Дегтярев не смог бы выдвинуться на широкую творческую дорогу. Его участь как представителя рабочего класса, «не имеющего образования», в лучшем случае была бы участью человека, которого могли оценить за «золотые руки», рабочего или мастера, но перед которым был закрыт дальнейший путь. На этот путь Василия Алексеевича выводит Великая Октябрьская революция.
Василий Алексеевич как представитель рабочего класса, целиком осознавший гнилость и обреченность царского самодержавия и противоречивость интересов буржуазии и пролетариата воспринял революцию с глубокой радостью и удовлетворением.
Советская власть предложила Дегтяреву ответственную работу, связанную с восстановлением разрушенной оборонной промышленности. Руководствуясь чувством советского патриота, любовью к своему народу, сознавая большую ответственность и значение этой задачи для Родины, приступил Василий Алексеевич к ее выполнению.
Внимание, забота и помощь партии открыли ему все возможности для приложения его творческих способностей и воплощения изобретательской мысли.
Разработав конструкцию пулемета, но боевым и техническим качествам зашившего одно из первых мест в мире, Василий Алексеевич выдвинулся в ряды виднейших советских конструкторов.
Партия и правительство высоко оценили заслуги Дегтярева перед социалистическим государством — ему первому после товарища Сталина было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.
Советское правительство установило возможность присуждения ученой степени доктора наук лицам, известным своими выдающимися изобретениями, независимо от наличия у них диплома об образовании. Одним из первых таких людей, получивших степень доктора технических наук, был В. А. Дегтярев. Тем самым признана большая научная ценность накопленных им опыта и знаний в оружейном деле.
Дальнейшая деятельность В. А. Дегтярева еще больше оправдала полученные им высокие звания. Многочисленные образцы вооружения, разработанные им, применялись Советской Армией в борьбе против немецких захватчиков и послужили делу победы над врагом.
Трижды был удостоен Василий Алексеевич Сталинской премии за свои изобретения.
Он был избран депутатом Верховного Совета СССР и, по свидетельству избирателей, обращавшихся к нему со своими нуждами и запросами, внимательно и чутко подходил к их разрешению, уделяя большое внимание депутатской работе.
Уже на склоне лет Василий Алексеевич вступил в ряды Всесоюзной Коммунистической партии. Требовательный к себе, всей душой преданный делу партии Ленина — Сталина, он долго не решался на этот шаг только в силу своей скромности. Всегда чувствуя ответственность за любое взятое на себя обязательство и высоко ценя звание члена большевистской партии, он сомневался, сможет ли нести это звание с такой же честью, как нес звание передового оружейника-изобретателя.
Необходимо также отметить одно из замечательных качеств Василия Алексеевича — уменье ценить силу коллективной мысли и плодотворность коллективного труда. Обдумывая то или иное изобретение, вынашивая свои оригинальные мысли, он делился ими с другими людьми, внимательно относился к идеям своих сотрудников и умело направлял их к общей цели. А целью своей работы он всегда ставил разрешение самых актуальных, самых нужных для армии проблем, какими бы трудными ни представлялись пути к достижению этой цели.
Огромно значение В. А. Дегтярева в области разработки новых образцов вооружения.
Начав свою конструкторскую деятельность с участия в разработке автомата В. Г. Федорова под руководством последнего, В. А. Дегтярев правильно оценил значение автоматического оружия для повышения огневой мощи пехоты. Поэтому его внимание привлекла задача конструирования автоматической винтовки, над которой он работал значительный период своей жизни.
Во время первой мировой войны в системе вооружения армий видное место занял новый вид оружия — ручной пулемет, как весьма мощное и маневренное оружие, способное в любых условиях боя решать огневые задачи на средних дальностях пехотного огня. Русская армия во время войны не имела ручного пулемета. Лишь к концу войны начали поступать на вооружение русской армии заказанные за границей в относительно небольшом количестве пулеметы системы Льюиса (английские) и Шоша (французские). В. А. Дегтярев, сумев правильно понять значение этого вида оружия, поставил перед собой задачу — дать Советской Армии отечественный образец ручного пулемета и успешно разрешил ее. Особенностью системы Дегтярева было оригинальное устройство узла запирания ствола в пулемете, оригинальная система подачи патронов. Особым достоинством конструкции пулемета было обеспечение прочности деталей при относительно небольшом весе.
Развитие боевой авиации и танков потребовало создания вооружения для новых родов войск. В. А. Дегтярев немедленно включился в разрешение и этой задачи, приспособив пулемет своей конструкции для самолетов и танков.
Первый отечественный крупнокалиберный пулемет был также делом рук Дегтярева. На этих работах Дегтяревым были выращены новые конструкторы — его ученики Шпагин и Симонов.
К созданию крупнокалиберного пулемета он привлек конструктора Колесникова, разработавшего станок для пулемета.
Своевременно и правильно была оценена В. А. Дегтяревым важность создания еще одного нового вида оружия — пистолета-пулемета (легкого пулемета с применением пистолетного патрона), впоследствии под наименованием автомата завоевавшего широкое признание в армии. Разработанный им образец нашел применение уже в Советско-финской войне.
Всем памятно, какая лавина фашистских танков обрушилась на территорию нашей Родины с самого начала Отечественной войны, в 1941 году. Спешно потребовалось принять на вооружение противотанковое ружье. И в борьбе с немецкими танками дегтяревское оружие (противотанковое ружье Дегтярева) сыграло большую роль.
Еще до войны Дегтярев создал новый станковый пулемет, значительно облегченный по сравнению со старым пулеметом Максима. Опыт Отечественной войны полностью подтвердил необходимость облегчения веса станкового пулемета. И хотя этот пулемет недолго был на вооружении, уступив место новому образцу, появившемуся во время войны также не без участия Дегтярева, его конструкция лишний раз подчеркивает, насколько правильно понимал Василий Алексеевич пути технического развития оружия.
Наконец, на основе опыта минувшей войны Дегтярев разработал еще один образец вооружения, за который уже посмертно ему присуждена Сталинская премия 1-й степени.
Учитывая огромную трудоемкость конструкторской работы по автоматическому оружию, поистине можно только удивляться тому размаху мысли, той энергии и настойчивости, которые проявил В. А. Дегтярев как конструктор — оружейник.
Необходимо иметь в виду, что оружейное дело в Советском Союзе было поставлено на строго научную основу. В область преданий отошли те времена, когда в кустарно оборудованных мастерских мастер-самоучка, вооруженный грубыми инструментами и личным искусством, преодолевал неудачи, возникавшие одна за другой. Вскрывая причины неполадок и дефектов в работе механизмов, мастер зачастую вынужден был находить ощупью решение сложнейших задач. А ведь именно в такой обстановке начинал свой творческий путь В. А. Дегтярев.
Современная оружейная техника в Советском Союзе располагает прекрасно организованным конструкторским бюро, оснащенным совершенным оборудованием.
В. А. Дегтярев к концу своей жизни был руководителем такого конструкторского бюро. Большой коллектив научных работников, инженеров, технологов под руководством Василия Алексеевича работал четко, целеустремленно и в короткое время справился с такими задачами, на решение которых раньше ушли бы целые годы. Об этом ярко рассказывает В. А. Дегтярев в своих воспоминаниях, относящихся к работе в годы войны.
Совершенно понятно, что руководить таким коллективом было бы трудно человеку, не обладающему большими теоретическими знаниями, не следящему за всеми достижениями науки в области оружейного дела. В. А. Дегтярев, не получив специального образования, обладал способностью быстро разбираться в вопросах теории. В своих воспоминаниях он, например, указывает, как помогло ему изучение книги В. Г. Федорова об автоматическом оружии, изданной еще в 1906 году и подаренной ему автором.
Всю жизнь Василий Алексеевич неустанно пополнял свои знания и умело сочетал их с богатейшим практическим опытом.
Страницы воспоминаний В. А. Дегтярева являются наглядной иллюстрацией того, как неиссякаемы источники творческих сил нашего народа, как бурно в сталинскую эпоху из широких слоев трудящихся выдвигаются талантливые люди. Страстно любя свою Родину, они отдают все свои силы на служение великому делу построения социалистического общества и его движения по пути к коммунизму.
Трудовая жизнь В. А. Дегтярева — яркий пример того, как в условиях Советского (государства, согретые сталинской заботой, люди растут, преумножают свои способности ради пользы народа, становятся большими государственными и общественными деятелями.
Президент Академии артиллерийских наук академик генерал-лейтенант артиллерии
А. А. Благонравов

Трудно рассказывать о себе. Трудно и как-то неловко. А рассказать есть о чем. Ведь без малого шестьдесят лет провел я в труде. Сколько событий прошло за это время! С какими людьми довелось мне встретиться на своем жизненном пути! Может быть, я не написал бы этой книги, если бы не болезнь. Она приковала меня к постели. А когда лежишь без дела да перебираешь все, что ты сделал за долгую жизнь, то поневоле одна за другой возникают картины прошлого.
Как живого, вижу я своего деда, своего первого воспитателя и учителя, которому многим обязан в жизни. Звали деда Николай Миронович. А соседи и родичи попросту величали его «Мироныч».
Я помню его уже глубоким стариком с большой сивой бородой, густыми нависшими бровями. Несмотря на годы, выглядел он молодцевато. Невысокий, прямой станом, дед был широк в плечах и проворен в движениях.
Если б не борода, ему можно было скостить годков этак десятка два. Он был сильным, могучим стариком и до последних дней не оставлял тяжелой кузнечной работы.
Жили мы в Туле, старинном русском городе, славившемся знаменитыми оружейными мастерами.
Небольшой покосившийся домик деда стоял на узкой грязной улочке в Заречье — рабочей окраине города.
Хотя тут были только ветхие деревянные домики, улочка носила громкое, даже пышное название: «Нижнемиллионная». Так окрестили ее охочие до миллионов городские заправилы — богатые купцы и фабриканты.
Узкий двор дедушкиного дома спускался к реке. — Строений там почти не было, если не считать сарая да крохотной кузни. Дед очень любил деревья и цветы. Он засадил свой дворик яблонями, вишнями и черемухой, а поближе к окнам разбил небольшую клумбу и каждый год высаживал на ней цветы.
Весной наш маленький дворик напоминал заправский сад. Дед, окончив работу в кузне, любил посидеть у черемухи с семейством, порассказать про житье-бытье. Приходили послушать его соседи мастеровые, зачастую захватывая с собой жен и ребятишек.
Говорил дед не торопясь, покуривая трубочку. Рассказы его всегда покоряли слушателей. А уж мы, ребятишки, сидели тихо, как мыши, тесно прижавшись друг к другу.
Больше всего он любил рассказывать про родную Тулу да про искусных тульских оружейников, будто бы умудрившихся подковать «аглицкую блоху».
Давно это было, а многие рассказы деда я помню и по сей день.
Однажды дед рассказал о том, как русский царь, поехав за границу, купил там редкой работы ружье и привез его в Петербург.
Ружьем этим долго любовались придворные генералы. И вот один из них, рассматривая в лупу серебряную насечку, обнаружил на стволе крохотную надпись: «Иван Москвин во граде Туле».
— Умен русский народ. Много в нем добрых мастеров, — говорил дед, — да трудно в наше время выбиться в люди простому человеку.
— Дедушка, а можешь ты сделать такое ружье? — спросил я.
— Куда хватил! Нет, внучек, у меня уж и глаза и руки не те. А вот ты, ежели будешь учиться да стараться, то еще и почище сделать сможешь.
— У кого же учиться мне?
— Ишь, спрашивает. Да поначалу хоть у меня учись, а потом и к заправским мастерам попадешь.
— А ты разве не заправский, дедушка?
— Был и я мастером в свое время: и ружья и пистолеты делал, да уж стар стал. Но тебя-то еще могу кое-чему поучить. Могу.
В дедушкину кузню я заглядывал часто. Приду бывало, встану у двери и, открыв рот, смотрю, как дед кует железо, любуюсь огненными искрами.
Устанет дед, сядет закурить, а я насобираю обрезков и — бежать на песок, где мы с братишкой строили дома и башни.
Однажды впопыхах я схватил еще не остывший обрезок шинного железа и сильно обжег пальцы. С тех пор дед стал гонять меня из кузни.
Но после недавнего разговора он отнесся ко мне ласково.
— Опять пришел, пострел.
— Пришел. Учиться хочу.
— Молодцом, коли так!
Он поднял меня опаленными руками и посадил на верстак подальше от горна.
— Вот сиди тут и гляди. Примечай, что к чему. Да смотри, мешать будешь — прогоню.
Я часами просиживал на верстаке, наблюдая, как дед раскаливал в горне железо, как клал его на наковальню и, поддерживая длинными щипцами, послушным молотом придавал ему нужную форму.
Вечерами, после работы на заводе, деду помогал мой отец. Они ковали в три руки. Отец кувалдой, а дед молотом.
Я любил слушать звонкую музыку кузнечной работы, смотреть на пышащие жаром искры. «Когда вырасту, — мечтал я, — обязательно буду вот так же махать молотом».
— Ну, что же мы будем делать с тобой, Васютка? — опросил как-то дед, — уж больно ты мал.
— Это ничего, зато все мальчишки меня боятся, я сильный.
Дед усмехнулся и поманил меня к себе.
— Ну-ка, хватайся за шест: будешь качать кузнечные мехи.
Я подтянулся, схватился за шест, но сейчас же его выпустил.
Дед рассмеялся.
— Да ты, брат, совсем карапуз.
— Дедушка, ты веревку к шесту привяжи, а я за нее буду дергать.
— Ишь, что придумал. Попробуем.
Он сделал на конце шеста ременную петлю и дал ее мне.
— Пробуй!
Пыжась изо всех сил, я стал раздувать кузнечные мехи.
— Что же, пожалуй годится, — одобрительно сказал дед, — зачислим тебя в помощники.
С этого дня я стал пропадать в дедушкиной кузне. Старательно помогал ему и даже удостаивался похвал.
Правда, из кузни я приходил усталый и закопченный, как трубочист. Бабушка Александра Васильевна, доглядывавшая за мной, вначале смотрела на мою работу, как на случайную забаву, но, поняв, что это серьезное увлечение, стала журить и меня и деда.
— Ты совсем из ума выживаешь, Мироныч, вконец замучил внука. Гляди — сажа-то как въелась в него, мочалкой оттереть не могу.
— Не серчай, старая, — отшучивался дед, — всякое ученье на пользу идет.
— Да какое же это ученье — лямку-то дергать. Кабы ты ему буквы показывал, вот тогда другое дело. А от лямки у него еще успеет спина наболеться.
— Ну, пошла скрипеть! Придет час — и грамоте научим. Он парнишка старательный, своего достигнет.
Как-то дед надел вышитую крестом рубаху, расчесал бороду и позвал меня:
— Айда, Васютка, сведу тебя на завод, один знакомый инженер обещал в музей пустить.
— Куда это? — переспросила бабушка.
— В музей, говорю, вроде как в арсенал, или амбар какой, где всякое оружие хранится.
— Зачем это малому? Вот пойдет в солдаты, там покажут.
— Не перечь ты мне, старая, знаю, что делаю.
Дед взял меня за руку и повел через мост к заводу. Нас пропустили в железные ворота. Пока шли по вымощенному булыжником двору, навстречу попадались рабочие, везущие что-то тяжелое на громыхающих железных тележках. Из больших построек, что стояли по обе стороны, долетал грохот, шум., скрежет. Мне стало не по себе. А тут еще поблизости неожиданно заревел паровоз, и я совсем перепугался.
Дед успокоил меня и повел в высокое мрачное помещение.
— Вот и пришли, слава богу. Глянь-ка, что люди-то смастерили.
Я заметил следившего за нами длинноусого страшного на вид стражника (так звал дед городовых) и притих. Попасть в то время в заводский музей простому человеку было почти невозможно, и как удалось это деду — я не знал.
Мое внимание привлекло разнообразное оружие, которое было развешано по стенам и на специальных щитах.
Больше всего мне запомнились крохотное ружьецо и два малюсеньких пистолета. Я очень просил деда купить мне хоть один пистолетик.
Но стражник сердито покрутил усы и, подойдя ко мне, сказал:
— Нельзя, за этот пистолетик у твоего деда вшей не хватит расплатиться.
Я замолчал. Дед рассердился и на меня и на стражника и заторопился домой.
Дорогой он мне сказал, что это ружьецо и пистолеты сделал знаменитый тульский оружейник Медведков.
— Где же он сейчас?
— А бог его знает, должно, помер. Эти игрушки хранятся на заводе не меньше сорока лет.
Я больше ни о чем не стал расспрашивать деда, но крохотное ружьецо и пистолетики мне крепко запали в память, и я решил: вырасту большой — обязательно сделаю себе такие.
Пришла зима. За лето я подрос и стал еще усердней помогать деду. Он обрезал с боков старый, во многих местах прожженный кожаный фартук и подарил мне. Облачась в этот фартук и огромные рукавицы я стал походить на «мужичка с ноготок».
Однако мои занятия с дедом продолжались недолго. На масляной он жестоко простудился и слег. Его положили на печь, где было тепло и спокойно. Когда боль утихала, дед подзывал к себе нас, ребятишек, и рассказывал длинные сказы о тульских мастерах. Но это бывало редко.
Деда одолевал страшный кашель. Лечили его и травами и припарками, ничего не помогало. Раза два приходил фельдшер и советовал положить старика в больницу. Но на это тогда требовались большие деньги, а их не было.
Месяца через два дед умер. Я очень мучительно переживал эту утрату, так как от меня ушел не только любимый человек, но и добрый наставник, учитель.
Весной, когда сошел снег и подсохла земля, я взрыхлил дедушкину клумбу и посеял на ней цветы. Они быстро зазеленели, и я, гордый своими первыми успехами, стал окапывать яблони, как это каждой весной делал дед. Работа моя подвигалась очень медленно, я уставал и досадовал на себя. Но однажды мне пришла в голову мысль позвать на помощь соседских ребят, которые не раз приходили слушать дедушкины рассказы.
Ребята охотно согласились помочь, и мы общими силами привели наш садик в порядок. На клумбе распустились пышные цветы, и у нас в дворике стало хорошо, уютно.
Однажды вечером отец мой, вернувшись с завода раньше обычного, вышел во двор посидеть. Ему нездоровилось.
Подозвав меня, он спросил:
— Это ты, Василек, такой порядок навел?
— Да! — с гордостью ответил я.
Отец провел рукой по моим волосам.
— Учить бы тебя надо. И дед покойный это мне завещал, а жизнь тяжелая, едва сводишь концы с концами.
— Ничего, папаня, я сам выучусь!
— Нет, так не бывает, — вздохнул отец, — ну, ладно, может, бог даст, и определим тебя по осени в школу.
В ту пору учиться в школе мог далеко не каждый, за ученье надо было платить деньги. Из моих товарищей мальчишек учились очень немногие.
Приближалась осень. На дедушкиных яблонях созрела крупная антоновка. Я с братишками набрал большую корзину яблок. С трудом втащили ее на крыльцо. В это время пришел отец с каким-то пожилым сгорбленным человеком, от которого пахло клейстером и варом.
Усадив гостя тут же на лесенке, он угостил его яблоками и попробовал сам.
— Из своего сада? — спросил гость.
— Из своего, вон мой садовник, — и отец указал на меня.
Я был очень смущен и хотел убежать, спрятаться, но гость остановил меня.
— Чего стесняешься? — Когда ругают, надо стесняться, а когда хвалят, надо радоваться. Подойди-ка ко мне.
Я подошел.
— Он? — спросил гость у отца.
— Он! — ответил отец. — Василием звать.
— Ну-ка, Вася, покажи мне руки.
Я показал.
— Ишь ты, сам клоп, а руки в мозолях. А ну, покажи ногу.
Стесняясь, я показал ему босую, облепленную засохшей грязью ногу.
— Не велика, — сказал гость и бумажной ленточкой обернул ее крест-накрест.
— Ну, иди бегай, садовник.
— Он и кузнец у нас, — оказал отец, но я уже дальше не слушал и, смущенный похвалой, убежал на улицу, где мальчишки собирались играть.
Дней через пять человек, пахнувший клейстером и варом, снова явился к нам.
Он вошел в дом, поздоровался, развернул узелок, вынул оттуда новые сапожки.
— На-ка, садовник, примерь.
Не веря своим глазам, я натянул сапоги на запыленные ноги и гордо поглядел на мать и бабушку. Хотелось прыгать, но сапожки придавали мне некоторую солидность, и я стал важно прохаживаться по комнате.
В воскресенье меня нарядили в пеструю ситцевую рубаху, в синий, перешитый из отцовского пиджак, обули в новые сапоги и отправили с бабушкой в церковь.
А на другой день отец, отпросившись с работы, сам стал собирать меня в школу.
— Что это волосы-то у тебя ершом торчат? Эх, не успел я постричь.
Мать смазала мне волосы деревянным маслом.
— Ну, сядем! — сказала бабушка.
Все сели и несколько секунд, посидели молча.
— Теперь с богом, — и бабушка осенила нас крестом.
С гордостью шел я по улице. Хотелось, чтобы мальчишки увидели мои сапожки и пиджак.
— Задаешь ли, по какой улице идем? — опросил отец.
— Знаю, по Курковой.
— То-то, по Курковой, а почему она Курковая?
— Не знаю!
— Потому, что на ней жили мастера, которые делали курки для ружей. Это было давно, может, лет сто назад, а может, и того больше. Рассказывают, что завод наш основал еще государь Петр Великий. Делал завод ружья для казны. Народу работало много, а мастерских было мало. Вот и сдавали работу на дом. Мастера, что делали курки, жили вот здесь, на этом месте, а те, что стволы делали, вот там, у реки, а те, что штыки, еще дальше. Со временем в этих местах улицы образовались. Их так и стали называть: Курковая, Ствольная, Штыковая. Понял теперь?
— Понял!
— Ну, вот и училище, — оказал отец, — шапку-то сними!
Я снял картуз и, увидев перед собой церковь, остановился.
— Чего стал?
— Да церковь.
— А вон во дворе и училище. Оно так и прозывается «При церкви пречистой на Хопре».
Сдав метрику и заплатив деньги вперед, отец отвел меня в класс:
— Сядь поближе, случайся, учись прилежно. Ученье-то денег стоит.
Но я и сам рвался к учению и за зиму научился довольно бойко читать, писать и считать.
Летом, после окончания школьных занятий, я посадил цветы на клумбе, окопал яблони, помог матери и бабушке закончить работы на огороде. Больше дел не было. Как-то в воскресенье я ходил с отцом в город. У дома одного богатого купца увидел фонтан, и мне захотелось сделать такой же. Я всю дорогу приставал к отцу с вопросами: откуда берется вода, почему она идет вверх, что ее разбрызгивает. Отец подробно объяснил мне устройство фонтана.
Никому ничего не говоря, я притащил со свалки несколько старых водопроводных труб, стал их подгонять друг к другу, свинчивать, прилаживать. Двух длинных труб как раз хватило от середины клумбы до сарая. Это меня очень обрадовало. Потом с помощью муфт мне удалось к обоим концам этих труб присоединить перпендикулярно две другие — одну длинную, другую короткую. Длинную трубу я вывел на крышу сарая, а короткую в центр клумбы. Чтобы моя затея не была разгадана, я спрятал трубу, идущую к клумбе, в траву и торчащий конец прикрыл цветами и ветками.
Вскоре там же на свалке мне посчастливилось отыскать мятый заржавленный бак. Вместе с ребятами мы взгромоздили его на крышу, а кран скрепили проволокой с трубой и прочно промазали замазкой.
— Ну, ребята, таскайте воду! — распорядился я.
Скоро бак до краев был наполнен водой. Я торжественно открыл кран, и все застыли, пораженные неожиданным зрелищем. Из трубы высокой тонкой струей била вода.
— Это не то, — закричал я. — Надо, чтоб вода разбрызгивалась. Идите сейчас домой и приходите вечером, все будет готово.
Ребята нехотя разошлись. Дедушкина кузня со всем инструментом теперь была в моем распоряжении. Я заперся там и стал мастерить из жести высокий конус. Этот конус я надел на трубу, возвышающуюся над клумбой, и положил в него гутаперчевый мячик.
Вечером, когда пришел отец, я позвал его во двор, где уже собрались соседские ребятишки, и открыл кран у бака.
Над клумбой взвился пышный бисерный столб воды.
Все были изумлены. Мальчики от удивления открыли рты, а мой маленький братишка начал громко кричать и бить в ладоши.
Отец остался очень доволен моим фонтаном. Он осмотрел его устройство и в награду дал мне двугривенный на пряники.
Я был так взволнован успехом своего изделия, похвалами и наградой отца, что, не зная куда деться, убежал в кузню, залез на верстак, где была моя постель, и тут же уснул.
Проснувшись, я твердо решил не покупать пряников. Лучше купить на эти деньги бабки. О, их дали бы много, пожалуй, ни у одного мальчишки столько не было! Но, подумав, я отказался и от этого, а пошел в книжную лавку и купил несколько книжечек по механике.
В одной из них рассказывалось о русском изобретателе Ползунове, о том, как он, бедный солдатский сын, изобрел первую в мире паровую машину.
Я спросил отца, правда ли это.
— Это правда! — сказал отец. — Но к изобретению Ползунова власти отнеслись, как к забаве, и не подумали его применить для дела.
Отец знал о Ползунове больше, чем вычитал я. Он рассказал о том, что Ползунов был не только способным изобретателем, но и сильным, мужественным человеком. Он перенес много лишений и невзгод, прежде чем осуществил свое изобретение.
— А почему Ползунову мешали работать? — спросил я.
— Очень тяжело простому мастеровому выйти на широкую дорогу. Сделает он что-нибудь ценное — в лучшем случае у него купят это за гроши богатеи, да и выдадут за свое. А потом огромные деньги наживут. Помнишь, что дед про Москвина рассказывал. Его ружье будто бы купил один немец, работавший у нас, и продал французам за громадные деньги, а те еще больше нажили, продав его под видом иноземного нашему же государю. Вот как бывает.
— И с Ползуновым вроде этого получилось, — продолжал отец, — паровую машину он первый изобрел, а все считают изобретателем ее англичанина Уатта. Потому что цари и их слуги не верят в таланты простых людей, а верят иноземцам. А те больше бахвалятся, чем делают. Есть и у нас на заводе такие люди. Видел я, как они работают, — одни слезы!
— Что ж, так и не нужно ничего изобретать простому человеку? — спросил я.
— Не всегда же так будет, — ответил отец. — Ты пока учись. А там, может быть, другие времена придут.
Самым близким для меня человеком в это время был отец.
В отличие от крепкого деда отец выглядел хилым, болезненным. Двенадцатичасовой труд на заводе его сильно изнурял. Отец приходил домой усталый, подавленный, но при моем появлении всегда оживлялся, охотно отвечал на вопросы и в разговоре со мной отдыхал.
Правда, разговоры эти бывали очень непродолжительными. Пообедав и немного посидев на крылечке, отец опять принимался за работу (дома у него стоял ножной токарный станок). Без дополнительного приработка отца мы бы пропали. Семья была большая — восемь душ, а мне, самому старшему из детей, исполнилось только десять лет.
Отца очень радовало мое стремление к учебе и мастерству, и он, как мог, старался помогать мне. Вечерами, стоя за станком, он показывал приемы токарной работы.
Если выдавалось вёдреное воскресенье, отец ходил со мной в город. Он очень любил Тулу и называл ее городом русской славы. Он знал название и назначение каждой из девяти могучих башен старинного тульского кремля и увлекательно рассказывал об этом мне.
Я до сих пор помню широкую толстостенную башню «На погребу». Так ее называли потому, что под ней находился огромный погреб со сводчатым потолком, выложенным из кирпича. Этот погреб некогда служил арсеналом — в нем хранилось оружие и порох. Другая башня называлась «Водяные ворота», потому что выходила к реке и под ней действительно были ворота.
Помню еще одну башню — «Одоевские ворота». Башня эта мне казалась самой красивой. Ее венчала строгая куполообразная арка, а ворота под башней выводили на главную улицу города.
Отец рассказывал мне, что тульский кремль построен во времена царствования Василия III, более четырехсот лет тому назад, что он всегда был надежной русской крепостью и не раз сдерживал татарские орды, оберегая от них Москву.
Но больше всего Тула прославилась как город превосходных ружейных и пушечных мастеров.
В Туле с незапамятных времен процветало кузнечное ремесло, так как вблизи было много железной руды.
Кузнец Никита Демидов, будучи хорошим мастеровым и предприимчивым человеком, завел оружейную мастерскую.
В 1696 году, возвращаясь после битвы с турками под Азовом, в Туле остановился Петр I. Прослышав о Никите Демидове, Петр вызвал его к себе и, показав «аглицкий» пистолет, спросил, могут ли такой сделать тульские мастера.
Демидов осмотрел пистолет и сказал:
— Можем, и даже почище!
Петр отпустил Демидова, а тот дня через два явился снова и принес пистолет, изготовленный туляками, который и красотой и качеством превосходил «аглицкий».
Петр тут же разрешил Демидову делать плотину у устья реки Тулицы и строить железоделательный завод. Землю для рытья руды он повелел дать ему бесплатно в Малиновой засеке, но поставил условие, чтобы Демидов налаживал оружейное дело.
С отъездом Петра Демидов развернул кипучую деятельность и построил большие оружейные мастерские. В 1712 году Петр снова посетил Тулу. Он осмотрел демидовские мастерские и учредил там первый в России казенный оружейный завод.
С этого времени в Туле началось изготовление ружей и пушек. Искусство тульских мастеров оружейных и пушечных дел росло и совершенствовалось с каждым годом. Оно передавалось из поколения в поколение, от дедов и отцов к сыновьям и внукам.
Мощь тульского оружия не раз испытали на себе враги нашей Родины. Бесстрашные солдаты Суворова, вооруженные тульскими пушками и ружьями, прошли через Альпы и многие страны Европы.
Этим же оружием нанес жестокое поражение туркам в Чесменском бою великий русский адмирал-флотоводец Ушаков.
Тульским оружием били Наполеона победоносные войска Кутузова. Оно было прославлено в героической обороне Севастополя солдатами и моряками Корнилова и Лазарева.
Отец с воодушевлением рассказывал о доблести русских войск, об их незабываемых победах и с особой гордостью подчеркивал, что эти войска воевали оружием, изготовленным здесь, в Туле, нашими дедами и прадедами.
Старый оружейный завод находился рядом с кремлем, и мы не раз осматривали его.
Отец гордился своим заводом, гордился тем, что был потомственным тульским оружейником, и очень хотел, чтобы я, его сын, тоже стал работать на оружейном заводе.
Да. Была наша Тула славным городом. На протяжении веков не переводились в ней редчайшие мастера. А жилось этим мастерам не лучше, чем другим рабочим тогдашней России. Работали они до изнеможения по двенадцати — тринадцати часов, а получали гроши — 25, много 30 рублей в месяц. Жили в Заречье, в крохотных собственных или арендуемых ветхих домиках. Нужда и болезни были вечными спутниками рабочих семей.
Наш земляк писатель Глеб Успенский с удивительной правдивостью нарисовал жизнь и быт жителей тогдашней Тулы в очерках «Нравы Растеряевой улицы».
«В г. Т… (писал он) существует Растеряева улица. Принадлежа к числу захолустий, она обладает и всеми особенностями местностей этого рода, т. е. множеством всего покосившегося, полуразвалившегося или развалившегося совсем. Эту картину дополняют ужасы осенней грязи, ужасы темных осенних ночей, оглашаемых сиротливыми криками «караул», и всеобщая бедность…»
Эту всеобщую бедность я видел каждый день в годы своего детства и юности. Как ни бился наш отец, а его заработков едва хватало на пропитание. Мы же, ребятишки, ходили полураздетые и бегали босиком до поздней осени.
Отрадой нашего детства были летние месяцы. Мы ловили рыбу, ходили в лес на Косую гору за ягодами, грибами и орехами.
Но детство в семьях рабочих обрывалось очень рано. В десять — двенадцать лет мальчики попадали на заводы и выполняли работу взрослого человека. Наша семья не была исключением. Как ни хотелось отцу дать мне среднее образование, но дальше приходской школы шагнуть не пришлось.
Я пошел той же дорогой, что и сотни других детей рабочих. Одиннадцати лет меня определили на завод, и радужные мечты об учебе рассеялись, как сон.
Как уже было рассказано, я с детства любил труд, пристрастясь к нему еще в дедовской кузне. Поэтому и на завод пошел без страха, не так, как многие мальчишки моего возраста, а, пожалуй, даже с охотой. Мне очень хотелось самому зарабатывать деньги, чтобы помогать отцу, окончательно подорвавшему свое здоровье.
Помню, мы вышли из дому с отцом после первого гудка. Отец шел молча, чувствовалось, что ему было нелегко. Понимая его состояние, я тоже молчал, но старался итти бодро, а в голову, как назло, лезли стихи Некрасова, которые я как-то услыхал и запомнил:
Миновав будочника и пройдя шагов двести двором, мы вошли в длинное прокопченное помещение, уставленное какими-то машинами и наполненное грохотом, скрежетом, лязгом.
Отец, ободряюще взяв меня за плечо, начал что-то показывать и объяснять. Но до моего слуха долетали лишь обрывки его слов и я, испуганно озираясь, неуверенно ступал вперед.
Мы дошли до середины помещения и встретили какого-то человека в картузе, в темном пиджаке и с цепочкой во весь жилет.
— Поклонись! — прокричал мне в ухо отец. — Это мастер Василий Иванович Зубов.
Оглушенный и подавленный шумом машин, я пробормотал что-то несвязное. Но мастер, очевидно, воспринял это как приветствие. Он был старым знакомым моего отца и потому отнесся ко мне снисходительно, жестом повелев следовать за ним.
Мы вошли за тесовую перегородку, где было немного тише.
— Ну что, тезка, работать к нам? — дружелюбно спросил Зубов.
— Да-а, — ответил я тихо.
Мастер осмотрел мою щуплую фигурку и неодобрительно покачал головой.
— Сколько?
— Сколько положите.
— Лет сколько — спрашиваю.
— Одиннадцать!
— А не врешь?
— Верно, — подтвердил отец, — а ростом мал, так ничего, догонит.
— Ладно уж, что делать. Оставлю.
Отец облегченно вздохнул.
— Василий Иванович, очень прошу, присмотри за ним первое-то время, боюсь, под машину не попал бы…
— Ничего, все обойдется. Иди и не думай.
Отец нагнулся ко мне.
— Ты не бойся, Василек, учись, слушайся, я буду к тебе заходить.
— Ладно, батя, — машинально ответил я и уставился на мастера.
— Ну, ты, малый, посиди тут немного, я скоро приду, — сказал он и вышел, пропустив вперед отца.
Я сел на черную, пропитанную маслом и железом табуретку и, прислушавшись к шуму завода, подумал:
«Вот и кончилось мое детство. Не сладкое оно было, а все же детство. Теперь новая жизнь начинается. Какова-то она будет?»
Над ухом загрохотало: «Пойдем!»
Я спрыгнул с табуретки и увидел перед собой усатого мастера.
Мы вышли из каморки и пошли по грязному, заваленному железными стружками проходу между станками.
— Вот машина, на которой ты будешь работать, — указал мастер.
Я осмотрел установленный на чугунные бабки узкий железный ящик с большим рычагом и спросил:
— А как же на ней работать?
— Вот гляди! — мастер огромной пятерней взял с деревянного, почерневшего от времени столика горсть каких-то пружин и аккуратно уложил их в ящик. Потом закрепил крышку ящика и, надавив книзу рычаг, накинул на него железный крюк.
— Вот этак крепи, — пояснил мастер, — потом ослабишь рычаг и достанешь пружины. Целые клади вот сюда, в ящик, а ломаные вали на пол. Это машина для испытания винтовочных пружин, а прозывается она попросту — «шарманка».
Заставив меня раза два проделать показанную операцию, мастер ушел, приказав до гудка от «шарманки» не отходить и работать исправно.
«Шарманка» показалась мне механизмом очень несложным и работа — нетяжелой. Я усердно старался, изо всех сил налегал на рычаг и к вечеру так устал, что еле дотащился до дома.
— Что, измучился? — спросил отец, встретив меня на крыльце.
— Спину ломит, да руки натер о железяку.
— Это ничего, — ободряюще сказал отец, — понемногу втянешься, и все пойдет, как надо. Дед-то твой целый день молотом махал и то не жаловался.
— И я не жалуюсь, просто так, к слову сказал.
— Ну-ну, ладно! — примиряюще похлопал отец по моему плечу. — Пойдем-ка лучше отдыхать, завтра ведь чуть свет на работу.
Поужинав и выпив чаю, мы улеглись спать. Но мне не спалось: нахлынули воспоминания о дне, проведенном на заводе.
— Ты что не спишь, Василек? — спросил отец.
— Все думаю о работе.
— Чего же думать-то, работа твоя несложная и, пожалуй, самая легкая.
— Пустяшная какая-то. Может, мне другую попросить?
Отец приподнялся на кровати и внимательно посмотрел на меня.
— Кто это тебе сказал, что испытание пружин пустяшная работа? Кто, спрашиваю?
Я молчал.
— Это мог сказать, — с возмущением продолжал отец, — только тот, кто ничего не смыслит в оружейном деле. Пойми, что ты испытываешь пружины, а пружина есть сердце всего механизма. Плохая пружина — и ружье никуда не годится. Сломалась пружина — и выброси его. А каково это, если бой идет? Подвела пружина, и погиб человек. Вот что значит твоя работа. От нее зависит самое главное — боеспособность оружия. Понял ли?
— Понял, батя, очень хорошо понял!
— То — то же! Твоя работа особенно важна теперь, потому что завод начал делать новую винтовку.
Потом я узнал, что в 1891 году, то-есть в год моего поступления на работу, тульский оружейный завод начал изготовлять первую магазинную винтовку, сконструированную русским инженером, капитаном С. И. Мосиным, превосходившую новейшие западноевропейские системы.
До этого завод производил винтовки системы Бердана. Русские мастера немало поработали над ее улучшением и усовершенствованием. Они добились того, что русские образцы Бердана превосходили американские, и все же винтовка была далеко не совершенной. Она часто ломалась и отказывала в стрельбе при малейшем засорении.
Однако чиновники из военного ведомства, получавшие под видом «подарков» крупные взятки от иностранных предпринимателей, усиленно протаскивали в производство на русские заводы образцы иностранного вооружения. Изобретения же русских конструкторов не могли найти применения.
Так было похоронено Изобретение тульского оружейника Двоеглазова, еще в 1887 году сконструировавшего автоматическую винтовку.
Мосин, которого в те годы мне доводилось не раз видеть на заводе, тоже с немалым трудом продвигал в производство свою винтовку. Он долгое время добивался в военном ведомстве устройства конкурса на лучшую магазинную винтовку. Конкурс состоялся в 1890 году. На нем конкурировали две винтовки: русская трехлинейная капитана Мосина и бельгийская конструкции Нагана.
Испытания показали полное превосходство русской винтовки над бельгийской. Винтовка Мосина была принята на вооружение русской армии. Но, очевидно, ловкие заграничные дельцы сумели снискать расположение некоторых видных людей из военного министерства. Только этим можно объяснить тот факт, что комиссия предложила Мосину при окончательной доработке его винтовки применить некоторые детали из винтовки Нагана.
Казна выдала Мосину за изобретенную им винтовку премию в 35 тысяч рублей, а Нагану — 200 тысяч рублей.
Царь запретил называть мосинскую винтовку именем изобретателя. Больше того, он запретил называть ее русской, а повелел окрестить «винтовкой образца 1891 года».
А русская винтовка Мосина (с испытания пружин для нее я и начал свой трудовой путь) оказалась замечательным оружием. Она и поныне является лучшей винтовкой в мире.
После разговора с отцом я стал иначе смотреть на свою работу, Я оценил и даже полюбил незамысловатую «шарманку», содержал ее в чистоте, и она работала безотказно.
Чтобы легче было опускать рычаг, я поставил под ноги широкий ящик. Стал налегать на рычаг грудью. Это значительно облегчило работу, и я меньше уставал.
Все же работа на «шарманке» со временем мне порядочно надоела. Хотелось учиться оружейному мастерству, что-то придумывать, мастерить, изобретать. У меня даже явилась мысль усовершенствовать «шарманку», и я заикнулся об этом мастеру.
Но тот сердито замахал руками.
— Изобретай себе дома, а тут и без твоих изобретений хлопот довольно.
Меня обидел такой ответ, но спорить с мастером не полагалось.
Дома каждую свободную минуту я посвящал чтению или работе в дедушкиной кузне, где починял домашнюю утварь и посуду.
Я прочел небольшую книжечку о замечательном русском изобретателе Кулибине.
Подобно солдатскому сыну Ползунову, Кулибин вышел из народных низов, но благодаря упорству и настойчивости стал известным изобретателем.
Более ста лет назад, когда не было ни современных станков, ни совершенных инструментов, Кулибин создал маленькие настольные часы с месяцеисчислением и музыкальным боем… Часы эти приводят в восторг даже наших современников.
Образы славных русских изобретателей-самоучек беспрестанно стояли передо мной, пробуждая горячее стремление пойти по их трудному, но благородному пути.
Уже тогда я начал мечтать об изобретательстве. Единственным человеком, знавшим о моих сокровенных мечтах, был отец.
— Тяжелое дело ты задумал, сынок, — говорил он. — Трудно, даже почти невозможно в наше время простому мастеровому стать изобретателем.
Но отцу, как видно, нравились мои замыслы. Он даже признался, что в юности сам мечтал о том же.
Отец упорно и последовательно прививал мне любовь к труду, посвящал в сложное искусство оружейника, учил слесарной и токарной работе…
Как-то раз он выпросил у соседей лошадь, и мы поехали в деревню навестить родных.
И вот грязный, закопченный город остался позади. После спертого воздуха цехов грудь дышала глубоко и свободно.
Мы ехали по обочине Орловского шоссе, с обеих сторон обрамленного темнозелеными массивами богатырского леса. Он был огромен и тянулся на сотни верст, соединяясь со знаменитыми Брянскими лесами.
Справа показались поля. Неубранная рожь пестрела васильками и колокольчиками. Мне захотелось соскочить с телеги и пойти пешком.
— Василек, гляди-ка сюда, — сказал отец, — видишь пахаря на горке?
Действительно, на бугре велась пахота. По направлению к дороге следом за сивой лошадью, запряженной в соху, шел невысокий коренастый старик в широкополой соломенной шляпе.
Ветер трепал его густую белую бороду и полы длинной рубахи. Старик был в синих подвернутых штанах и босиком.
— Знаешь ли, Василий, кто это пашет? — спросил отец.
— Не знаю, а что?
— Это ж граф Лев Николаевич Толстой.
— Писатель, что на завод приезжал?
— Он и есть! Чудеса! Барин, богатый человек, а вот пашет, труд любит. Труд — великое дело! Без труда человек ничто!
Я упорно всматривался в Толстого. Он шел за сохой бодрой, молодой походкой, изредка покрикивая на лошадь.
Впоследствии я не раз вспоминал Толстого за сохой и хранил репинский портрет, где Толстой изображен в длинной рубахе и босиком.
Вернувшись домой, я заперся в дедушкиной кузне и втайне от всех принялся мастерить давно задуманную самоходную машину. Мысль о создании этой машины зародилась у меня еще в начале лета.
Возвращаясь как-то с работы, я увидел мастерового, едущего на двухколесном велосипеде. Велосипед этот, очевидно, был самодельный: он казался неуклюжим и тяжелым.
Мастеровой ехал медленно, часто останавливался и падал, теряя равновесие.
Я задумал сделать более устойчивый велосипед — на трех колесах. А чтобы легче было вращать колеса, решил применить цепную передачу, как у заводских станков.
Мне удалось разыскать три подходящих колеса и трубки для остова и руля. Каждый день после работы два — три часа я проводил в кузне, а в воскресные дни почти вовсе не выходил оттуда.
Не прошло и месяца, как я вывел свою машину за ворота. Вокруг тотчас же собралась толпа любопытных ребятишек.
Под веселые крики и улюлюканье я уселся на велосипед и медленно поехал под уклон.
— Гля, едет, едет! — громко закричали мальчишки и бросились вдогонку.
Велосипед лязгал, грохотал, скрипел, стучал железными колесами. Из дворов выскакивали собаки, заливаясь отчаянным лаем.
Выходили взрослые люди, посмеивались.
— Ишь, едет-то, что черепаха, а грохочет, как паровоз.
А от мальчишек не было отбою, каждому хотелось «проехаться».
Велосипед завоевал всеобщее признание, но за медлительность был тут же метко прозван «тихоходом».
Эта кличка мне казалась обидной, даже оскорбительной, и, посоветовавшись с отцом, я стал доделывать свою машину.
С помощью отца мне удалось отладить передачу, которая раньше заедала. Я стал ездить довольно быстро, и велосипед еще крепче полюбился уличным ребятишкам. Однако прозвище «тихоход», к моему великому огорчению, так и осталось за ним.
Слава о «тихоходе» разлетелась по всему городу. К нам на Нижнемиллионную посмотреть на него и покататься приходили подростки с противоположных окраин города.
Создание «тихохода» было моей первой самостоятельной работой. Она доставила мне большую радость, и укрепила уверенность, что в дальнейшем я сумею сделать что-нибудь более интересное.
Весть о моем «тихоходе» проникла и на завод. Взрослые рабочие стали оказывать мне больше внимания. Но на администрацию это не произвело ни малейшего впечатления, и я по-прежнему выполнял однообразную, ничего не дающую мне работу на «шарманке».
Отец заметно слабел. Изнурительная многочасовая работа свела его в могилу еще сравнительно молодым. На меня, семнадцатилетнего юношу, обрушилась вся тяжесть содержания большой, удрученной горем семьи.
К тому времени я был уже опытным рабочим, но с этим мало считались на заводе.
Раз семнадцать лет — получай заработок ученика. А этого заработка нашей семье едва ли могло хватить на неделю.

Мать, обремененная маленькими детьми, работать не могла. Чтоб не дать умереть с голоду братьям и сестрам, я стал по вечерам работать на отцовском токарном станке, выполняя частные заказы.
Мои вечерние приработки были большим подспорьем в нашей жизни. Но работать дома после десяти — двенадцатичасового труда на заводе было нелегко, особенно на таком кустарном станке. Приходилось одновременно вращать станок, точнее вал станка, и обтачивать деталь. Я серьезно задумался над тем, как бы облегчить работу. На заводе станки приводились в движение трансмиссиями или цепными передачами, соединенными с валом двигателя. Электричества в то время не было.
Мне захотелось придумать двигатель к своему станку. Еще в детстве я не раз присматривался к ветряным мельницам. Они казались простыми и очень умно придуманными сооружениями, потому что приводились в движение бесплатной энергией — силой ветра.
Желание самому сделать небольшой ветровой двигатель не давало мне покоя.
Дождавшись воскресенья, я отправился за город, туда, где на буграх стояло несколько ветряных мельниц.
Подойдя к одной из них (а как раз было тихо и мельница не работала), я внимательно осмотрел устройство ее крыльев и зарисовал их. По этому чертежу мне удалось сделать небольшие крылья и укрепить их на прочном стальном валу.
Вал я поместил в медную втулку, а на конце его укрепил принесенную с завода конусную шестеренку. Другую шестеренку укрепил на длинном железном стержне, который упрятал в водопроводную трубу, пропустив ее сквозь крышу и потолок и соединив шестеренками с осью станка. Крылья или ветряки были прочно укреплены на крыше, а для регулирования ими сквозь крышу и потолок была пропущена проволока с петлей на конце.
Все рабочие поверхности своего механизма я тщательно смазал и стал ждать ветра.
Ветви черемухи подали мне знак о появлении ветра, и я потянул за проволочную петлю. К моей неописуемой радости ветряк пришел в действие, и вал станка завертелся.
Я вставил деталь и принялся ее обтачивать. Работа пошла как нельзя лучше. За то же время я стал обтачивать почти вдвое больше деталей. Это была уже серьезная победа, убедившая меня в практической ценности моего изобретения.
Но чем больше я работал на станке с помощью ветряка, тем больше находил в нем недостатков. При сильном ветре станок вращался очень быстро, при слабом, наоборот, крайне медленно. И то и другое не годилось. Я сконструировал регулятор скорости. Станок стал работать ритмично.
Однажды я пригласил к себе старого мастера завода и показал ему свое изобретение.
Мастер был человек неторопливый и не щедрый на похвалу. Он долго осматривал станок, пробовал на нем точить, выходил во двор смотреть ветряк. Потом сказал:
— Ловко придумал, молодец! Надо бы тебе, парень, учиться.
Я и сам знал, что мне надо учиться, но средств для этого не было.
— Может, вы меня оружейному подучите? — спросил я мастера.
— Можно! — сказал он и, осмотрев еще раз мое сооружение, ушел.
Через некоторое время на заводе мне стали поручать более сложные и ответственные работы, в частности сборку затвора и магазина.
Я хорошо узнал и изучил винтовку Мосина и, пожалуй, смог бы каждую ее деталь выточить самостоятельно.
Прошло еще несколько лет, и меня стали считать оружейным мастером.
Теперь я чувствовал себя тверже, да и опыт кое-какой поднакопился. И все же применить свои способности на заводе не было никакой возможности.
Я не раз пытался сделать кое-какие усовершенствования к станкам, но мои предложения натыкались на непреодолимые преграды.
Инженеры просто не хотели разговаривать со мной, даже возмущались. Один из них, немец, заявил так: «Я инженер, а ты есть слесарь, это надо понять — и больше меня не беспокоить».
Мастер же объяснял это проще:
— Пойми, Василий, всякое приспособление требует затрат. А казне выгодней тебе заплатить грош, чем на приспособление истратить целковый.
— Так ведь потом же все окупится! — возражал я.
— Это еще бабушка на-двое сказала. А зачем им гадать да рисковать, когда дело и так идет!
Да, на заводе все мои стремления к изобретательству наталкивались на каменную стену и разлетались вдребезги.
Оставалось одно — отложить свои мечты и чаянья до лучших дней.
И я откладывал. Но откладывал не без надежды, нет. Я твердо верил, что придет тот день, когда мы, изобретатели-самоучки из народной гущи, будем учиться творить и созидать для блага своего народа. Эту надежду в нас вселяли появившиеся на заводе социал-демократы, которые тогда уже отчетливо видели перед собой светлое будущее России.

Начало XX века в моей личной жизни ознаменовалось памятными событиями. В 1901 году несмотря на то, что я был единственным кормильцем большой семьи, меня забрали в солдаты.
Хорошо помню этот день — тусклый, пасмурный, серый.
Длинный состав из красных телячьих вагонов подан на запасный путь, подальше от вокзала. На платформе и поодаль на поблекшей лужайке много людей. Тут и мастеровые, окруженные фабричными девчатами. Их сразу можно отличить по сапогам в гармошку, по коротким пиджакам нараспашку. Тут и деревенские парни в лаптях, в холщовых рубахах и их родичи, угрюмые бородачи, и плачущие бабы с ребятишками и узелками.
Воздух насыщен множеством самых разнообразных звуков. Кто плачет, кто играет на гармошке, кто пляшет, дико выкрикивая или отбивая в ладоши и насвистывая. И весь этот гомон покрывают пьяные голоса, горланящие в разных местах одну и ту же песню:
Позднее мне довелось видеть в Третьяковской галерее картину К. А. Савицкого «Проводы новобранцев на войну». Я долго стоял перед ней. Мне казалось, что художник изобразил тот самый эшелон с небольшим старомодным конусотрубным паровозом, который увозил меня из родного города.
Проводы в солдаты, или, как раньше говорили, а рекруты, были одним из самых страшных, диких и печальных событий старого времени.
Вот паровоз загудел, захрипел и, провожаемый воплями, потащил наш состав по направлению к Москве. Я увидел плачущую мать, окруженную ребятишками, а в стороне молоденькую девушку в пестром ситцевом платочке…
Помахав мне рукой, она отерла слезу и, подойдя к матери, стала ее утешать. Это была моя невеста — Вера.
Я отошел от двери, сел на нары и глубоко задумался. Невесело было на душе. В Туле осталась мать с кучей малолетних детей. Что они будут делать, как жить?
Думалось и о Вере — милой, веселой девушке. Сдержит ли она слово? Будет ли ждать пять долгих лет?
Думалось и о том, что ждет меня впереди. Нудная ли казарменная муштра или работа в войсковой оружейной мастерской, как обещали в Туле?
Все эти размышления утомили меня, и я уснул. Разбудили меня товарищи, когда эшелон наш подъезжал к Москве.
В вагоне царило возбуждение: стало известно, что нас везут в Петербург — столицу Российской империи.
Служить в Петербурге казалось заманчивым, и я повеселел. Мы шутили, резались в «дурака», пели песни.
В Петербурге нас рассортировали и направили в разные части. Я с несколькими солдатами-туляками попал в Ораниенбаум, где была офицерская школа и квартировала стрелковая часть. Дорогой мы узнали, что в Ораниенбауме при офицерской школе есть оружейные мастерские, и надеялись, что нас как мастеровых направят туда.
Но в Ораниенбауме нас постигло горькое разочарование. Сгоняли в баню, выдали обмундирование и поместили в унылые, темные, сырые казармы. На другой же день началась обычная солдатская муштра. Огромный плац около здания школы был местом наших учений. Чуть свет раздавались громкие выкрики: «Смирно! Шагом марш! Кругом!..»
Научившись ходить строем, мы маршировали по широкому полю и горланили старую солдатскую песню:
Оружейная мастерская, о которой мы мечтали по дороге в Ораниенбаум, была рядом, но попасть в нее оказалось нелегко.
После того как мы, новобранцы, прошли положенную выучку, нас стали учить стрельбе. Стрельба велась из винтовок, но иногда баловали и стрельбой из пулемета. Пулеметы в то время только появились, и нам было очень интересно познакомиться с ними. Но стрельба из пулеметов оказалась настоящим мучением. Эти машины были очень несовершенны и часто отказывали.
Однажды пулемет испортился так, что и механик не мог его починить. Офицер, руководивший ученьем, долго ходил около механика, курил и спрашивал: «Скоро ли?»
Когда тот заявил, что не может исправить пулемет, офицер начал кричать и ругаться самыми непристойными словами.
Наконец, убедившись, что его брань положения не изменит, офицер прогнал механика и быстро зашагал к начальнику полигона.
Мне почему-то казалось, что пулемет можно исправить. Я догнал офицера и взял под козырек.
— Ваше благородие, разрешите разобрать пулемет, может, я починю?
Тот недовольно взглянул на меня и, ничего не ответив, махнул рукой. Я истолковал этот жест как разрешение и, вернувшись к пулемету, стал разбирать его, ища повреждение.
Повреждение оказалось серьезным. К тому же под рукой не было нужного инструмента. Товарищи, желая мне помочь, сбегали в мастерскую и принесли все необходимое. Не прошло и часу, как пулемет был исправлен, и мы дали очередь по мишени.
Услышав стрельбу, офицер вернулся и подошел прямо ко мне.
— Ты починил?
— Так точно, — ответил я смущенно.
— Как фамилия?
— Дегтярев Василий Алексеев, — ответил я вытянувшись.
Офицер, очевидно, доложил о происшествии с пулеметом начальнику полигона Филатову, и это решило мою судьбу.
В тот же вечер я был вызван к полковнику Филатову. Узнав, что я оружейный мастер, он тут же отдал приказ о моем переводе в опытную мастерскую.
На другой день с волнением и трепетом я переступил порог опытной мастерской. Она поразила меня чистотой и обилием света. Работать в этом просторном, свежеокрашенном помещении после тесного, закопченного заводского цеха казалось мне счастьем.
Меня представили бритому, коренастому мастеру, очень походившему на татарина, но носившему фамилию Елин. Он осмотрел меня бойкими черными глазами и быстро заговорил:
— Что можешь делать? Сверлить, строгать умеешь? Станка, машина знаешь?
Я так же быстро кивал головой.
Елин подвел меня к широкому верстаку и поручил починить винтовочный затвор, очевидно, решив проверить, к чему я годен.
Разобрав затвор, я увидел что повреждение пустячное, и, быстро его исправив, доложил мастеру.
Тот не поверил. Оказалось, что передо мной этот затвор уже чинил один мастер, но так и не доделал. Елин считал повреждение серьезным, думал, что мне придется повозиться с ним до вечера, и очень изумился, когда я доложил о починке затвора через каких-нибудь тридцать минут.
Осмотрев его, он подозвал к себе нескольких мастеров и показал им затвор. Все признали работу добротной, и я был принят в их среду как равный.
Более подробное знакомство с опытной мастерской меня несколько разочаровало. Оборудование ее почти ничем не отличалось от заводского. Те же старые станки, те же верстаки и инструменты.
Но меня обрадовало другое. В этой мастерской были образцы новейшего стрелкового оружия многих стран Европы и Америки. Мне представилась возможность подробно познакомиться с неизвестными системами, и я немедленно воспользовался ею. Мастер Елин относился к моей любознательности очень снисходительно и даже объяснял мне устройство иностранных систем, только не позволял этим заниматься в рабочие часы.
В мастерскую часто заглядывал начальник полигона полковник Филатов, высокий человек с черной густой бородой. Попросту здороваясь, он велел продолжать работу, а сам ходил по мастерской, поглаживая бороду, присматриваясь то к одному, то к другому. Елин не покидал его.
— Ну, как новичок работает? — услышал я за спиной громкий голос Филатова.
— Башка-человек, ваше высокоблагородие, сам пушка может делать, — ответил Елин.
— Из Тулы? — опросил Филатов.
— Из Тулы, ваше высокоблагородие, ответил я вытянувшись.
— Отставить, — оказал Филатов, — здесь ты не в строю, разговаривай просто. Оружейник, значит?
— Так точно!
Филатов подробно расспросил меня о прошлой жизни, о том, что я делал в Туле, с какими мастерами работал, знаю ли о Мошне… Я отвечал очень сдержанно и сухо, как положено по уставу: «так точно!» или «никак нет!» Но постепенно стал чувствовать себя свободнее.
Филатов оказался очень внимательным и хорошо знающим оружейное дело человеком. Он был искренно обрадован тем, что мне понравилась опытная мастерская и что я выразил желание работать и учиться.
— Хорошо, — сказал он на прощанье, — будешь работать и учиться. А поучиться тут есть чему, смотри, сколько у нас оружия. Да и мастера здесь отличные.
После разговора с Филатовым мне стали поручать наиболее ответственные работы по ремонту оружия, главным образом пулеметов.
Выполняя эти работы, я очень внимательно присматривался к пулеметам, вникал в их нутро, старался разгадать тайны их устройства, помять капризы механизма.
На ремонте пулеметов я проработал более двух лет. За это время неплохо научился разбираться в механизмах, и меня стали считать лучшим мастером по ремонту.
Филатов, бывая в мастерской, почти всякий раз подходил ко мне.
— Знаешь, Дегтярев, — сказал он мне однажды, — твои успехи меня радуют, и скоро я тебе поручу одно серьезное дело.
— Рад стараться, ваше высокоблагородие, — ответил я.
— Пока помалкивай, а время придет — вызову!
Я задумался. Что за дело думает мне поручить Филатов? Этот вопрос много дней не давал мне покоя. Но в душе я радовался. Было приятно, что Филатов выбрал именно меня. Значит, я был неплохим мастером.
Изучая образцы различных стрелковых систем, собранные в нашей мастерской из многих стран мира, я находил в них не только достоинства, но и недостатки. Не раз я высказывал мастеру Елину свои соображения о том, как можно улучшить ту или иную систему, но тот только разводил руками.
— Не наше дело. Пусть думает начальство, у них голова побольше.
У меня возникало желание предложить кое-какие усовершенствования. Но и здесь, в опытной мастерской, это было так же трудно сделать, как и на заводе. На изобретателя из солдат не обратили бы серьезного внимания.
Все же успешный ремонт пулеметов поставил меня в несколько особое положение. Мне поручалась теперь, самая трудная работа, и меня одним из первых знакомили с новым оружием, которое поступало на полигон для испытаний.
В эти годы быстро развивалась оружейная автоматика. Пулеметы стали получать все большее признание.
В будущих войнах им предстояло сыграть серьезную роль. Начальник полигона получил приказ начать систематическое обучение ефрейторов и солдат стрельбе из пулемета. Опытных учителей или инструкторов пулеметной стрельбы на полигоне не оказалось. Тут-то и вызвал меня Филатов.
— Ну, Дегтярев, есть для тебя важное дело. Поручаю тебе взяться за обучение группы ефрейторов стрельбе из пулемета.
Это заставило меня призадуматься. Пулемет Максим я знал хорошо, но навыков в преподавании стрельбы у меня не было. Я сам научился стрельбе из пулемета почти без посторонней помощи. А тут предстояло учить других. Но приказ был подписан, и мне ничего не оставалось, как приступить к его выполнению.
Чтоб учеба шла успешно, я хорошо отладил и смазал свой Максим, и он работал довольно исправно.
Занимались мы на полигоне недалеко от опытной мастерской, чтобы в случае порчи пулемета можно было быстро его починить. А нужно сказать, что пулеметы того времени были очень капризны и непрочны. Был у них еще один серьезный дефект — они быстро перегревались. Сделаешь несколько сот выстрелов — и из пулемета пар столбом.
Ефрейторы в шутку называли их «самоварами».
Чуть свет я вставал, одевался и, выкатив из казармы тяжелый Максим, начинал занятия.
Раскинув на траве шинель и разобрав пулемет, я объяснял название и назначение каждой части, а потом по очереди заставлял всех самостоятельно собирать машину. Без тщательного изучения устройства пулемета даже думать о стрельбе нельзя было. Только те, кто хорошо знал все детали пулемета, могли устранить частые «заедания» и мелкие повреждения.
Я старался объяснять сложное устройство пулемета простым, понятным каждому языком, и это облегчало наши занятия.
Все двенадцать ефрейторов хорошо изучили Максим и прекрасно выдержали испытания по стрельбе… Мне была объявлена благодарность.
Затем я обучил стрельбе из пулеметов группу оружейных мастеров и принялся за обучение солдат.
Мне полюбилось это дело, и я вкладывал в него не только все свои знания и навыки, но и, как говорится, всю свою душу.
Со временем эти занятия приняли более организованный характер. На базе нашей небольшой группы благодаря усилиям полковника Филатова была создана первая школа русских пулеметчиков.
Об этой первой школе русских пулеметчиков знают многие советские воины, но вряд ли они знают, что первым преподавателем в ней был рядовой солдат и оружейный мастер.
Проводя занятия по пулеметной стрельбе, я часто вынужден был их прерывать и становиться из преподавателя механиком, то-есть чинить поврежденный пулемет.
Это вызывало не только досаду, но и обиду на то, что мы вынуждены стрелять из такого непрочного, привезенного из-за границы пулемета. «Неужели, — думал я, — русские инженеры, мастера, изобретатели не могут создать свой, русский, пулемет, который был бы лучше и прочней?»
Я вспоминал Ползунова, Кулибина, тульских оружейных мастеров и думал, что нет и не может быть такого дела, в котором не показал бы себя русский человек.
Тогда я еще не мог предвидеть, что со временем сам изобрету такой пулемет, но мне кажется, что желание создать русский добротный пулемет у меня зародилось именно в те дни.
Позже, когда я познакомился с пулеметами Мадсена и Шварцлозе, когда я приобрел знания по оружейной автоматике, эта мысль стала принимать более конкретные формы. Изобрести русский пулемет, который превосходил бы все заграничные системы, — стало моей сокровенной мечтой.
Ее я вынашивал почти полтора десятилетия. За это время в нашей стране произошли великие преобразования, и именно они помогли осуществлению моей мечты.
Но об этом позже.
В то время, обучая ефрейторов и солдат стрельбе из пулемета, я мог только мечтать о творчестве. Всякие попытки с моей стороны к изобретательству если не пресекались прямо, то просто не получали поддержки. Мне напоминали о том, что я простой солдат и что не следует забывать об этом.
С болью в душе я откладывал, отодвигал свои мечты до лучших дней. Но желание творить и изобретать во мне не угасало, а разгоралось с новой силой.
И чем чаще ломались иностранные пулеметы, тем больше укреплялось мое стремление создать отечественный пулемет. Я даже начал верить, что рано или поздно именно мне доведется это осуществить.
Прошло более трех лет с тех пор, как я расстался с родной Тулой, а города, в котором жил эти годы, по-настоящему еще не видел. Хотя я и работал оружейным мастером, но был солдатом. А нас, солдат, не часто выпускали в город.
Позднее я понял, что начальство боялось, как бы мы не встретились с рабочими и не набрались «крамольных» идей.
Вот почему нас отгородили от мира каменной стеной. И все же в казармы проникали слухи о событиях, происходивших в России.
О трагедии в Чемульпо, о войне с Японией мы узнали одновременно с жителями города.
Вероломное нападение Японии на нашу страну без объявления войны вызвало большое возмущение.
В опытных мастерских и в казармах, только и говорили о войне. Мы, солдаты, в большинстве бывшие рабочие, понимали, какие бедствия и разорения она несет народу.
Офицеры храбрились и, пытаясь поднять настроение солдат, о японцах говорили пренебрежительно:
— Шавка полезла на слона!
— Наши япошек шапками закидают.
Солдаты и оружейники мало этому верили. Кто-кто, а уж мы-то хорошо знали, что Россия к войне не готова: новейшее оружие — пулеметы были в частях большой редкостью. Каким-то образом до нас дошли слухи о том, что во главе сражающихся русских войск, за немногим исключением, стоят трусливые, бездарные, даже продажные генералы вроде Стесселя, которым чужды кровные, интересы русского народа.
Положение усугублялось еще и тем, что Россия была наводнена японскими шпионами.
А между тем война с Японией продолжалась. И чем дальше развивались события, тем мрачней были известия с фронтов. Не подготовленные к войне, плохо вооруженные русские армии, несмотря на беспримерное геройство солдат, терпели поражение за поражением.
Нередко этому сопутствовали прямое предательство и измены. Случалось, что на фронт вместо снарядов и патронов засылались иконы да кресты.
И все же мужество не покидало русских воинов. Они прославили себя беспримерными героическими подвигами и при обороне Порт-Артура и в сражениях при Ляояне и Мукдене.
Неподалеку от нас, в Кронштадте, на помощь порт-артурцам снаряжалась вторая Тихоокеанская эскадра.
Но этой эскадре, руководимой бездарным адмиралом Рождественским, уже не суждено было изменить хода войны. Пока дальними путями добиралась она к местам сражений, к Цусимскому проливу, японцы овладели Порт-Артуром.
Затем было проиграно генеральное сражение под Мукденом, где русские потеряли больше 100 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными.
Мы получили известия о гибели наших добровольцев на маньчжурских полях. Настроение было подавленное. Нас, оружейников, больше всего возмущало то, что одной из главных причин поражения было плохое вооружение наших войск, словно в России не было людей, способных создать первоклассное оружие.
Трагическое известие о гибели в Цусимском проливе второй Тихоокеанской эскадры и о позорном мире с Японией глубоко потрясло нас — русских солдат и оружейников. Многие плакали, как дети. И многие в те дни потеряли веру в бездарное царское правительство, бесцельно погубившее десятки тысяч жизней русских солдат и матросов.
Позднее я понял, что главная причина поражения русских войск в войне с Японией крылась в гнилом, разложившемся русском царизме и что падение Порт-Артура было началом падения самодержавия.
Но в то время я, как и многие, видел причину поражения в бездарности генералов и в плохом вооружении войск. И мне, русскому человеку, хотелось сделать для нашей армии такие пулеметы и автоматы, которые были бы лучше иностранных.
Между тем война с Японией многому научила царских чиновников: хотя и с опозданием, но они взялись за вооружение армии. И тут с образцами нового автоматического оружия хлынули в Россию падкие до наживы иностранные фабриканты.
Как раз на полигоне в Ораниенбауме производились испытания привезенного ими оружия, и я был невольным свидетелем этих событий.
В то время мне довелось не только хорошо изучить пулеметы Мадсена и Шварцлозе, но и увидеть их конструкторов.
Очень хорошо помню высокого, румяного, всегда жизнерадостного и веселого датчанина Мадсена. Он был изысканно любезен даже с нами, простыми солдатами. И за малейшую услугу или помощь пытался отблагодарить деньгами.
Австриец Шварцлозе, смуглый, худощавый человек, был замкнут и угрюм, редко показывался в мастерской и избегал разговоров.
Американец Браунинг, плотный, энергичный, веселый, был, напротив, очень общителен, часто приходил в мастерскую и через переводчика охотно разговаривал с мастерами.
И он и Мадсен всячески старались задобрить солдат и оружейных мастеров.
Браунинг привез автоматическую винтовку, надеясь выгодно продать ее царскому правительству.
Я много слышал о Браунинге, мне не терпелось быстрее познакомиться с его винтовкой. И случай скоро представился.
При испытаниях винтовка Браунинга отказала. Он с шумом влетел в мастерскую в окружении целой свиты. Быстро скинул пиджак, закатал рукава и сам взялся за починку винтовки.
Мы бросили работу и стали внимательно наблюдать за ним. Мой верстак стоял близко, я хорошо видел, как он разобрал винтовку и стал исправлять повреждение. Браунинг был очень возбужден, взволнован, и работа у него не клеилась. Поковырявшись минут десять, он посмотрел на мастеров и поманил меня пальцем. Я подошел.
Браунинг через переводчика опросил, не могу ли я починить его винтовку.
Мне так хотелось познакомиться с его винтовкой, что я охотно согласился и без проволочек взялся за дело. Работал я быстро, даже с азартом, мне хотелось показать американцам, что русские мастера могут работать не хуже их.
Другие наши мастера подошли ближе, встали полукругом и смотрели, затаив дыхание.
В случае неудачи или заминки каждый из них в любую минуту готов был притти мне на помощь. Но дело у меня шло на редкость хорошо. Работал я быстро и уверенно. Браунинг не спускал с меня глаз и громко повторял: «Ол райт, ол райт!»
Наконец, повреждение было исправлено. Я сам собрал винтовку, чем окончательно поразил Браунинга.
Он принял винтовку, щелкнул затвором, нажал курок. Винтовка громко щелкнула.
— Ол райт! — громко прокричал Браунинг и, пожав мне руку, вытащил пачку долларов.
— Не надо, не возьму, — сказал я переводчику.
Браунинг очень удивился. Заспорил с переводчиком, опять попытался мне вручить деньги, но я категорически отказался их принять.
— А что может посоветовать мне русский мастер? — спросил он через переводчика.
Я осмотрел винтовку и сказал, что нужно крепче приладить штык, чтобы он не соскакивал и не мешал прицелу.
Браунинг тотчас же записал это в блокнот и, попрощавшись, направился на полигон.
Меня обступили наши мастера.
— Ну, Василий, что скажешь о заморской винтовке?
— Думаю, что забракуют ее, — ответил я.
— Почему?
— Очень уж сложна она. Да и детали сделаны мелкие, непрочные, хорошо стрелять не будет.
Мои предположения сбылись. Винтовку Браунинга действительно забраковали, она не выдержала положенных испытаний.
Браунинг уехал в Америку. Мне больше никогда не доводилось его видеть. Но эта встреча осталась в моей памяти.
Она заставила меня о многом задуматься. Прежде всего я понял, что хваленые заграничные мастера не хватают звезд с неба. Изобретенные ими системы автоматического оружия далеко не совершенны, и мы, русские мастера, не только можем с ними поспорить, но и превзойти их в своем искусстве, как это не раз случалось на протяжении столетий.
Стояла зима только начавшегося 1905 года.
Жизнь в казарме сделалась тяжелее. Офицеры стали еще более придирчивыми, злыми, а вместе с тем какими-то растерянными, подавленными.
От нас старались скрыть и позорные поражения нашей армии и гибель на сопках Маньчжурии десятков тысяч русских солдат и особенно то, что назревало в России.
Казарма, полигон — и дальше ни шагу!
Но как бы ни был суров режим, к нам все же проникли слухи о событиях в Петербурге.
Один солдат, вернувшийся из госпиталя, под большим секретом рассказал о том, что на площади Зимнего дворца были расстреляны тысячи безоружных рабочих, шедших с петицией к царю.
Это известие ошеломило нас. Никто не мог и не хотел работать. Мы были подавлены, убиты слухами об этой страшной трагедии.
Будучи потомственным рабочим, я переживал эти события особенно болезненно.
Казарменный режим стал жестче: запретили отпуска, ограничили прогулки, за каждое смелое высказывание грозили военно-полевым судом.
Но уже никакими силами нельзя было скрыть от нас, что «дремлющая», как впоследствии писал Владимир Ильич, Россия «превратилась в Россию революционного пролетариата и революционного народа». На крупнейших заводах Петербурга начались стачки.
Стачечное движение быстро распространялось по промышленным городам.
Летом вспыхнуло восстание на броненосце «Потемкин», в декабре загрохотали революционные бои в Москве. Нас стали держать еще строже — оказалось, по соседству, в Кронштадте, с оружием в руках восстали матросы.
Я не мог разобраться в событиях, но уже понимал, что злейший враг трудового народа — царизм. И хотя я был лишен возможности быть рядом с восставшими рабочими и моряками, сердце мое было с ними.
Как ни тяжело было известие о подавлении революции 1905 года, оно не могло поколебать во мне веру в то, что народ скоро снова поднимется против самодержавия и завоюет долгожданную свободу. И может быть, мое знание пулемета пригодится, когда начнутся новые бои.
Осенью кончился срок моей службы. Я мог сделать выбор: уехать в родную Тулу или остаться здесь вольнонаемным.
Случись это несколько лет назад, я бы, пожалуй, не раздумывая, уехал в Тулу, где родился и вырос, где каждый уголок был знаком и дорог, где меня ждали мать, братья и невеста. Но расстаться с Ораниенбаумом — значит расстаться с Филатовым, потерять полюбившуюся мне работу в опытной мастерской и, может быть, навсегда отказаться от изобретательства. Я колебался… Я не мог забыть любимую девушку, не хотел еще на долгие годы разлучаться с семьей. Не зная, на что решиться, я попросил Филатова дать мне два дня на размышление. Он согласился, но стал убеждать не ехать в Тулу.
— Оставайся, — говорил он, — женишься, привезешь семью, снимешь квартиру и заживешь на славу. Тебе надо учиться и развивать свои способности, а лучшего места ты для этого не найдешь.
Поблагодарив Филатова за совет, я отправился в город. Впервые за пять лет пребывания здесь я мог по-настоящему осмотреть Ораниенбаум.
Потому ли, что я сменил солдатское одеяние, или потому, что почувствовал себя после казармы относительно свободно и независимо, город предстал передо мной в совершенно новом виде.
Стояла ранняя осень. Липы уже были тронуты золотом. И это золото лип красиво переплеталось с глубокой зеленью обрамлявших город сосен и дубов старинного парка.
Дома в городе были удивительно красивы: с высокими мезонинами, узорными террасами и балконами. Улицы чистые, все в зелени. После грязной и пыльной Тулы Ораниенбаум казался мне каким-то сказочным городом.
Очень тянуло меня посмотреть старинный Китайский дворец, о котором много говорили. Дворец этот, по рассказам, был построен еще при Петре I Меншиковым.
Выйдя за город, я увидел величественные очертания дворца и быстро зашагал к нему.
Дворец находился в глубине старинного парка. Он стоял на возвышении. Перед ним раскинулась широкая поляна с прямыми желтыми дорожками и пышными благоухающими клумбами. Эту поляну-цветник обрамляли высокие деревья, такие же деревья окружали дворец могучей зеленой стеной.
На фоне темной зелени сада дворец казался ослепительно белым. Тонкая ажурная лепка придавала ему какую-то удивительную легкость.
Чистое лазурное небо, густая зелень дубов, белоснежное здание дворца, пестроцветный ковер поляны — все это, отражаясь в спокойных водах огромного пруда, создавало незабываемую картину.
Вдоволь насмотревшись издалека, я подошел ближе к дворцу. Окна были распахнуты, и я сумел рассмотреть роскошное убранство комнат, невиданную живопись на стенах, изумительной работы люстры и мебель.
— Неужели все это создано руками человека? — сказал я вслух.
— Да, мил человек, все это сделали люди, — услышал я за спиной хрипловатый старческий голос и невольно вздрогнул.
— Ты не бойся, я здешний сторож, — сказал, подходя ко мне, маленький, худенький старичок. — А ты отколь?
Я рассказал ему про себя.
— Так, — оказал старичок и протянул мне кисет. — Тульский, значит. Вот тут есть одна комната, так там какого только оружия нет! Посмотришь — глаза разбегаются! И сказывают, что все это оружие сделано тульскими мастерами. А дворец-то, сказывают, владимирцы строили, а мебель — вятские мастера. Все это наш брат сделал — крепостные русские люди.
Я еще раз посмотрел в окна и, попрощавшись со старичком, пошел к себе.
Полный новых впечатлений, шел я, не задумываясь над тем, куда ведет незнакомая дорога.
Меня обуревали мысли о виденном и о рассказанном сторожем. Я был глубоко растроган тем, что всю эту чудесную мебель, картины и люстры и весь дворец создали простые русские люди. Это вселяло в меня надежду, что и я, сын русского народа, сумею сделать что-то полезное, если буду упорно этого добиваться. Размышляя, я не заметил, как очутился на берегу Финского залива. Огромный синий, простор распахнулся передо мной неожиданно во всем своем величии и красоте.
Я невольно расправил плечи и, глубоко вдохнув свежий морской воздух, почувствовал прилив новых сил. С особенной страстью захотелось работать, творить, созидать.
«Нет, — решил я, — мне надо остаться здесь. Работать, учиться, совершенствовать свое мастерство».
На другой день я подыскал небольшую комнатку и, найдя на полигоне Филатова, заявил ему о своем желании остаться.
Написав большое письмо матери, я с волнением опустил в тот же почтовый ящик письмо Вере с предложением быть моей женой.
Я старался работать как можно больше, чтобы не оставалось времени для дум. Но что бы я ни делал: обтачивал ли деталь, сверлил ли, строгал ли — мысли мои были там, в Туле.
И вдруг я получил телеграмму:
«Выезжаю, встречай, твоя Вера».
Так началась моя новая жизнь в Ораниенбауме.
Особым годом в моей жизни был 1906 год. Я познакомился с инженером Владимиром Григорьевичем Федоровым, будущим конструктором и ученым — отцом русской оружейной автоматики.
Это знакомство оказало решающее влияние на всю мою последующую жизнь и конструкторскую деятельность.
А произошло оно, если мне не изменяет память, так.
Однажды душистым весенним утром, когда солнце стояло уже высоко и жаворонки рассыпали над полигоном звонкие трели, в мастерскую вошел полковник Филатов и, как всегда, громко поздоровавшись, подошел ко мне.
Из-за его спины что-то жестами показывал мне мастер Елин.
Сообразив, что, должно быть, речь пойдет о новом задании, я сосредоточился.
Филатов показал мне рисунок, точнее, набросок пульки.
— Вот, Дегтярев, тебе задачам нужно точно такую же выточить из меди. Сумеешь?
Я посмотрел набросок. Пулька резко отличалась от наших тупоконечных пуль. Она была остроконусная.
— Ну, так как же? — спросил Филатов, заметив мое замешательство.
— Постараюсь, ваше высокоблагородие!
— В три часа приходи ко мне. Елин, проводишь его.
— Есть, ваше высокоблагородие! — разом ответили мы.
Точно в три часа я был в кабинете Филатова.
— Вот вам и мастер! — сказал Филатов, обращаясь к стройному, румяному капитану.
— Ну-ка, подойди сюда, Дегтярев, познакомься, это капитан Владимир Григорьевич Федоров.
Я подошел к столу.
Федоров встал, протянул мне руку, затем развернул чертеж новой остроконусной пули и спросил, удастся ли выточить такую из металла.
— Выточит, выточит, — ответил за меня Филатов. — Он скромен, а руки золотые!
— Работа должна быть предельно точной, — предупредил капитан.
И тут же пояснил, что чертеж этой остроконусной пули разработан профессором Михайловской артиллерийской академии Петровичем. Сделал профессор этот чертеж на основе сложнейших математических вычислений по преодолению сопротивления воздуха пулями самых различных форм.
— Так что же, позвольте узнать, — спросил я, — эта остроконусная пуля и должна быть самой лучшей?
— Вот именно, если вы сумеете ее сделать строго по чертежу.
Я задумался.
— Что, боишься? — опросил Филатов.
— За себя не боюсь, а вот за инструмент действительно побаиваюсь.
И хотя Филатов обещал оказывать мне всяческую помощь, все же я колебался. Взяться за работу и не выполнить ее было не в моих правилах. А выполнить такую точнейшую работу при имеющемся оборудовании и инструментах было почти невозможно.
Филатов продолжал настаивать, подбадривая меня:
— Берись, Дегтярев, лучше тебя никто эту работу не выполнит.
— Не бойтесь, вам будут даны хорошие чертежи, и от вас требуется только точность исполнения. Работа очень важная и почетная, — сказал Федоров. — Если модель, которую мы поручаем вам сделать, покажет хорошие качества на испытаниях, по ней будут изготовлять миллионы пуль. Ими вооружат всю русскую армию.
— Понимаю, дело серьезное, — сказал я, — буду стараться точно выполнить ваше задание.
— Он у нас аккуратный малый, — улыбнулся Филатов, — будьте покойны, не подведет.
— Очень хорошо! — сказал Федоров и вручил мне чертеж.
Я вышел из кабинета и почти бегом бросился в мастерскую.
Сердце стучало. Было радостно и вместе с тем страшно. Радостно оттого, что мне, молодому мастеру, доверили такую ответственную работу. И страшно за последствия. А вдруг не сделаю. Тогда прощайте мечты об изобретательстве прощай, любимое дело!
«Нет, — сказал я себе. — Каких бы трудов ни стоила мне эта пуля, а я ее сделаю!»
Мастер Елин, очевидно, заранее предупрежденный Филатовым, предоставил в мое распоряжение лучшие инструменты, и работа началась.
Я сделал заготовку двадцати пулек, надеясь из них выточить одну. Мастера с тревогой следили за мной, но не понимали моего замысла.
А я размышлял так: оборудование плохое, инструмент тоже не бог весть какой, следовательно, брак неизбежен, и поэтому надо сделать запас заготовок.
Мои опасения оправдались. Как я ни старался быть аккуратным, при доводке неизбежно запарывал одну пульку за другой.
Приходил Елин, рассматривал пульки, неодобрительно качал головой.
— Опять ошибка давал. Плохо! Плохо!
— Ничего, — говорил я, — Москва не сразу строилась. Москва большая, а пулька маленькая. Пульку надо сразу делать. Смелей. Тогда выйдет!
Я пробовал и быстро и тихо — ничего не получалось. Пульки неизменно выходили с браком.
Однажды, когда я сидел у верстака, сличая одну с другой только что обточенные пульки, в мастерскую вошел капитан Федоров.
— Здравствуйте, Дегтярев, как успехи?
— Здравия желаю, ваше высокоблагородие. Успехи плохие.
Федоров достал лупу и стал рассматривать «запоротые» пульки.
— Странное дело, — сказал он, — как у вас с нервами?
— Не жалуюсь.
— А ну-ка, встаньте за станок.
Я начал обтачивать пульку. Федоров наблюдал.
— Да, руки у вас не дрожат. В чем же дело?
— Может быть, станок дрожит? — спросил я.
— Возможно. Попробуйте еще.
Я включил станок и стал работать.
Федоров достал серебряный рубль и поставил его на станину. Рубль задрожал и вдруг, спрыгнув со станины, со звоном покатился по полу.
— Все ясно, — сказал Федоров, — вас подводит станок, он сильно вибрирует. Советую вам сделать точнейшего профиля резец и работать с меньшим числом оборотов.
Зная, что Федоров был не только офицером из артиллерийского ведомства, но и артиллеристом-инженером, я последовал его совету и очень скоро сделал партию пулек, которые удовлетворили и Елина и Филатова.
Пульки мои подвергли тщательной лабораторной проверке, а затем испытанию на определение скоростей.
Я с нетерпением ждал результата. А результат оказался неважный. Пульки, предложенные Петровичем, не удались, хотя его же расчеты артиллерийских снарядов оказались блестящими.
Владимир Григорьевич Федоров через некоторое время привез из Петрограда чертежи новых остроконусных пуль. Я опять включился в работу и довольно быстро сделал новые модели.
Прошло порядочное время, а о пульках не было никаких известий. Меня очень волновала их дальнейшая судьба, и я время от времени опрашивал о них Филатова.
Однажды он сам пришел ко мне и оказал, что остроконусные пули на стрелковых испытаниях показали себя отлично.
Значительно возросла дальность прямого выстрела, увеличилась меткость, усилилась пробивная способность, почти втрое увеличилась отлогость траектории, а все это было чрезвычайно важно.
— Ну, поздравляю тебя, Дегтярев, с успехом! — и Филатов попросту пожал мне руку. — Да, чуть не забыл, сегодня вечером приедет Федоров, так что ты заходи-ка попозже ко мне, хотим тебе поручить очень важную работу, но никому ни слова, дело сугубо секретное…
Когда я вошел в кабинет Филатова, Федоров был уже там. Он пошел мне навстречу и дружески поздоровался, крепко пожимая руку.
— Садись, Дегтярев, — пригласил Филатов. — Владимиру Григорьевичу нужен хороший мастер, хочешь с ним работать? Будете мосинскую винтовку переделывать на автоматическую.
Предложение это было для меня столь неожиданным, что я растерялся и молча стоял, теребя картуз, не находя нужных слов.
— Ну что ж ты, брат, неужели недоволен? — спросил Филатов.
— Очень доволен, ваше высокоблагородие, и рад стараться всей душой, — выпалил я, не переводя дыхания.
— То-то же. Ну, подойди поближе.

Я подошел к столу, где лежал чертеж первого русского автомата.
— Предупреждаю, работа сложная и строго секретная, никто кроме вас с Федоровым не должен об этом знать, понял? — сказал Филатов.
— Так точно, понял!
— Всю работу будешь делать один. Справишься?
— Постараюсь, ваше высокоблагородие.
— Вот и отлично.
Федоров, обняв меня за плечи, стал не торопясь объяснять, что и как нужно делать поначалу.
Мне отвели отдельное место в мастерской, дали лучшие инструменты, и работы начались.
Федоров еще раз объяснил мне, какие детали делать, оставил чертежи, а сам уехал в Петербург.
Наши встречи были редкими и короткими. Но я всегда все его задания выполнял точно и аккуратно, что очень радовало Владимира Григорьевича.
И чем больше мы работали, тем лучше понимали друг друга.
Федоров по годам был несколько старше меня. По званию же он был офицер, а я бывший солдат. Но между нами установились хорошие, я бы сказал, товарищеские отношения. В лице Владимира Григорьевича я встретил человека редких знаний и не менее редких конструкторских способностей.
Эти качества сочетались в нем с мягким характером и добрым, отзывчивым сердцем.
Он быстро угадал мою тягу к знаниям и к изобретательству и посвящал меня в тайны оружейной автоматики.
В каждый его приезд мы успевали не только обсудить все вопросы, связанные с моей работой по автомату, но и поговорить о заграничных автоматических системах, которые Владимир Григорьевич прекрасно знал. Его суждения о них были для меня своеобразными лекциями, которые я впитывал с жадностью.
Работал я с большим увлечением. Подчас мне было трудно, нужна была срочная помощь Федорова, а он приезжал только раз в неделю. Обратиться к кому-нибудь из мастеров я не имел права, и поэтому некоторые технические вопросы приходилось решать самостоятельно.
Федоров внимательно относился к моим предложениям и не раз с похвалой отзывался о них. Это меня очень радовало и ободряло.
Особая важность переделки мосинской винтовки в автоматическую состояла в том, что в случае успеха такая конструкция дала бы громадные экономические выгоды. Ведь в то время у нас было свыше 4 миллионов этих винтовок. Раньше чем предлагать новую автоматическую винтовку, каждый конструктор должен был переделать мосинскую винтовку в автоматическую.
Однако чем больше подвигалась моя работа над автоматом, тем яснее становилось для нас, что винтовку Мосина переделать на автоматическую невозможно из-за внешней коробки, в которую был помещен ствол. Система оказалась очень громоздкой и тяжелой.
От переделки мосинской винтовки пришлось отказаться.
Федоров предложил новую, совершенно оригинальную конструкцию автомата.
Нельзя сказать, чтобы к изобретательской деятельности молодого офицера начальство относилось поощрительно. На работы по изобретению первой русской автоматической винтовки было ассигновано только 500 рублей, хотя иностранцам выплачивались миллионы.
Но, несмотря на это, Федоров смело взялся за дело, а в моем лице он нашел верного и преданного помощника, всю жизнь мечтавшего о такой именно работе.
Однако, чтобы сделать новый автомат, требовалась длительная, упорная работа. Но меня это не страшило.
В Федорове я нашел настоящего учителя и друга. Работать с ним было для меня наслаждением. Оба молодые, смелые и решительные, мы упорно пробивались к цели, мужественно перенося неудачи и разочарования. И, пожалуй, главным успехом в нашей работе была все возрастающая и крепнущая дружба.
В 1907 году мы начали работу над новой системой автоматической винтовки, предложенной Владимиром Григорьевичем Федоровым.
В основу ее был положен принцип подвижного ствола. Однако затвор двигался прямолинейно, а не с поворотом. Сцепление его со стволом производилось без посредства ствольной коробки, с помощью двух боковых симметрично расположенных личинок.
При выстреле пороховые газы своим давлением отбрасывали назад затвор и сцепленный с ним личинками ствол.
Это совместное движение затвора и ствола продолжалось, пока выступы личинок не упирались о выступы на неподвижной коробке, тогда затвор освобождался и отбрасывался назад, сжимая находящуюся сзади возвратную пружину, которая одновременно с подачей в ствол нового патрона возвращала затвор на место.
Внизу ствола находилась возвратная пружина, которая одним концом упиралась в хомутик, надетый на ствол, а другим в специальный канал, вырезанный в неподвижной коробке. Такова была сущность системы первого образца русской автоматической винтовки.
Достоинство ее по сравнению с иностранными системами было неоспоримо. Винтовка должна была получиться проще, удобней и значительно легче, так как не имела ствольной коробки.
Федоров вооружил меня подробными чертежами каждой детали, и я принялся за дело.
Каждую неделю Владимир Григорьевич приезжал ко мне. Я показывал ему готовые детали, и мы вместе проверяли их взаимодействие. Всякие заторы и неполадки тут же устранялись, и работа быстро подвигалась вперед.
Я выполнял работу очень внимательно, стараясь даже в ничтожных мелочах не отступать от чертежей. А если мне удавалось что-нибудь упростить или усовершенствовать, я говорил об этом Федорову, и он от души хвалил меня.
Больше года проработал я над новым вариантом автомата Федорова. Теперь он был совершенно другой конструкции, ничем не напоминающей мосинскую винтовку. И этим я гордился. Мне было очень приятно сознавать, что мы создаем новое русское оружие. Ведь это самое большое счастье для оружейника.
Наконец, работа была завершена. Федоров осмотрел автомат, но не высказал большого восторга. Я подумал, что он недоволен моей работой, и спросил, почему он так невесело настроен.
— Рано веселиться, — ответил Владимир Григорьевич, — посмотрим, что испытания покажут.
После первой неудачи с мосинской винтовкой я тоже относился к новому автомату с осторожностью, хотя больше, чем Федоров, верил в его добротность.
И вот час испытаний настал. На том же полигоне, где я когда-то обучал ефрейторов и солдат стрельбе из пулемета, собралась комиссия.
Стрелять из автомата, поручили мне. Чтобы упор был крепче, я лег на траву и прицелился в яблоко мишени.
— Пли! — скомандовал Федоров.
Я нажал спусковой крючок. Автомат без задержки отбил полную очередь.
Члены комиссии переглянулись. А обычно спокойный и сдержанный Федоров бросился ко мне и стал крепко пожимать руку.
— Василий Алексеевич, поздравляю, мы сделали первый русский автомат!
Дальнейшие испытания показали, что в автомате очень слаба возвратная пружина. После долгой стрельбы она ослабевала и не могла задвигать затвор. Обнаружилось еще несколько мелких недостатков.
Комиссия предложила доработать автоматическую винтовку, но она не могла не признать за Федоровым изобретения первого русского автомата, который через тридцать с лишним лет стал основным оружием советских воинов.
В 1908 году, после вторичных испытаний автомата Владимир Григорьевич предложил мне перебраться в Сестрорецк на военный завод.
— Там хорошее оборудование и легче, чем в мастерской, завершить работу над автоматом.
Я согласился.
Городок этот стоит на Сестре-реке, отсюда и название его Сестрорецк. В отличие от дворцового Ораниенбаума он был городом полупромышленным, полукурортным. В нем жило около тысячи рабочих, в основном оружейников. На берегу моря в сосновом лесу красовались санаторий и множество дач.
Природа в Сестрорецке на редкость красива. Высокие лесистые холмы, прекрасный пляж, раздольные луга, мягкий климат (город защищен от северных морских ветров холмами, поросшими вековым лесом) привлекали множество дачников, и отыскать там жилье в летние месяцы было немыслимо.
Я поселился с семьей километрах в восьми от города, на станции Разлив, в тех самых местах, где впоследствии скрывался преследуемый Временным правительством Владимир Ильич Ленин.
На заводе я снова попал в рабочую среду. Среди рабочих было много смелых, революционно настроенных людей, не боящихся высказывать свои убеждения.
Вначале мне это казалось странным, не скрою, я даже сторонился таких людей, а потом подружился с ними и стал участником рабочих собраний, которые проводились в лесу, у нас, в Разливе.
На собраниях выступали большевики со смелыми зажигательными речами. Они разоблачали царский режим, призывали рабочих к организованной борьбе.
Из-за того, что моя работа была секретной, мне запрещали общение с рабочими, и это меня очень тяготило. Но я все-таки ухитрялся встречаться с ними и благодаря этим встречам стал понимать, какая мощная сила подымается против самодержавия.
Радостно было, что меня считают своим, что мне доверяют.
Работа над автоматом, как и предполагал Федоров, здесь пошла быстрее. В моем распоряжении были станки и хорошие инструменты. Да и материалы оказались лучше тех, которыми располагала ораниенбаумская опытная мастерская. Мне удалось изготовить пружину для автомата из прочной и упругой стали. Но определить ее силу было очень трудно: то она оказывалась слишком сильна, то, напротив, слаба. Я вспоминал слова отца, о том, что пружина самая главная часть в винтовке. Силу пружины удалось установить путем многих экспериментов, и автомат стал работать исправно.
Мы с Федоровым отправились на стрельбище, чтоб испытать оружие в полигонной обстановке.
При стрельбе из автомата гильза застревала в сильно нагретом стволе, что задерживало последующие выстрелы.
Для устранения этого недостатка Федоров предложил ускоритель, с большой силой отбрасывавший затвор назад и облегчавший выбрасывание гильзы. Ускоритель мы сделали за две недели, и тогда механизм стал работать безотказно.
На нашем заводе в одном корпусе со мной работал хорунжий Токарев. Он тоже создавал автоматическую винтовку. Между нами шло негласное соревнование.
Еще в Ораниенбауме я много слышал о Токареве. Полковник Филатов показал мне как-то высокого казачьего офицера.
Мне хотелось познакомиться с Токаревым, поговорить с ним, но это было невозможно. Мы оба делали секретную работу, и общаться нам запрещалось.
Мне было известно, что Токарев родом с Дона. Оружейному мастерству он выучился еще в юности в родной станице, где были небольшие кузни, в которых нередко работали приезжие тульские мастера.
Потом он окончил в Новочеркасске ремесленную школу, попал в солдаты и служил в казачьем полку оружейным мастером. Ему каким-то образом удалось поступить в Новочеркасское военное училище и выбиться в офицеры.
Токарев решил стать оружейником-изобретателем и уже в то время добился немалых успехов.
Еще в Ораниенбауме, когда Токарев учился в офицерской школе, он закончил первый вариант своей автоматической винтовки, которая получила одобрение высшего начальства.
Рассказывали, что весь выпуск офицеров Ораниенбаумской школы был представлен в Петергофском дворце царю Николаю второму. Царь шел по фронту и пожимал руки выпускникам.
Когда он подошел к Токареву, кто-то из сопровождавших генералов ему шепнул, что этот подъесаул изобрел автоматическую винтовку.
— Надо подъесаулу помочь! — промямлил царь и проследовал дальше.
Но сколько ни бился Токарев, его винтовка не была принята в производство. Свое замечательное изобретение он реализовал лишь в годы советской власти!..
С Владимиром Григорьевичем Федоровым произошел не менее примечательный случай. Уже будучи полковником, он преподавал в Михайловском артиллерийском училище. Однажды во время занятий в аудиторию вошел Николай второй в сопровождении нескольких военных. Жестом велев продолжать урок, он сел рядом с юнкерами и стал слушать.
В перерыве он подошел к Федорову и спросил:
— Вы изобрели автоматическую винтовку?
— Я, ваше величество, — ответил Федоров.
— Я против ее применения в армии, — сказал царь.
— Разрешите узнать, почему?
— Для нее не хватит патронов! — отрезал царь и зашагал к выходу.
Вряд ли нужны дополнительные комментарии к характеристике государя Российской империи, который мог так отнестись к изобретению нового отечественного оружия, да еще накануне первой мировой войны.
Мы с Федоровым понимали, что наш дальнейший путь не будет усыпан розами, а скорей всего окажется таким же тернистым, как и пути многих русских изобретателей. Но теперь, достигнув главного, мы уже не боялись никаких преград и упорно продолжали совершенствовать свою винтовку.
Мой рассказ затянулся. Читатель может с недоумением спросить, почему мы так долго делали простой автомат, когда теперь у нас новые системы пушек, самолетов, даже танков создаются и выпускаются в массовом количестве в течение месяцев.
Так было особенно в годы Великой Отечественной войны. Такие чудеса делали наши советские конструкторы и наши заводы.
Но ведь мы-то работали в другое время и в других условиях. Тогда не было ни Магнитогорска, ни Кузнецка, ни Электростали. Где же мы могли взять легированные стали? Где мы могли добыть точнейшие станки и инструменты?
Мы начали делать свой автомат, когда в Ораниенбауме автомобили, а в особенности самолеты, были большой редкостью, когда разработка автоматических винтовок была совершенно новым, не освоенным еще делом. Поэтому неудивительно, что на изготовление автомата потребовались годы упорного труда.
Я уже не говорю о том, что отношение к нам, конструкторам, было иное, чем теперь, когда за нашими работами неустанно следят партия и советское правительство, помогают нам во всем, создают все условия для творческой работы.
Время, о котором идет речь, было последним, завершающим этапом нашей работы. Автомат в сущности давно уже был готов, Но его еще нельзя было пустить в производство, в нем оказалось много мелких недоделок, и мы трудились над их устранением.
Прекрасное с виду ложе нашего автомата при длительной стрельбе сильно перегревалось и коробилось. Это мешало скольжению ствола. Мы пробовали склеивать ложе из разных древесных пород, но и это ни к чему не привело.
— Подождите! — сказал однажды Федоров. — А почему бы нам не попробовать асбестовую прокладку, ведь асбест не теплопроводен. Попробовали. Пока стреляли, все шло прекрасно, а на другой день опять увидели покоробленное ложе. При стрельбе асбест задерживал тепло в себе, а потом передавал его дереву.
Мы долго бились над ложем, пока не пришли к простому решению — заменить деревянное цевье железным.
И вот, когда уже все недостатки были устранены и когда автомат стрелял безотказно из любого положения и сколько угодно, его снова забраковали. Оказалось, что выбрасывание гильз вверх не годится. Гильзы блестят и демаскируют солдат.
Мы призадумались. Выбрасывать гильзы вниз нельзя, назад — опасно, вбок неудобно. Нужно было гильзу выбрасывать вперед.
— Вперед, так вперед! — решили мы и опять принялись за работу. А добиться выбрасывания гильзы вперед оказалось не так-то просто. Но я верил, что изобретательный ум Федорова решит и эту задачу.
Признаюсь, у меня были тоже кое-какие соображения, — но я не высказывал их Федорову потому, что был уверен — Владимир Григорьевич придумает что-нибудь лучшее. Дела у меня временно приостановились, и я даже был доволен этим, так как последние месяцы почти совсем не уделял внимания семье. А у меня уже был пятилетний сын Шурик и две маленькие дочки.

Как-то утром, когда я ладил у себя во дворе снасти, собираясь с вечера на рыбалку, ко мне явился мой старый товарищ по работе, оружейный мастер и изобретатель оружия Рощепей.
— Никак, Василий Алексеевич, за карасями готовишься?
— Да уж кто попадется, — ответил я.
— А знаешь, я к тебе по этому же делу.
Я очень обрадовался. К нам присоединился мой младший брат Иван, живший у нас и работавший на заводе. Мы взяли Шурика и махнули на ту сторону Разлива.
А Разливом назывался огромный пруд, образовавшийся из реки Сестры, которая была перегорожена у завода, километров пяти в ширину да километров двенадцати в длину. Рыбы в нем водилось множество, а рыболовство было для меня всегда любимым отдыхом и развлечением.
Переехав на другую сторону, мы еще до вечера наловили рыбы, сварили уху, подзакусили, выкупались, одним словом, славно провели денек и до заката солнца успели домой.
Только причалили к берегу, а уж меня там ждет посыльный с завода.
— Где же вы запропастились, Василий Алексеевич? На заводе вас обыскались. Федоров приехал, вы дозарезу нужны.
Я взглянул на часы — да бегом на поезд, даже переодеваться не стал. Приезжаю. А Владимир Григорьевич ждет.
Неловко мне стало. Извиняюсь. А он ничего. Веселый такой, смеется.
— Придумал с выбрасыванием гильз, теперь полетят вперед, — и показывает мне чертеж.
Смотрю, придумано еще лучше, чем я намечал. Однако задача была очень трудная. Стал я прикидывать, как бы побыстрей ее выполнить, но ничего хорошего не придумал.
— Сколько времени потребуется на эту переделку? — спрашивает Владимир Григорьевич.
— Месяца три, быстрей нипочем не сделать.
А он мне:
— Постарайся, брат Василий, нельзя с этим затягивать, время сейчас горячее.
— Ладно, Владимир Григорьевич, буду стараться изо всех сил.
Уехал Владимир Григорьевич довольный. Гляжу, дня через два он опять здесь. Волновался больше меня.
И я ночами не спал. Семью забросил. Но теперь сдаваться было стыдно. Победа лежала у наших ног. И мы не жалели усилий. Если пять лет прошло в упорном труде, то месяцы ничего не значат.
Через два месяца переделка в конструкции была мною сделана, и гильзы стали вылетать вперед.
Первый русский автомат, сконструированный Владимиром Григорьевичем Федоровым и сделанный моими руками, работал исправно. Хотя он не был еще принят на вооружение русской армии, Сестрорецкому заводу было поручено сделать 150 экземпляров автомата для войсковых испытаний.
Заказ был выполнен, однако наши работы с Федоровым на этом не кончились. Старый патрон калибром 7,62 мм с выступающей закраиной был мало пригоден для новых автоматических винтовок. Федоров к этому времени закончил разработку нового малокалиберного, более совершенного патрона, то есть без закраин, затруднявших его продвижение, и с улучшенными баллистическими качествами. При испытании в 1913 году этот патрон дал отличные результаты. После этого было заказано 200 тысяч патронов и 20 винтовок соответствующего калибра для более широких испытаний. Нам предстояла большая работа, но начать ее не пришлось. После объявления войны Федоров был немедленно командирован в Японию закупать винтовки для армии. Я поступил мастером на завод.
Работа на заводе была мало интересная, и рассказывать о ней не стоит. Зато вечера я мог целиком отдавать изобретательству.
А нужно сказать, что многолетняя работа с Федоровым мне очень многое дала. Благодаря Владимиру Григорьевичу я в совершенстве изучил все известные в то время оружейные системы, научился разбираться в них, познал основные принципы и тайны оружейной автоматики.
У Федорова я прошел своеобразную изобретательскую и техническую школу, которая мне дала больше знаний, чем ораниенбаумская мастерская с ее случайными гостями — иноземными изобретателями.
Благодаря Владимиру Григорьевичу я начал разбираться и в вопросах теории оружейного дела.
В 1906 году, когда началась наша совместная работа, Владимир Григорьевич издал свой труд «Основания устройства автоматического оружия». Этот труд был в то время первым и единственным учебником по оружейной автоматике. Автор его чрезвычайно просто и доступно разбирал все известные оружейные системы, критически оценивая их достоинства и недостатки.
Свой труд Владимир Григорьевич подарил мне. Эта книга стала моим учебником на многие годы.
Все, что мне было непонятно, Владимир Григорьевич охотно разъяснял. Так на протяжении ряда лет я сочетал практическую работу с учебой.
То, что мне самому удалось сделать боевой автомат по чертежам Федорова, укрепило веру в собственные силы. Пора было, наконец, осуществить свою мечту — заняться самостоятельной изобретательской работой. Я поставил перед собой задачу сконструировать автоматический карабин, который был бы прочным, легким и удобным оружием. Были у меня мысли и о пулемете, но я остановился на карабине. Это казалось более простым делом.
И вот после работы я оставался в цехе и трудился над своим изобретением.
Это было нелегко. Даже если бы в рабочее время я ничего не делал, то все равно беспрерывный оглушающий шум цеха снижал бы мою работоспособность. Но работы было достаточно, и я брался за свой карабин обычно утомленным, измученным.
К концу недели я совершенно выбивался из сил. Родные советовали мне бросить эту затею. Но я не сдавался, не отказывался от своих замыслов, не хотел оставить работу незавершенной.
После воскресенья я, как правило, принимался за дело с новым азартом. Воскресный день я всегда проводил среди природы. И она словно вливала в меня свежие силы, прогоняя усталость и хворь.
Я очень любил рыбную ловлю и охоту, а в грибное время со страстью собирал грибы. Если выдавался хороший день, мы отправлялись за грибами большой компанией с друзьями по работе, с женами и детьми. Выходили рано, чуть свет. Часов в девять разводили костер, готовили завтрак, а в полдень устраивали привал.
К этому времени обычно уже было набрано порядочно грибов, наши жены выбирали лучшие из них для обеда. За обедом много шутили, пели песни и на час, на два укладывались спать. Отдохнув, снова отправлялись за грибами и возвращались домой под вечер с полными кузовами.
Жизнь проходила в тяжелой работе, и поэтому даже краткий отдых казался счастьем. Культурные развлечения: театр и кинематограф — тогда были недоступны рабочему человеку.
Было у меня в то время еще одно желание: построить небольшой собственный домик. Это стало необходимостью: у меня росло четверо детей. Таскаться с ними по частным квартирам было тяжело и неудобно.
Хотелось при домике разбить огород, развести небольшой садик и зажить по-человечески, в своем углу, никому не мешая и ни от кого не завися.
Я скопил немного денег и купил участок около Разлива, но на домик так и не мог заработать. Еще тогда, когда мы работали над автоматом, Федоров обещал поделиться премией, которую сулили ему за автомат. Но разразившаяся война разрушила наши мечты и планы…
Работу над карабином мне пришлось вести урывками. Завод снабжал фронт, времени на свои дела у меня почти не оставалось.
Когда производство для фронта наладилось, я опять задумался над своим изобретением. Но директор завода генерал Залюбовский словно угадал мою мысль (он терпеть не мог самоучек) и решил избавиться от надоедливого изобретателя. По его приказу я был командирован в Ораниенбаум, где требовался опытный мастер для какого-то важного дела.
Узнав, что работа там немаленькая, я переехал в Ораниенбаум с семьей и поселился в пустовавшей сторожке при имении одного старого отставного генерала. Сторожка стояла в стороне от дороги, и мы жили тихо и мирно. Жена перевезла с собой все хозяйство с курами и гусями, прикупили пару индюшек.
Для семьи этот тихий уголок оказался очень подходящим. Дети целыми днями были на воздухе.
Мне поручили сделать для полигона движущиеся мишени. Ни чертежей, ни рисунков у начальства не оказалось, а работа была срочная. Я призадумался… И решил — дай попытаю свои силы. Прикинул, как проще и легче, да и представил свой чертеж.
Начальник полигона Филатов, хорошо помнивший меня, не стал долго рассматривать мой чертеж, а сказал:
— Делай, Дегтярев, как считаешь нужным, а я на тебя надеюсь.
Я увлекся поручением Филатова. Движущихся мишеней, по-моему, в то время у нас не было. Значит, их следовало создать самому, а это уже походило на изобретение.
Над первой моделью мне пришлось потрудиться немало, а потом дело пошло легче, и я перестал задерживаться в мастерской.
Однажды, возвращаясь к себе в сторожку, слышу какой-то крик. Взглянул из-за кустов, а у дома жена и дети ревут в голос, и тут же ходит мелкими шагами красный, обрюзгший генерал Ставский и сердито шамкает:
— Негодники, индюков развели. И меня, генерала, дразнят. Да вы знаете ли, кто я? Да я вас… чтоб сегодня же не было негодной птицы. Терпеть не могу эту тварь.
Накричавшись вдоволь, он ушел. А я, опасаясь неприятностей, велел прирезать индюшек.
Скоро мне представился случай вернуться в Сестрорецк. Перед нашим отъездом прибыл выписанный мной из Тулы отцовский токарный станок. Я очень обрадовался старому другу моей юности и увез его с собой в Сестрорецк. Теперь уже грозный директор завода был мне не страшен, я мог доделывать карабин дома.
И примерно через год, то-есть в 1916 году, мне удалось завершить свою работу.
Сделанный мною автоматический карабин получил хороший отзыв Федорова, но продвинуть его в производство мне удалось лишь после Великой Октябрьской революции.
В 1916 году в Ораниенбауме были отлажены шестьдесят автоматов Федорова, сделанных для войсковых испытаний еще до войны. Ими вооружили группу солдат и после надлежащего обучения отправили на фронт. Так еще в первую мировую империалистическую войну на фронте появились русские автоматчики, вооруженные отечественными автоматами.
Воина затянулась. Сражения длились уже третий год, унося миллионы человеческих жизней. Эта война тяжким бременем ложилась на народ. Из-за недостатка рабочих останавливались заводы. Начиналась хозяйственная разруха. В деревнях огромные площади не были засеяны: не было рабочих рук, не хватало семян. Из Тулы писали, что народ обносился и стоит на пороге голода.
Тяжелое настроение усугублялось известиями о поражениях царских армий. Немцы захватили Польшу, большую часть Прибалтики и двигались к Петрограду, рвались к Ростову.
В начале 1917 года под руководством большевиков вспыхнули стачки рабочих в Петрограде, Москве, Баку и других городах. Никакие меры полиции и жандармерии не могли подавить негодования рабочих. Стачки охватывали все больше и больше заводов.
Однажды морозным утром гулко заревел гудок нашего завода. Все рабочие высыпали из цехов и, высоко подняв алые знамена и плакаты с надписями: «Долой самодержавие!», «Долой войну!», двинулись чеканным шагом по главной улице Сестрорецка.
Немногочисленная полиция города, увидев огромную толпу рабочих, растерялась и даже не попыталась нам мешать.
Мы громко пели:
А толпа демонстрантов все росла и росла. Из домов выходили мужчины и женщины и присоединялись к нам.
Вдруг кто-то схватил меня за руку. Обернувшись, я изумился. Это был мой старший сын Шурик. Ему шел в ту пору одиннадцатый год.
— Папа, я тоже пойду с вами. Можно?
Хотя наша демонстрация могла окончиться плохо, отказать ему не было сил.
В воздухе призывно и гневно звучала песня:
Вдруг из-за поворота выскочила группа городовых во главе с исправником.
— Стой, остановись, будем стрелять! — заревел исправник.
Но толпа опрокинула их, смяла и заглушила дикие крики громовыми словами песни:
Царское правительство приказало расстреливать демонстрантов. Рабочие обезоруживали полицейских и жандармов. Началась вооруженная борьба.
26 февраля (11 марта) в Петрограде 4-я запасная рота Павловского полка присоединилась к рабочим и открыла огонь по городовым. Вслед за этим началось массовое братание солдат с восставшими рабочими.
В тот же день Бюро Центрального Комитета большевистской партии выпустило манифест с призывом к продолжению вооруженной борьбы против царизма, к созданию временного революционного правительства.
На другой день в Сестрорецке стало известно, что царское правительство низложено.
Вечером в городе заседал ревком, а в ночь рабочие дружины нашего завода и восставшие солдаты арестовали воинское и городское начальство. Власть перешла в руки Совета рабочих и солдатских депутатов.
Мы ликовали. Мы верили в то, что начинается новая, радостная жизнь.
Но наши надежды не оправдались. Победа революции, завоеванная кровью рабочих, была предана меньшевиками и эсерами, которые пошли на сделку с буржуазией и помещиками, сформировав Временное буржуазное правительство.
Партия большевиков и ее газета «Правда», ставшая легальной, разъясняя рабочим предательство меньшевиков и эсеров, стали готовить пролетариат к новой решающей битве за власть Советов.
В моей памяти на всю жизнь сохранились воспоминания о первых днях Октябрьской революции. Утром 25 октября я приехал в Петроград в надежде повидать Федорова. Дул резкий холодный ветер с залива. А трамвая, как назло, не было. Постояв минут двадцать на остановке и не дождавшись трамвая, я, по примеру других, отправился пешком.
И чем дальше я шел, тем чаще мне попадались навстречу отряды вооруженных рабочих и матросов. Одни пешие, другие проезжали на грохочущих грузовиках. «Что-то готовится!» — подумал я, но спрашивать незнакомых было неловко, и я продолжал свой путь.
Вдруг на улице, по которой я шел, послышалась стрельба, засвистели пули. Кто в кого стреляет, понять было нельзя. Я пригнулся, добежал до угла. С крыши одного из домов застрочил пулемет.
Прошло несколько минут, как к дому, из которого стреляли, с криками «ура» бросились рабочие и матросы.
Затрещали винтовки и пулеметы, заухали ручные гранаты. Но вот стрельба смолкла, и над крышей высокого здания взвился алый флаг.
Скоро из двора дома вышли вооруженные люди. Вышли строем, как солдаты. Их было много, среди них я разглядел рабочих и интеллигентов, матросов и солдат. Они шагали прямо через площадь. Пламенем горели алые банты.
— За-певай! — скомандовал шагавший сбоку высокий молодой парень в кожаной тужурке, и отряд грянул:
«Вот она, наша рабочая сила, — подумал я. — Нужно скорей добраться к себе. Там, должно быть, тоже началась большая борьба!» Еще раз взглянув на удаляющийся отряд, я зашагал к вокзалу. А в ушах у меня звучала только-что услышанная боевая песня:
Я шагал быстро. Я спешил, даже бежал. Из-за домов показалось величественное здание вокзала, над ним уже полыхало алое знамя Октябрьской революции.
Теперь нам, рабочим, и нашим детям будут открыты все пути к светлой, радостной жизни! Теперь мне, изобретателю из народа, будет для кого работать.

Меня глубоко волновало, как отнесется к революции мой учитель Владимир Григорьевич Федоров.
Ведь он был не только изобретателем, но и генералом царской армии.
Сомнения мои разрешились очень быстро. Федоров сам нашел меня в Сестрорецке. Он приехал радостный, возбужденный и сказал, что советская власть предоставляет нам возможность для широкой изобретательской деятельности.
Из разговора с ним я понял, что Федоров принял революцию и будет работать для народа. Он был из тех немногих генералов царской армии, которые сумели увидеть в пролетарской революции великую прогрессивную силу, способную преобразить старую Россию и создать счастливую и радостную жизнь для миллионов трудящихся.
Молодому советскому правительству, возглавляемому великим Лениным, пришлось с первых же дней прихода к власти повести жестокую борьбу с белогвардейцами и интервентами.
Число врагов страны Советов увеличивалось с каждым месяцем, их вооружал и оснащал весь империалистический мир. А юная советская республика, в наследство которой досталось пораженное разрухой хозяйство и исковерканный транспорт, должна была организовать оборону на многих фронтах собственными силами и средствами. И тогда, по заданию В. И. Ленина, стали спешно восстанавливать все уцелевшие военные заводы.
Вспомнили и об одном небольшом оружейном заводике, который пустовал, так как его бывшие владельцы — датские концессионеры — сбежали при первых же выстрелах восставших рабочих.
Меня и Федорова вызвали в Смольный, и нам было поручено немедленно отправиться на этот завод и организовать там производство вооружения.
Стояла холодная и голодная зима 1918 года. Попасть в поезд, отправляющийся на юг или восток, было почти немыслимо.
Поезда ходили нерегулярно и были забиты ранеными, демобилизованными, многочисленными посланцами от заводов и фабрик, едущими за хлебом. Я пошел на вокзал. На моих глазах отправлялись два поезда один за другим. Сердце у меня похолодело. Поезда были облеплены людьми, как мухами. Несмотря на жестокий мороз, люди ехали на крышах вагонов, на подножках, на буферах. Как же попасть в такой поезд с кучей малолетних детей? Нужно было что-то придумать. Попросив Федорова похлопотать в Питере, я отправился в Сестрорецк, чтобы подготовить семью к отъезду.
Пробираясь домой по путям, я заметил в тупике поломанный товарный вагон. Его можно починить, — решил я и пошел к начальнику станции. Тот, просмотрев мои бумаги, разрешил взять вагон. Обрадованный, я бросился прямо на завод, отыскал своих друзей и уговорил их помочь мне отремонтировать вагон.
В тот же вечер, вооруженные необходимыми инструментами, мы взялись за починку вагона, и через два дня он был уже готов. Рабочие, зная, что у меня маленькие дети, где-то раздобыли печечку-буржуйку, устроили нары, принесли топливо.
Так как лошадь отыскать не удалось, рабочие помогли мне перевезти на санях и погрузить в теплушку весь скарб и пожелали нам счастливого пути.
Я был глубоко растроган заботой своих товарищей и горячо благодарил их.
— Наладишь дело, забирай и нас, — говорили они на прощанье. — Будем вместе работать.
Скоро теплушку прицепили к дачному поезду, и мы прибыли в Петроград. Федорову я заранее отправил две телеграммы, а все же опасался, как бы он не раздумал с отъездом и не остался в Питере.
Но оказалось, что он нас уже ждал.
Я помог Федорову подвезти его вещи. Поднялась метель. Дул пронзительный ветер с колючим снегом. Руки и лицо леденели от стужи, но нам нужно было поторапливаться, чтобы успели прицепить теплушку к стоящему под парами поезду. Теплушка находилась далеко от вокзала на путях, и туда нельзя было заманить ни одного носильщика. Мы грузились не с платформы, а с земли, было высоко и неудобно. Хорошо, что у Федорова вещей оказалось немного, и кое-как работа была закончена. Мы задвинули скрипучую дверь, затопили буржуйку, поставили чайник И понемногу отогрелись.
Часа через два теплушку прицепили к составу, скоро раздался хрипловатый гудок паровоза, и состав, громыхая и лязгая, медленно пополз на восток.
Не прошло и получаса, как наши семьи, перезнакомившись, мирно попивали чай из большого медного чайника, а мы — бывший солдат и бывший генерал, — примостившись у буржуйки, рассуждали о том, как бы быстрее восстановить заброшенный завод и наладить на нем производство оружия для Красной Армии.
На другой день выяснилось, что состав задерживается. Это нас очень огорчило, но комендант эшелона объяснил: «Николаевская дорога забита, идут лишь воинские грузы!»
Поправить положение мы были бессильны. Нашу теплушку около месяца возили окольными путями через Тихвин, Вологду, Буй, Ярославль, Иваново, пока, наконец, она попала в тихий завьюженный городок — место нашего назначения. Жизнь в этом городке по сравнению с Питером показалась нашим женам вполне приемлемой. На базаре было вдоволь и хлеба, и мяса, цены оказались низкими.
В день приезда нам удалось найти квартиры, перевезти вещи и даже осмотреть завод. Надо признаться, что завод нас разочаровал. Это скорей были небольшие оружейные мастерские. Однако все называли их заводом. Хозяева сбежали и увезли с собой всю документацию.
С помощью уездного комитета большевиков мы собрали находившихся в городе рабочих и призвали их начать работать. Они сразу горячо откликнулись и тут же избрали директором завода Владимира Григорьевича Федорова, а мне было поручено руководство опытной мастерской.
На другой день утром, как было условлено, зазвонил колокол пожарной каланчи, и рабочие стали подходить к заснеженному зданию. Они пришли с лопатами, кирками, ломами.

А через несколько дней мы уже начали ремонтировать собранное по городу оружие: пулеметы Максима и Льюиса, винтовки, карабины и пистолеты разных систем.
Большинство рабочих оказались опытными, высококвалифицированными мастерами, и мы взялись за выполнение боевого задания правительства, за производство автоматов Федорова. Автомат освоили довольно быстро. Люди понимали, что они трудятся для себя, для своего рабочего государства.
Советские автоматы Федорова были нашим первым серьезным вкладом в вооружение красных полков, сражавшихся на многочисленных фронтах гражданской войны.
В этом тихом городке для меня началась другая жизнь. Теперь я мог свободно творить и изобретать. Родная мне советская власть предоставила в мое распоряжение опытную мастерскую. А самое главное, передо мной открылась ясная цель — работать для своего свободного народа, творить для своего рабоче-крестьянского государства. Я знал, что любое мое изобретение будет поддержано и государство всегда окажет мне необходимую помощь.
Но в первые годы пребывания на новом месте, когда молодая Советская страна вела борьбу с армиями интервентов и белых орд, некогда было думать об изобретениях. Мы не покладая рук работали для фронта. Наш заводик вырос и окреп. В нем изготовляли различное оружие, которое сыграло свою роль в разгроме врагов Советской республики в годы гражданской войны.
Но как только окончилась гражданская война, как только были изгнаны с Дальнего Востока последние интервенты — японские самураи, я задумался над созданием отечественного пулемета, который бы превосходил все заграничные системы.
Эта мысль зародилась у меня еще в Ораниенбауме, когда я мучился на полигоне с капризными и непрочными иностранными пулеметами. Но в то время осуществить ее я не мог и не пытался, так как даже автоматический карабин, который я сделал в Сестрорецке, несмотря на все мытарства и хлопоты, не был рассмотрен комиссией.
Теперь другое дело. Теперь я мог творить и надеяться на успех.
И вот после работы я стал задерживаться в мастерской, вычерчивая на бумаге различные варианты сцепления и запирания — основы основ автоматического оружия.
Я вспоминал и пересматривал заново все известные мне системы пулеметов, анализировал их, настойчиво искал пути к созданию новой системы, которая была бы проста и надежна.
Поиски и раздумья длились больше года и не дали реальных результатов. Но я не был этим огорчен, так как знал, что большие изобретения не рождаются мгновенно.
Эта работа прошла не без пользы. Она подсказала мне, в каком направлении следует искать и экспериментировать.
В 1924 году, когда в моих мыслях уже стали складываться более или менее ясные очертания пулемета, меня и Федорова неожиданно вызвали в Москву к Михаилу Васильевичу Фрунзе.
Михаил Васильевич принял нас очень тепло, долго и подробно расспрашивал о работе, о планах на будущее, о наших замыслах.

Я хотел высказать товарищу Фрунзе свои мечты о русском пулемете, но он, словно прочитав мои мысли, сам заговорил об этом. Михаил Васильевич сказал, что Красной Армии крайне нужен легкий, прочный и надежный пулемет и что создать такой пулемет должны мы, советские изобретатели. И если потребуется, то государство окажет нам любую помощь.
Беседа с Михаилом Васильевичем Фрунзе произвела на меня глубокое впечатление.
Его слова о необходимости создать отечественный пулемет я воспринял как боевое задание. Встреча с Михаилом Васильевичем ободрила меня и заставила смелей взяться за то, что я давно вынашивал и обдумывал.
Опытная мастерская к тому времени несколько расширилась и была неплохо оборудована. В ней были квалифицированные мастера оружия, и я имел право привлекать их к работе. Однако я этого не делал, так как привык до сих пор работать в одиночку. «Буду все делать сам, — решил я, — как делал автомат Федорова. И в случае неудачи пусть ругают меня одного».
Я долго ломал голову над созданием затворной рамы, которая должна была связывать главные части пулемета и приводить в действие весь механизм.
После кропотливых расчетов и размышлений я твердо решил отказаться от подвижного ствола, примененного в автомате Федорова, и задумал создать пулемет с неподвижным стволом, который бы действовал на принципе отвода пороховых газов.
Эту идею я вынашивал годами и теперь окончательно убедился в ее правильности. Но облечь мысль в металл, придумать простую и прочную конструкцию — до этого было еще далеко. Я очень увлекся работой, сделал несколько моделей затворной рамы и заметил, что каждая новая модель получалась совершеннее предыдущей. Наконец, последнюю из них я решился показать своему учителю.

Владимир Григорьевич отнесся к моей работе внимательно и чутко. Он с величайшей осторожностью указал мне на некоторые недочеты, но в целом отозвался о модели очень похвально и стал торопить с изготовлением остальных частей пулемета.
Обрадованный похвалой Федорова, я окончательно уверился в успехе и остальные детали стал делать более смело и свободно.
Серьезная заминка произошла с устройством магазина. По замыслу всего пулемета магазин должен быть легок, вместителен и удобен. Я сделал несколько вариантов магазина разной конструкции и окончательно остановился на дисковом, вмещающем 49 патронов.
Наконец, модель была сделана. Пулемет получился нетяжелым и прочным, но при стрельбе сильно дрожал ствол — ему недоставало упора.
Казалось бы, упор — мелочь, а придумать его было нелегко. Упор получался то слабым, то непрочным, то тяжелым.
После многих экспериментов я придумал облегченный упор-сошку — это оказалось самым удобным, прочным и надежным.
Когда мы подвергли пулемет стендовому испытанию, то выявились кое-какие мелкие дефекты.
Устранив их, мы снова испытали пулемет и нашли, что теперь его можно показать комиссии Главного артиллерийского управления Красной Армии.
В Москву была отправлена телеграмма о том, что первая модель русского ручного пехотного пулемета закончена и может быть представлена на испытания.
Это было поздней осенью 1924 года. Пассажирский поезд, отяжеленный товарными вагонами, шел медленно. Стояла хмурая ночь. Дождь уныло стучал в стекла, навевая на душу тоску. Я сидел на скамейке задумавшись, от времени до времени поглядывая на массивный ящик, положенный в проходе между сиденьями. Шумные пассажиры, состоящие в основном из спекулянтов и торговцев (ведь это было в расцвете нэпа), косились на ящик и отпускали по моему адресу разные шутки.
Один даже прямо опросил меня, что за товар я везу в этом ящике.
Конечно, этим коммерсантам никогда бы не могло прийти в голову, что человек в скромном поношенном пальто и барашковой шапке — изобретатель и что в этом массивном ящике лежит плод многолетних работ, грозное оружие — первый русский пулемет.
А это было именно так. Я и двое товарищей, сопровождавших меня, везли в Москву на испытания нашу первую модель отечественного пулемета.
«Как-то проявит себя пулемет?» — думал я. И хотя в душе был глубоко уверен в добротности своей машины, все же меня томило какое-то тяжелое предчувствие.
Это заметили даже мои спутники и спросили, не заболел ли я. Я уверил их, что чувствую себя превосходно.
Дождь утих. Поезд ускорил ход, и скоро показались дымные пригороды Москвы.
На вокзале мы наняли извозчика и приехали на полигон, где были назначены испытания, как раз вовремя.
На полигоне в этот день должен был испытываться еще один пулемет, но чей, нам не сказали.
Мы заняли место под березкой, на которой трепетали последние, уже желтые листья. Собрали, установили пулемет.
Невдалеке от нас у другой машины было много военных. Среди них я узнал высокого худощавого человека с нависшими усами — это был мой старый знакомый изобретатель Токарев. Рядом с ним стоял другой изобретатель — Колесников, которого я тоже знал по Ораниенбауму и Сестрорецку.
Скоро появилась правительственная комиссия. Среди военных в высоких шлемах и длинных шинелях с широкими красными петлицами на груди по пышным усам я узнал легендарного полководца Красной Армии Семена Михайловича Буденного.
Он поздоровался с нами, осмотрел оба пулемета и велел начинать испытания.
Впереди поставили щиты с мишенями. Я лег у пулемета, ожидая команды.
— Огонь! — прозвучал чей-то громовой голос, и оба пулемета затрещали.
— Отставить! — скомандовал тот же голос. — Смените мишени.
Ко мне подошел товарищ Буденный.
— Разрешите-ка, попробуем ваш.
— Пулемет не пристрелян, Семен Михайлович, — сказал я смущенно.
— Это ничего! — он склонился над пулеметом и дал очередь.
— Доставить мишень! — раздалось над полигоном.
— Есть! — ответили с того конца, и красноармеец быстро доставил мишень.
Семен Михайлович развернул пробитый лист мишени и довольно улыбнулся в усы.
— Вот тебе и не пристрелян.
Я с волнением взглянул на мишень. Пули легли в яблоко и густо вокруг.
— Пока хорошо идет! — сказал Семен Михайлович. — Посмотрим, что будет дальше.
Начались испытания на живучесть. Каждому пулемету нужно было до смазки сделать положенное число выстрелов.
Ободренный похвалой товарища Буденного, я приготовился к дальнейшему состязанию, но тут случилось нечто страшное.
Не сделав и половины положенных выстрелов, мой пулемет умолк.
Подбежали товарищи:
— Что случилось, Василий Алексеевич?
Я разобрал пулемет и с досады махнул рукой.
— Неужели нельзя исправить? — спросили они.
— Сломался боек. Об исправлении не может быть и речи.
А пулемет Токарева и Колесникова продолжал трещать, утихая лишь на короткое время перезарядки.
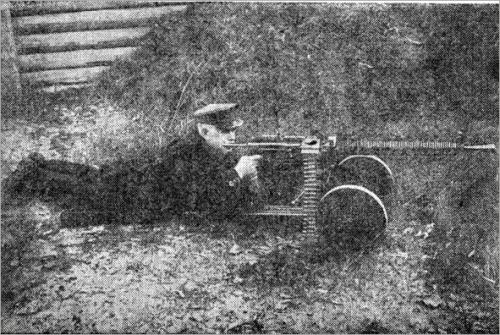
Было очень обидно, что мой пулемет выбыл из испытаний по такой нелепой причине. Ведь в непрочности бойка был не столько виноват я, сколько плохое качество стали.
Ко мне снова подошел товарищ Буденный и, узнав о причине поломки, сказал:
— Не расстраивайтесь, товарищ Дегтярев, боек сделать проще всего. Через некоторое время мы снова испытаем вашу машину, и, если вы еще поработаете над ней, она безусловно выдержит все испытания.
Эти слова прославленного полководца успокоили меня, и я отправился домой, полный надежды и решимости довести свое изобретение до совершенства.
Всю дорогу я бодрился, но как только приехал домой, мне стало не по себе. Что я скажу Федорову, что отвечу товарищам по работе?
А Федоров уже обо всем знал.
— Не волнуйтесь, Василий Алексеевич. Я считаю, что ваш первый дебют был неплохим. А не случись этой дурацкой поломки, пулемет, несомненно, получил бы хорошую оценку.
Я молчал, опустив голову.
— А вспомните, как было с моим автоматом, сколько раз мы испытывали его и сколько раз снова брались за переделки. Изобретательство дело серьезное, и никогда не нужно бояться мелких неудач.
— Что же вы посоветуете мне, Владимир Григорьевич?
— Работать и работать. Я бы посоветовал вам сделать не только новый боек, а совершенно новую модель, даже две. Работая над ними, вы, безусловно, внесете в пулемет много усовершенствований, и он станет еще лучше.
— Спасибо, Владимир Григорьевич, я завтра же возьмусь за работу!
Дома я еще не был, и там ничего не знали о результатах испытаний. Что я им скажу? Мне очень не хотелось огорчить жену и детей своей неудачей, и я решил умолчать.
Как только я вошел в дом, дети обступили меня.
— Папа, а где же подарки?
Я растерялся. До сих пор не было случая, чтобы я из Москвы возвращался с пустыми руками. Случившееся на испытаниях, так потрясло меня, что я заторопился и забыл о подарках. Пришлось рассказать, как было дело. Все стали меня успокаивать и убеждать, что в следующий раз мою машину обязательно примут, хотя сами и понятия не имели о том, какое оружие я делал.
Я снова встал к верстаку и стал присматриваться к своему пулемету так, словно он был чужой, стараясь увидеть в нем недостатки, которые легко замечал в других системах.
Очень помогли мне в этом критические замечания Владимира Григорьевича.
— Думайте над каждой деталью, — говорил он, — старайтесь ее упростить, облегчить и в то же время сделать более прочной.
Наши взгляды совпадали. Да иначе и не могло быть, так как оба мы стремились к одной цели — создать для Красной Армии надежное, легкое и эффективное оружие.
Мне показалось, что пулемет можно сделать более легким. Для этого следует облегчить тяжеловесные детали, но чтобы сохранить прочность, нужно изготовить их из качественной стали.
Я задумался и над предельным упрощением механизма; усложнявшие механизм мелкие детали стал объединять.
Итак, вместо изготовления нового бойка я взялся за изготовление новой модели пулемета. Причем точно такую же модель изготовляли мои помощники.
Для своей машины я сам обрабатывал детали, сверлил, точил, фрезеровал. Сам доводил и пригонял, сам шлифовал и шабрил рабочие поверхности механизма. Это была черная и тяжелая работа, но она увлекала меня и доставляла истинное удовольствие. Я никогда не чувствовал усталости, хотя работал, не обращая внимания на гудки и перерывы.
Жена не раз приходила за мной и уводила меня обедать. Но так как это отнимало много драгоценного времени, а я не хотел отрываться от работы, то она стала приносить мне обед.
Мне вспоминалась работа над автоматом Федорова. Тогда я тоже все детали делал сам, но по чертежам Федорова, а теперь я их создавал самостоятельно. И в этом была огромная разница. Теперь любую деталь я мог видоизменить и улучшить или из двух деталей сделать одну. Я был полным хозяином своей машины, я был изобретателем, творцом. Вместе со мной работали опытные мастера и инженеры, у которых я мог получить консультацию и помощь.
И если мы держали наше дело в секрете, то от врагов, от шпионов, а друг с другом делились всеми своими мыслями.
Работая над своим изобретением, я смело экспериментировал, не боясь, что меня выгонят за неудачу, не боясь, что мне не хватит материалов или средств. Напротив, я был спокоен и уверен в том, что наша партия и государство помогут мне и всему нашему коллективу завершить эту работу.
Эта уверенность придавала мне силу. Я работал с упоением, беззаветно отдаваясь любимому делу.
Все же работа над новой моделью пулемета продолжалась почти два года.
Зато пулемет получился во всех отношениях несравненно лучше прежнего, что сразу же отметил Владимир Григорьевич.
Я гордился тем, что мне удалось уменьшить вес новой модели. Пулемет весил восемь с половиной килограммов, то-есть был вдвое легче некоторых заграничных ручных пулеметов.
Каждый боец легко мог носить его за плечами.
Испытания пулемета показали его прочность. Теперь я уже не опасался и за боек, который был сделан из лучшей хромоникелевой стали.
Осенью, примерно в то же время, как и два года назад, меня вызвали в Москву с новой моделью пулемета.
Снова тот же знакомый полигон с потемневшими березками. Под березками две группы военных у новых пулеметов.
Нам отводят место по соседству. Земля сыровата, но мы подстилаем листы фанеры и устанавливаем пулемет.
Военные сообщили, что одновременно с нашей машиной будет испытываться новая модель, представленная Токаревым, и немецкий пулемет Драйзе.
«Токарев — соперник серьезный», — подумал я, но настроение у меня на этот раз было боевое. Я был твердо уверен в успехе.
Испытывать начали все модели одновременно. Как и в прошлый раз, я сам лег у пулемета.
Вначале стреляли по мишеням, чтоб определить меткость и рассеивание пуль.

Я был на полигоне единственным штатским человеком, и, видимо, моя фигура, лежащая на фанерном листе у пулемета, мало привлекала внимание членов комиссии, они толпились у других пулеметов.
Но как только были просмотрены мишени, члены комиссии подошли ко мне — оказалось, что мой пулемет показал наименьшее рассеивание пуль и наибольшую меткость.
Началось испытание на живучесть. Пулеметы трещали неумолчно, стихая лишь на короткое время для перезарядки.
Увлекшись стрельбой и оглушенный трескотней, я не услышал команды — «поставить на охлаждение», которая раздалась после трехсот выстрелов, и продолжал стрелять.
Наблюдавший за моим пулеметом командир, очевидно, тоже не слышал команды и продолжал отмечать в своем блокноте: четыреста выстрелов, четыреста пятьдесят, пятьсот, пятьсот пятьдесят…
— Отставить! — раздалось над ухом, и чья-то рука легла мне на плечо.
Я перестал стрелять.
— На охлаждение! — крикнул военный и, обратясь к наблюдавшему за стрельбой командиру, спросил:
— Сколько? 580 выстрелов.
Опять подошли члены комиссии, осмотрели, ощупали пулемет.
— Смотрите, двойную норму отстрелял без охлаждения.
— Отлично. Посмотрим, сколько он протянет без смазки.
— А когда же полагается смазка? — спросил я командира.
— После шестисот выстрелов.
— Так мне же осталось всего двадцать.
— Точно.
— Приготовиться к стрельбе! — раздалась команда.
— Огонь!
Я нажал на спусковой крючок.
Счетчики выкрикивают.
— Четыреста… Четыреста пятьдесят, пятьсот…
Вот токаревский пулемет захлебнулся. Конструктор бросился к нему. Вот Драйзе сделал еще несколько выстрелов и замолчал. Я продолжал бить по остаткам мишени.
О чем говорили надо мной члены комиссии, я не слышал, слышал только треск пулемета и видел остатки разбитой мишени.
— Сколько? — повысив голос, спросил начальник комиссии.
— Две тысячи шестьсот сорок шесть выстрелов, — доложил командир.
— Отставить! — крикнул начальник. — В мире еще не было таких рекордов.
Я поднялся. Но это еще не был конец. После небольшого перерыва испытания возобновились.
Пулеметы купали в воде, забрызгивали грязью, вытряхивали на них пыльные мешки и опять приводили в действие.
Токарев, исправив легкое повреждение, снова стал грозным соперником. Работал и «немец», но тяжело, с заеданием, с одышкой. Ему не под силу оказались такие испытания. Скоро он сдал окончательно и был снят с испытаний.
На этот раз не повезло и Токареву. А мой пулемет на удивление всей комиссии работал безупречно.
Он сделал больше двадцати тысяч выстрелов без единой поломки.
Это была победа.
Меня представили Клименту Ефремовичу Ворошилову.
Климент Ефремович поздравил меня и пожелал новых успехов в работе.
Я был растроган. Дорога была для меня похвала одного из руководителей нашей партии, как и я вышедшего из простого народа.
В феврале 1927 года заводы получили правительственный заказ на серийное изготовление новых пулеметов. На них стояла марка «ДП», что значило «Дегтярев пехотный».
В 1922 году Владимир Григорьевич Федоров получил премию от советского правительства за созданный им автомат. Половину этой премии он дал мне. В том же году на эти деньги я купил небольшой домик. Давнишняя мечта моей семьи осуществилась. Теперь, при советской власти, мы зажили в собственном домике. Я его обновил, отремонтировал, около дома разбил небольшой садик и цветник. Любил отдыхать там после работы в кругу своей семьи.
Пулемет мой был хорошо принят в армии. Я получал много писем от бойцов и командиров, в которых они хвалили оружие и поздравляли меня с успехом.
Однажды пришло письмо от летчиков, которые просили меня приспособить пехотный пулемет для самолетов, вооруженных устаревшими английскими пулеметами Льюиса.
Я отправился с этим письмом к начальнику нашей мастерской.
— Смотрите, какое совпадение, — сказал он, — а я только что получил об этом же официальное задание и собирался побеседовать с вами.
— Что ж, я с удовольствием возьмусь за эту работу.
— Отлично. Полагаю, что вам для начала, очевидно, неплохо было бы побывать на аэродроме и взглянуть на самолеты.
— Да, это было бы хорошо.
— В таком случае поедемте вместе…
Через час — полтора мы уже были на военном аэродроме. Я внимательно осмотрел кабину самолета и убедился, что приспособить в ней мой пулемет без существенной его переделки невозможно.
Начальник угадал мою мысль.
— Я это предвидел, Василий Алексеевич, поэтому и пригласил вас сюда, но полагаю, что переделки вы не испугаетесь.
— Нисколько, — ответил я, — только она потребует много времени.
— Не страшно. Когда вы сможете приступить к работе?
— Да хоть сегодня.
Он крепко пожал мне руку.
— Желаю успеха, Василий Алексеевич. То, что вы будете делать, чрезвычайно важно. Мы окружены врагами. Они готовят войну против нас. А в этой войне большую роль будет играть авиация. Наши самолеты должны быть сделаны и вооружены лучше вражеских — это задание товарища Сталина.
Измерив кабину самолета, я определил, какую площадь должен был занимать в ней пулемет.
Возвращались молча. Мне очень живо представлялся самолет и летчик, управляющий им во время боевого вылета. Я думал о том, как вооружить летчика моим пулеметом. Серьезной преградой был однорядный дисковый магазин большого диаметра, но с малым количеством патронов. Значит, диск надо заменить…
— Что это вы там бормочете? — спросил мой спутник.
— Выполняю ваше задание! — шутливо ответил я.
— Ну, и как?
— Пока что решил сделать диск меньше по габаритам и больше по вместительности.
— Так, значит, первый шаг сделан. Отлично!..
После упорных поисков я решил эту задачу. Диск был меньше, но патроны в нем укладывались в три яруса. Я спешно начал готовить модель.
Теперь и у меня и у моих помощников был немалый опыт. Модель была сделана быстро и удачно. На испытаниях она показала хорошие результаты.
Мы приехали на аэродром и установили новый пулемет в кабину самолета.
Пулемет и там работал безотказно. Но возник вопрос, куда девать отработанные гильзы. Выбрасывать их в кабину было опасно, они могли заклинить управление и вызвать аварию. Летчики забеспокоились. Выходило, что совершенно готовый пулемет они не могли применить.
— Не беспокойтесь, товарищи, — сказал я, — мы упрячем гильзы в мешок, который приспособим к пулемету.
— Правильно, правильно! Это простой и легкий выход из положения, — согласились они.
Но дело оказалось не таким уж простым.
Вернувшись, я поручил изготовить брезентовый мешок для гильз. Мешок сделали по моему чертежу. Его прикрепили к пулемету и дали очередь. Пустые гильзы, звеня, сыпались в мешок.
— Продолжайте стрельбу, — скомандовал я и стал наблюдать. Гильзы вначале падали хорошо, а потом вздыбились, перемешались и застряли в горловине мешка.
— Отставить, не годится!
Я велел сделать для мешка проволочный каркас и придать ему форму воображаемой траектории полета гильзы. Но и это ни к чему не привело. Пробовали придавать каркасу самые причудливые изгибы. Результат получался тот же — гильзы застревали.
Было обидно, что сдача пулемета задерживалась из-за такого препятствия.
Этот мешок лишил меня сна и покоя. Я измучился с ним и даже прихворнул.
Однажды вечером сыновья Александр и Владимир затащили меня в кино.
— Надо, папа, тебе немного отдохнуть и развлечься, а то совсем заболеешь.
Фильм был посредственный, и я даже пожалел о том, что потратил целый вечер. Но вот начался киножурнал, посвященный соревнованию лыжников.
Движения лучших мастеров лыжного спорта были показаны в замедленном темпе и давали ясное представление о технике бега.
— Как достигается этот замедленный показ в кино? — спросил я сыновей, когда мы возвращались домой.
— Ускоренной съемкой.
— А нельзя ли было бы этой съемкой заснять полет гильз?
— Можно, — ответили сыновья.
Вернувшись домой, я позвонил в Москву и попросил срочно прислать к нам кинооператора.
Скоро оператор приехал и заснял пулемет в работе. А через несколько дней я увидел на экране поразительное зрелище — замедленный полет гильз.
Тайна полета гильз была разгадана. Мы придали мешку нужный изгиб, и гильзы в него стали падать беспрепятственно.
Видоизмененный пехотный пулемет был принят на вооружение сталинской авиации.
Об успешном применении пехотного пулемета в авиации было доложено правительству, и мы получили новое задание — приспособить пехотный пулемет для вооружения танков.
К тому времени в нашей опытной мастерской работали — высококвалифицированные инженеры, старые оружейные мастера и способная молодежь, которая порой выполняла очень ответственные и сложные работы.
Мне пришлось подробно ознакомиться с устройством разного типа танков. Установить пехотный пулемет в танке было нелегко, но все же эту работу мы поручили молодому работнику опытной мастерской Георгию Шпагину. Я считал, что у него есть большие способности и из него может выйти толк.
Перед Шпагиным была поставлена задача — сделать для пулемета шаровую установку, чтобы он мог стрелять под любым углом, и приспособить выдвижной приклад в целях удобства и экономии места.
Шпагин и раньше работал над конструированием шаровой установки. Он предложил в свое время отличную, своеобразную шаровую установку для автомата В. Г. Федорова. У меня не было сомнений, что и с новой работой Шпагин справится успешно.

Он взялся за работу с увлечением, часто приходил советоваться или приглашал меня посмотреть, как идет дело. А дело шло хорошо. Шпагин оказался очень сообразительным, смелым мастером. Почти все его предложения по упрощению шаровой установки мы с Федоровым одобряли.
За очень короткое время Шпагину удалось создать надежную и простую по конструкции шаровую установку. Удалось ему сделать и выдвижной приклад.
Поставленная перед нами задача была решена. Пехотный пулемет был принят на вооружение всех типов советских танков.
В 1929 году меня пригласили на большие маневры Красной Армии. Там я увидел свое оружие в действии в обстановке, приближенной к боевой. Это было для меня чрезвычайно важно, так как я мог воочию обнаружить все недостатки в своих системах.
Беседуя с бойцами и командирами, я записывал в блокнот их советы и пожелания.
После маневров меня пригласили к Клименту Ефремовичу Ворошилову.
Климент Ефремович интересовался работой нашей опытной мастерской, расспрашивал о моих планах и замыслах.
В беседе он подчеркнул все возрастающее значение танков и авиации и поставил передо мной задачу — создать крупнокалиберный пулемет.
Я заверил Климента Ефремовича в том, что такой пулемет будет создан в самое ближайшее время.
Инженеры и мастера опытной — мастерской с чувством особой ответственности отнеслись к заданию товарища Ворошилова и немедленно приступили к работе.
Новый пулемет я решил конструировать по образцу пехотного. А так как теперь требовалось создать крупнокалиберный пулемет, то при его конструировании приходилось заменять деталь за деталью, и постепенно у нас получалась совершенно новая модель с сохранением общих принципов конструкции «ДП» («Дегтярев пехотный»).
Это нас радовало и в то же время тревожило. Нельзя было механически увеличивать все детали до нужного калибра.
Перед новой моделью стояли другие задачи, которые повлекли за собой новые расчеты. В работу включились все конструкторы. Часть за частью, деталь за деталью создавался крупнокалиберный пулемет. Все части и детали подвергались тщательной проверке и испытаниям. Иногда некоторые из них приходилось переделывать или изготовлять из других материалов, но все это нас не пугало. А когда новый пулемет был собран и доставлен для испытаний в тир, все мы волновались так, словно впервые сделали модель пулемета.
Наше волнение было понятно — до сих пор ни мне, ни моим товарищам по работе не приходилось конструировать крупнокалиберное оружие, и мы боялись неудачи, боялись осрамиться перед товарищем Ворошиловым.
Однако наши опасения оказались напрасными. На испытаниях крупнокалиберный пулемет зарекомендовал себя хорошо.
Меня спешно вызвали в Москву. В Москве испытания нового пулемета проходили при личном участии Климента Ефремовича Ворошилова.
Пулемет испытывали на меткость и на живучесть, затем на бронебойность. Из пулемета стреляли по стальным щитам с разных дистанций и под углом.
Климент Ефремович сам сделал несколько выстрелов по щитам и остался очень доволен.
Пулемет был принят без всяких доделок. Обрадованный такой удачей и личной благодарностью Климента Ефремовича, я тотчас же телеграфировал товарищам по работе. Хотелось их поскорее порадовать. Ведь создание крупнокалиберного пулемета было не только моей удачей как конструктора, это была победа всего нашего коллектива.
В годы, предшествовавшие Великой Отечественной войне, мы работали очень интенсивно и сделали несколько новых боевых систем для вооружения Советской Армии. Отрадно было, что в этой работе прекрасно проявили себя молодые специалисты и прежде всего Георгий Шпагин.
Шпагин, в частности, помог мне усовершенствовать крупнокалиберный пулемет, но об этом я подробней расскажу в главе о моих учениках.
Чтоб добиться наибольшей эффективности создаваемого нами нового оружия, я регулярно выезжал в воинские части, присутствовал на военных маневрах, наблюдая в условиях, приближенных к боевым, как действуют новые образцы. Если пулемет боялся пыли или воды, мы немедленно устраняли этот недостаток. Бывало, что при передвижении некоторые части оружия ломались, и тогда мы делали их более надежными.
Солдаты и офицеры меня принимали очень радушно. Своими советами они помогали мне улучшать испытываемые образцы оружия.
Мы, советские конструкторы, пожалуй, лучше чем кто-либо ощущали подготовку капиталистических стран и особенно гитлеровской Германии к новой мировой войне. Мы следили за работой их конструкторов, стремящихся вооружить свои армии самым совершенным оружием. Между нами, советскими конструкторами, и иностранными изобретателями все время шел негласный поединок. Мы не могли почивать на лаврах. Мы знали, что упорная творческая работа конструкторов и рабочих поможет нашей родной Советской Армии встретить врага во всеоружии. Мы не хотели войны, но готовились к ней, как учил нас товарищ Сталин. И чтобы выйти победителями в поединке с зарубежными изобретателями, советские конструкторы работали не покладая рук.
В январе 1940 года мне исполнилось шестьдесят лет. Я встал, как всегда, рано и стал собираться на работу, а вечером надеялся принять гостей и отметить день своего шестидесятилетия.
Утро было тихое, морозное. Окна мерцали синеватым узором.
Побрившись и умывшись, я включил радио и вышел в столовую, где жена хлопотала с завтраком.
Она поздравила меня с днем рождения, мы закусили и занялись чаепитием, слушая последние известия.
Вдруг голос диктора заставил нас насторожиться.
— Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении конструктора Дегтярева…
Мы с недоумением взглянули друг на друга.
А диктор отчетливо и громко продолжал:
«За выдающиеся успехи в деле изобретения и конструирования новых, особо важных образцов вооружения Красной Армии присвоить товарищу Василию Алексеевичу Дегтяреву звание Героя Социалистического Труда с вручением высшей награды СССР ордена Ленина и выдать денежную премию в размере пятидесяти тысяч рублей…»
— За что мне такая высокая честь? — спрашивал я себя и жену. И в волнении стал ходить по комнате.
Да и было отчего волноваться. Ведь до сих пор это высокое звание было присвоено лишь одному товарищу Сталину.
Раздался телефонный звонок. Дрожащими руками я снял трубку и услышал радостный голос секретаря партийной организации:
— Поздравляю вас, Василий Алексеевич, от души, от всего сердца, желаю вам всяческих удач!
Описать радость, охватившую меня, нет сил. Слезы неудержимо катились из глаз. Я не знал, за что взяться. Писать ли правительству благодарственное письмо, итти ли к товарищам или отвечать на бесконечные поздравления по телефону друзей, родственников, знакомых и даже совсем не известных мне людей.
Пойду в мастерскую, решил я, там ждут меня товарищи по работе, которым я немало обязан своими успехами.
Принесли телеграмму, но слезы радости мешали читать, и я передал ее жене.
«В день вашего шестидесятилетия, — читала она, — желаю вам счастья, постоянного здоровья, многих лет жизни и дальнейшей творческой деятельности на благо нашей родины.
ВОРОШИЛОВ».
Несколько раз перечитав телеграмму, я положил ее в карман и заторопился.
Вечером в городском клубе рабочие и ИТР устроили мне настоящий юбилей. Я был очень смущен этим чествованием и мечтал лишь о том, чтобы меня поскорей отпустили домой.
Вдруг директор клуба подбежал к столу президиума:
— Василий Алексеевич, вас срочно к телефону, вызывает Москва, лично товарищ Сталин.
Я поднялся и поспешил к телефону.
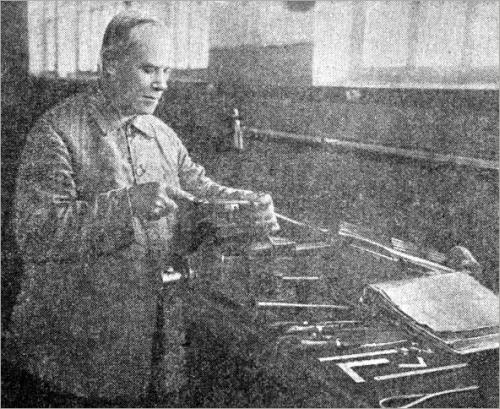
Когда я, счастливый, сияющий, снова вышел на сцену, меня оглушили аплодисменты. Уже все знали, что мне звонил и со мной говорил товарищ Сталин. И каждый был до глубины души тронут и горд тем, что Иосиф Виссарионович оказал такую честь их товарищу по работе.
Меня попросили выйти на трибуну и потребовали, чтоб я слово в слово передал, что сказал товарищ Сталин.
А когда они узнали, что товарищ Сталин поздравил меня с высокой наградой и пригласил приехать к нему, в зале с новой силой загремели аплодисменты, все встали, раздались восторженные крики:
«Да здравствует товарищ Сталин!»
«Великому Сталину, ура!»
Долго, очень долго не смолкали аплодисменты и возгласы.
Потом выступали с приветствиями многие товарищи. Но что они говорили, я не слышал. Сидел в президиуме, был в центре внимания и в то же время как бы отсутствовал. Я был поглощен воспоминаниями о разговоре с вождем нашей партии и народа товарищем Сталиным и мыслями о предстоящей встрече с ним.
Неужели осуществится моя самая заветная мечта? Неужели мне доведется увидеть товарища Сталина, поговорить с ним, пожать его руку!
На другой день утром, укутавшись в теплую шубу, я сидел в легковой машине, которая мчала меня в Москву.
Вот оно шоссе Энтузиастов — благоустроенная автострада, с обеих сторон окруженная величественными многоэтажными домами. Да ведь это бывшая Владимирка, мрачная дорога каторжан и ссыльных.
Как преображают мир советские люди! Вот показались трубы бывшего завода Гужон. Теперь это гордость советской металлургии, новый прославленный завод «Серп и молот».
А вот и Кремль. Машина мягко прошуршала по расчищенной дорожке и остановилась у подъезда величественного дворца…
В тот же вечер я возвращался обратно. Все мысли, все силы моей души теперь были сосредоточены на одном — на задании товарища Сталина. Нужно было увеличить емкость магазина в сконструированном мной пистолете-пулемете. И сделать это срочно, спешно, немедленно. На Карельском перешейке шли ожесточенные бои с белофиннами, и был дорог каждый час.
Я дал слово товарищу Сталину, что новый магазин для пистолета-пулемета будет готов через семь дней, и теперь думал над тем, как бы еще сократить этот срок.
Вернулся я ночью. Но я не хотел, не имел права терять ни одной минуты.
Тут же были собраны конструкторы, инженеры и мастера опытной мастерской.
Очень кратко, экономя каждую минуту, я доложил о задании товарища Сталина и призвал коллектив к напряженной работе.
Наши работники без лишних слов обязались выполнить задание вождя досрочно.
Я не пошел домой. От меня зависела работа других. Я должен был придумать и с помощью инженеров рассчитать конструкцию нового магазина. Мысль о его создании созрела еще дорогой. Встреча с товарищем Сталиным меня вдохновила. Теперь эту мысль следовало воплотить в чертежи и металл. Началась горячая работа. Такая работа, когда забываешь о доме, о семье, о еде, даже о сне и весь отдаешься труду, уходишь в него, живешь и дышишь им.
Я твердо верил, что мы с нашим дружным, трудолюбивым коллективом сдержим обещание, данное любимому вождю.
Сознание того, что мы выполняем личное задание товарища Сталина, преобразило людей. Они стали более подтянутыми, строгими, сосредоточенными. Что бы они ни делали: обтачивали ли деталь, подгоняли ли допуски — чувствовалось, что они работают с душой и с полной ответственностью за порученное им дело.
Я не раз вспоминал о том, в каком одиночестве приходилось работать конструкторам до революции.

Теперь можно было поделиться своими замыслами с товарищами, найти помощь и поддержку. Тогда работал одиночка, сейчас творцом была могучая коллективная мысль. Я не говорю уже о том, что нами двигала великая любовь к Родине, страстное желание сделать ее еще более могучей в боевом отношении.
Прошло всего пять дней, и новый магазин пистолета-пулемета был опробован. Он показал отличные результаты, увеличив почти вдвое боеспособность оружия.
Эти дни я запомнил на всю жизнь.
Я много раз рассказывал товарищам по работе о своей встрече с вождем. Меня приглашали то в один, то в другой цех и всюду слушали, затаив дыхание.
После этих рассказов пожилые люди работали так, словно помолодели на десять лет, а молодые — словно приобрели опыт и мудрость пожилых. Мы все гордились вниманием и заботой товарища Сталина и тем, что сумели выполнить досрочно его важное задание.
Незабываемыми событиями ознаменовался для меня 1940 год.
В этом году состоялась моя встреча с великим вождем народов товарищем Сталиным, оказавшая огромное влияние на мою дальнейшую жизнь и творческую работу.
В этом году мне присвоили почетное звание Героя Социалистического Труда и утвердили в ученой степени доктора технических наук.
В этом же году мне, как депутату Верховного Совета СССР, случилось побывать во многих городах, селах и деревнях нашей области. Я встречался со своими избирателями — рабочими и инженерно-техническими работниками заводов и фабрик, с колхозниками, студентами, красноармейцами.
Разъезжая по городам и селам, я хорошо рассмотрел небольшой кусочек своей огромной страны и был поражен ее стремительным развитием.
Я, конечно, знал о великом преобразовании страны, но до этих поездок, поглощенный конструкторской работой, не представлял себе огромных масштабов этих преобразований. И вот, в небольших городах передо мной возникли новые, оснащенные самой современной техникой заводы, величественные дворцы культуры и рабочие клубы, светлые, просторные больницы, красивые здания детских садов, строгие здания институтов, техникумов, школ. Города оделись в сады. Исчезла грязь, на главных улицах появился асфальт. Я смотрел на все это, как зачарованный.
В деревне меня поразило обилие сельскохозяйственных машин. Всюду я видел тракторы, комбайны, лобогрейки. Машины, новейшие умные машины, приводимые в движение электричеством, прочно вошли в жизнь советской деревни. В домах колхозников радио и лампочки Ильича стали обычным явлением.
Но еще большие перемены я увидел в людях, в колхозниках, которые водили теперь тракторы и комбайны, управляли автомашинами, работали в хатах-лабораториях, на электростанциях и в МТС. Колхозники учились на курсах, писали в газеты, выращивали двухсотпудовые урожаи.
Так преобразила нашу страну и наш народ партия, великая партия большевиков и ее вожди Ленин и Сталин.
А какие перемены на заводах! Они реконструированы и оснащены новейшей техникой.
И я был свидетелем и активным участником великого преобразования своей страны, осуществленного партией, хотя и не был коммунистом.
«А почему я не в партии?» спрашивал я себя, и мне становилось неловко, словно во время боя я был не на переднем крае, хотя в душе чувствовал, что это не так. Напротив, я старался работать, как большевик.
Мне вспомнилась одна из бесед с секретарем парткома и его вопрос: почему я не вступаю в партию…
Однажды вечером, когда я сидел за чаем в кругу своей семьи, мой зять, Иван Андреевич Зеленов, спросил:
— А почему наш заслуженный папаша до сих пор не коммунист?
Я давно ждал этого вопроса, и у меня был готов ответ.

— Мне уже перевалило за шестьдесят.
— Нашел причину, — улыбнулся зять.
— Знаешь что, папа, — вмешался в разговор старший сын мой Александр, — я давно хотел поговорить с тобой об этом. Ты и Герой Труда, и лауреат, и депутат Верховного Совета, и руководитель конструкторского бюро — и беспартийный. Ведь тебя же другой раз приходится в пример коммунистам ставить: равняйтесь по Дегтяреву. А Дегтярев беспартийный.
— Старостью ты не отговаривайся, — сказал зять, — ничего неудобного тут нет, мало ли у нас коммунистов постарше тебя?
— Так ведь они не сегодня вступали?
— А ты вступай сегодня! Догоняй!
Вскоре после этого разговора ко мне в кабинет пришел мой товарищ по работе Михаил Андреевич Кошанов.
— Слышал, Василий Алексеевич, вы задумали в партию вступить?
— Мечтаю, да вот не знаю, у кого рекомендацию просить, — сказал я и испытующе посмотрел на него. — Вы бы дали мне рекомендацию, Михаил Андреевич?
— Почту за большую честь, — ответил он, — и думаю, что вам с радостью даст рекомендацию любой из наших коммунистов.
Кошанов уговорил меня сейчас же зайти к нашему сотруднику коммунисту Мешкову. Видя, что я стесняюсь заговорить о рекомендации, Кошанов сказал Мешкову.
— Василий Алексеевич собирается в партию вступить. Дашь рекомендацию?
— С большой охотой, — ответил Мешков.
Такое отношение товарищей меня очень тронуло.
На всю жизнь запомнилось мне партийное собрание.
Как только было зачитано мое заявление, раздались дружные аплодисменты. Потом товарищи один за другим подходили ко мне и поздравляли с принятием в кандидаты Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков).
Это был большой день для меня. В этот день я еще крепче связал свою жизнь с великой партий Ленина-Сталина.
Мы, советские конструкторы, все время думали о возможности нового нападения на нашу Родину. Мы готовились к этому неустанно, понимая, что рано или поздно наша страна будет ввергнута в жестокую битву.
Мы внимательно следили за событиями первых дней войны. Немецко-фашистские орды нанесли удар неожиданно, из-за угла, напали, как бандиты в ночное время, вероломно нарушив договор. Воспользовавшись тем, что наши армии не были отмобилизованы, они оттеснили пограничные части и озверелой ордой ринулись на нашу родную землю.
По первым же сводкам Совинформбюро мы поняли, что главной ударной силой немецко-фашистских войск были танки — множество бронированных чудовищ. Они вбивались клиньями в наши подразделения, рвались к Москве.
Чтобы остановить врага, надо было остановить его танки, остановить бронированные армады.
Это могли сделать противотанковые пушки, но их было мало, а наладить массовое производство пушек не так-то легко. Значит, нужно было немедленно изобрести легкое в производстве, дешевое и эффективное оружие. Этим оружием могло быть только противотанковое ружье.
Я вызвал своего заместителя Н. А. Бугрова, и мы составили план по конструированию противотанкового ружья.
Этот план предусматривал, что параллельно со мной будет конструировать ружье бригада, состоящая из инженеров Крекина и Дементьева, конструкторов — Гаранина и моего сына Владимира.
В мастерскую доставили различные системы ружей, винтовок, винчестеров, карабинов, даже пулеметов. Анализируя их, конструкторы строили свои варианты, старались создать оригинальное и эффективное оружие.
Среди этих систем оказалось и трофейное противотанковое ружье, доставленное с фронта. Конструкторы очень внимательно рассмотрели его и хотели услышать мое мнение.
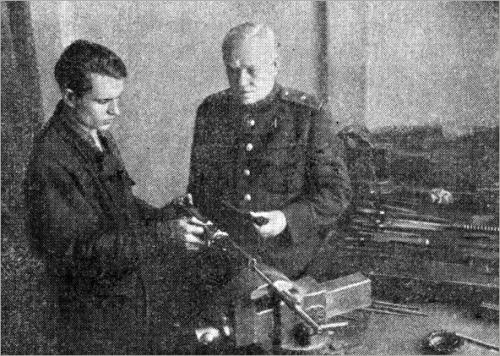
Ружье это скорей походило на пулемет или на мелкокалиберную пушку. Оно было громоздко, неуклюже и страшно тяжело.
Подошел Бугров. Еще раз осмотрев ружье, он сказал:
— С такой колодой немца не остановишь. А как вы думаете, Василий Алексеевич?
— Что в нем правильно придумано, это длинный ствол, — сказал я, — ствол должен быть обязательно длинным. Но салазки, по которым он скользит, — лишняя тяжесть, если их убрать, ружье будет вдвое легче.
— На чем же тогда будет скользить ствол? — спросил кто-то из конструкторов.
— Вот об этом и следует подумать!
— А как вы находите механизм?
— Сложен, — ответил я. — Это ружье должно быть массовым, и устройство его нужно сделать предельно простым.
Вернувшись к себе, я задумался над недостатками трофейного ружья и решил свою работу начать именно с того, чтобы в своей системе избежать этих недостатков.
Скользящий ствол не новость! Его я делал больше тридцати лет назад в автомате Федорова, и здесь он подойдет. А вот салазки ни к чему. Салазки долой.
Я ходил по кабинету и думал. Перебирал в памяти десятки, сотни различных примеров скольжения, начиная от коньков, и дошел до поршней и шатунов.
Вот тут-то меня и осенила мысль: «А что если ствол спрятать в трубу? Даже не весь ствол, а лишь конец его? Даже и этого не надо. Укрепить внизу, параллельно стволу небольшой стержень и спрятать его в трубу. Мысль! Право, мысль!»
Взглянул на часы. Было два часа ночи. Но я знал, что конструкторы работают или отдыхают там же, в мастерской.
— Товарищи, я, кажется, кое-что придумал!
Я рассказал им о пришедшей мне в голову мысли. Не в пример старому времени, я давно уже перестал работать в одиночку. Наоборот, я считал полезным обсудить свои замыслы с товарищами, коллективно все обдумать, обмозговать.
Так получилось и на этот раз. По моему наброску инженеры сделали чертеж и передали в опытную мастерскую, чтобы там изготовили маленькую модель.
Получив модель, мы стали просматривать детали. Наконец, все части ружья были продуманы и воплощены в чертеж.
Теперь все зависело от мастерской: насколько хорошо и быстро она сумеет изготовить детали.
А в мастерской положение было тяжелое. Многие опытные мастера ушли на фронт, их станки пустовали.
Сводки Совинформбюро с каждым днем становились тревожней. Враг, очертя голову, рвался к Москве. По ночам над нашим городом кружили фашистские самолеты. Рабочие неделями не выходили из мастерской. Отработав одиннадцать — двенадцать часов, они поднимались на крышу мастерской и там несли боевые вахты у авиационных пушек и пулеметов.
И наши конструкторы проявляли образцы трудового героизма. Многие из них спустились в опытную мастерскую и стали к станкам.
На станках работали старший конструктор Гаранин, молодая чертежница Оля Быкова, мой сын Владимир и я сам.
Детали тут же испытывались и собирались. Это позволило почти за три недели изготовить два образца созданного нами ружья.
Мы принесли их наверх в кабинет и сравнили с трофейным ружьем.
Они абсолютно не были похожи.
— А ну, взвесьте их, — распорядился Бугров.
Трофейное весило 36 килограммов, а наше как раз вдвое легче. Это было большим преимуществом. Теперь волновало главное — боевые качества нашего ружья.
Ружье направили на испытательную станцию и произвели пристрелку.
В нем оказалось еще много недоделок, но молнией пролетел слух, что оно пробивает мощную броню.
Это была победа. Бронебойщики, вооруженные нашими ружьями, насмерть станут на подступах к Москве, и враг не пройдет!
Когда ПТР (противотанковое ружье) было окончательно отрегулировано, его отправили в Кремль. Туда же несколькими днями позже вызвали и меня.
На большом столе, вокруг которого собрались члены правительства, рядом с моим ружьем лежало противотанковое ружье Симонова. Симонов начал свою творческую работу в нашей опытной мастерской, и я был очень обрадован, что он так далеко шагнул.
Ружье Симонова оказалось на десять килограммов тяжелее моего — и это было его недостатком, но оно имело и серьезные преимущества перед моим — оно было пятизарядным. Оба ружья показали хорошие боевые качества и были приняты на вооружение.
Теперь задача состояла в том, чтоб срочно наладить их массовый выпуск. Таково было задание товарища Сталина.
Мне пришлось побывать на заводе, изготовляющем оружие моей конструкции.
Новое задание великого вождя вызвало невиданный энтузиазм среди рабочих и инженерно-технических работников. Сделать как можно больше противотанковых ружей и как можно быстрее — стало их патриотическим долгом.
Под производство ПТР было отведено три цеха. В одном делали стволы, в другом затворы, в третьем приклады и ложе.
Каждой из этих операций руководили опытные и энергичные мастера — коммунисты Завьялов, Филатов и мой старший сын Александр.
И все же ни я, ни директор завода в те дни не знали покоя. Круглыми сутками, за исключением нескольких часов сна, мы находились в цехах, следили за тем, как идет изготовление деталей и сборка. Если где-нибудь не ладилось, я сам становился к станку, показывал, как обрабатывать ту или иную деталь. Рабочие трудились с огромным воодушевлением, многие, заменяя ушедших на фронт, перешли на два, три станка.
В эти дни, в дни грозной опасности для нашей страны, труженики тыла совершали поистине героический подвиг. На завод пришли женщины и подростки, они стали у станков и выполняли тяжелую мужскую работу.
Почти сплошь и рядом я видел своих сверстников, убеленных сединами стариков-пенсионеров, сосредоточенно стоящих за станками, и рядом молоденьких и хрупких девушек-подростков с ясными глазами и сурово сжатыми губами.
Чувствовалось, что девушкам трудно, что они работают из последних сил, но попробуй, скажи об этом, — рассердятся, даже могут сгоряча обругать. Они, как и старики, пришли в цехи добровольно и гордились этим. Их маленькие, еще не успевшие огрубеть руки приносили большую пользу. Сложные станки и машины, которыми были оснащены цехи, слушались их беспрекословно.
Глядя на этих девушек, я вспоминал, как в отрочестве работал на «шарманке», понукаемый мастерами, унижаемый всяким, кому не лень. Разве можно сравнить того полуграмотного, забитого мальчишку, умеющего лишь нажимать рычаг примитивного механизма и думавшего лишь о том, как бы скорее кончился рабочий день, с этими девушками, овладевшими сложными и точнейшими машинами? Девушки выполняли эту работу не ради куска хлеба, а ради великого патриотического долга, ради спасения своей Отчизны.
Как неизмеримо изменилось все. Вместо грязных, закопченных цехов с примитивными станками, приводимыми в движение трансмиссиями от парового маховика, — высокие, светлые, просторные корпуса с новейшими станками, с отдельными электрическими приводами и точнейшими инструментами. А как изменились рабочие! С каким сознанием, с какой любовью относятся они к своему труду, как гордятся они своей работой, как бережно относятся к механизмам, стараясь заставить их работать с максимальной нагрузкой.
Изменились и отношения между людьми. Теперь люди работают дружно: если у одного не ладится, другой приходит и помогает, учит, подтягивает. Я видел великие перемены в технике, в работе, в сознании и характере людей и гордился, что все эти перемены были осуществлены партией большевиков, членом которой я готовился стать в эти грозные дни.
За истекший год я основательно изучил Краткий курс истории Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков).
Мне кажется, что ни одной книги я не читал с таким огромным интересом. Многие страницы я перечитывал по нескольку раз. По-новому раскрывались общественные события, войны и революции. Все это я переживал как бы вторично, но видел эти события по-новому, научился понимать и оценивать их с большевистских позиций. Во весь рост вставали два титана, два вождя и организатора большевистской партии — Ленин и Сталин. Какую гигантскую работу, приведшую нашу страну к социализму, проделали они!
Эту книгу я не раз перечитывал, когда выпадали свободные минуты. Она помогла мне постичь основы марксистско-ленинского учения, узнать законы общественного развития и политической борьбы.
Изучение истории партии еще больше укрепило во мне уверенность в победе нашего народа над гитлеровской Германией и в окончательной и неизбежной победе дела партии Ленина — Сталина, в победе коммунизма.
Изучение этой замечательной книги помогло мне еще ясней увидеть организующую и руководящую роль большевистской партии в наших повседневных делах.
И доблестный, беспримерный труд рабочих, и быстрый рост производства противотанковых ружей и другого вооружения у нас на заводе — все это результат неутомимой деятельности заводской партийной организации.
В эти грозные дни я был принят в члены родной большевистской партии.
Вместе со мной в партию вступили лучшие труженики мастерской, вступили в самые тяжелые для нашей Отчизны дни.
Враг смыкал кованые челюсти вокруг Москвы. Но люди не ведали страха. Они честно, мужественно и смело выполняли свой долг.
Оружейные заводы работали круглые сутки, с каждым днем увеличивая выпуск ПТР.
Их отправляли на фронт прямо из цехов на машинах и на самолетах.
Мы еще не знали, как наши противотанковые ружья покажут себя в бою. А вдруг в боевых условиях в ружьях обнаружатся дефекты, которых нельзя было заметить на полигонных испытаниях? Этот вопрос волновал нас, и я вместе с Н. А. Бугровым отправился на Можайское направление.
Ехали мы на машине. И чем ближе к Москве, тем труднее становилось пробираться: шоссе было буквально забито различным транспортом. Мы ехали по обочине дороги и проселками и всюду видели людей, вооруженных лопатами и кирками, — это население городов и деревень, все, от мала до велика, шли на рытье противотанковых рвов. Мы с трудом добрались к фронту. Оказалось, что наше ружье работает исправно и бронебойщики довольны им.
Чтоб успокоить нас, командир подразделения развернул «Красную звезду», и мы с волнением прочли следующее:
ПРОТИВОТАНКОВОЕ РУЖЬЕ — ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО БОРЬБЫ С НЕМЕЦКИМИ ТАНКАМИ
МОЖАЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 10 ноября (от нашего специального корреспондента).
«Несколько дней тому назад ордена Красного Знамени дивизия получила новые противотанковые ружья. На второй день бойцы и командиры сумели убедиться в огромной эффективности этого оружия для борьбы с фашистскими танками.
Недалеко от села Брыкино, в 400 метрах от дороги, залег красноармеец из отряда Дереки с противотанковым ружьем. Вскоре показалось несколько фашистских танков. Красноармеец внимательно прицелился и выстрелил. Пуля попала в башню, пробила ее и, очевидно, ударила в снаряд. Раздался взрыв, и башню снесло, словно срезало. Остальные танки немедленно повернули назад.
Красноармейцы и командиры высказывают восхищение противотанковым ружьем. Чтоб овладеть им, потребовалось несколько часов. В танк можно стрелять со значительного расстояния.
С каждым днем в наши части начинает все больше и больше прибывать противотанковых ружей».
Дав воинам несколько практических советов, как лучше обращаться с противотанковым ружьем, и пожелав им успехов в боях, мы отправились на завод.
А там нас ждали письма с других участков фронта. Вот одно из них:
«Глубокоуважаемый и дорогой наш Василий Алексеевич.
Сегодня настал тот день, когда мы, бронебойщики, с гордостью можем написать Вам письмо.
Долгое время нам не приходилось вступать о единоборство с немецкими танками. 8 октября нам приказали оборонять участок, где противник пустил до 20 танков и бронемашин. Но у нас закон один: «Где обороняются гвардейцы, враг не пройдет». Оставив на поле боя 3 подбитых танка, 4 бронемашины и до пятидесяти солдат и офицеров, враг отошел и больше уже не пытался прорваться.
Заверяем Вас, что и впредь не пощадим своих сил и жизни для полного разгрома врага. Оправдаем наше русское оружие. Письмо зачитано и принято единогласно подразделением.
С гвардейским приветом гв. капитан Кривкин».
Тут же была и телеграмма:
«На нашем участке фронта противник ведет беспрерывные контратаки большими силами танков. Воины нашего соединения в этих боях за последние 10 дней подбили около 200 танков. Около половины из них подбито бронебойщиками, вооруженными противотанковыми ружьями Вашей конструкции.
Редакция армейской газеты убедительно просит Вас по телеграфу передать статью на тему — советы бронебойщикам, как наиболее эффективно использовать в бою противотанковое ружье. Заранее благодарю.
С товарищеским приветом редактор газеты «Армейская правда» Авдюхин».
Я немедленно откликнулся на эту телеграмму, написав «Пять советов бронебойщикам». Эти советы были перепечатаны во многих фронтовых газетах.

Редакция газеты «Красная Армия» прислала мне телеграмму:
«В отражении бешеных танковых атак противника наряду с артиллеристами огромную роль играют бронебойщики.
Много им дали советы, присланные Вами по просьбе одной из армейских газет. Бронебойщики, вооруженные Вашим ружьем, добиваются замечательных успехов. Старший сержант Степанов, командир отделения бронебойщиков, только в одном бою уничтожил 6 вражеских танков, сержант Носов подбил 2 танка, лейтенант Паклин 4 танка. Успехи бронебойщиков широко освещаются на страницах нашей газеты. Просим Вас прислать телеграфный ответ, который еще больше повысит боевой дух бронебойщиков.
Редакция газеты «Красная Армия».
Узнав о разгроме немцев под Москвой, наши работники ликовали от счастья и от сознания того, что в этой победе была доля их честного труда.
Труд многих из них, в том числе и мой, был отмечен орденами.
Тогда я получил много поздравительных писем, но из них мне хочется привести письмо моего старого товарища по работе, награжденного одновременно со мной старейшего конструктора-оружейника Героя Социалистического Труда Ф. В. Токарева. Вот это письмо:
«Дорогой Василий Алексеевич!
Сердечно Вам благодарен за поздравление меня с высокой правительственной наградой.
В свою очередь спешу поздравить и Вас с награждением орденом Трудового Красного Знамени.
Очень извиняюсь, Василий Алексеевич, что не мог этого сделать раньше, т. к. центральные, газеты, где печатаются списки награжденных, мы получаем с большим опозданием. Ваше поздравление я получил почти одновременно с газетой.
Получить поздравление от Вас, Василий Алексеевич, мне особенно дорого, т. к. я помню Вас еще со времени Ораниенбаумской школы и Сестрорецкого завода, на заре рождения русского автоматического оружия.
От души желаю, Василий Алексеевич, Вам доброго здоровья на многие, многие годы, жить, создавая совершеннейшие образцы оружия во славу нашей великой Родины, во славу нашей непобедимой Красной Армии, с которой мы, вооруженцы, так тесно связаны. Пусть эта высокая награда Правительства вдохновит нас на новые работы к достижению скорейшей победы над врагом. Пусть озверелый фашизм на своей собачьей шкуре еще больше почувствует силу советского оружия.
Крепко, крепко жму Вашу руку.
Ф. Токарев.
17 июня 1942 г.»
Письма друзей и фронтовиков ободряли нас, наполняли новыми силами, заставляли еще напряженней и самоотверженней работать, вооружать нашу армию грозным, непобедимым оружием.
Я всегда гордился тем, что наша опытная мастерская была своего рода школой, воспитавшей и вырастившей целую плеяду талантливых советских конструкторов.
Еще в 1918 году пришел из деревни в нашу мастерскую молодой паренек Сергей Симонов. Он работал слесарем по отладке изготовлявшихся тогда автоматов Федорова. С первых же дней он проявил живой интерес к нашему делу. Это заметили и я и Федоров. Какую бы работу ни поручали ему, он выполнял ее добросовестно и прилежно.
Мы с охотой помогали Симонову, и он очень скоро стал первоклассным оружейным мастером. Изучив принципы автоматики, он не раз изумлял нас своими рационализаторскими предложениями и изобретательскими способностями, которые проявлял в повседневной работе.
Симонову стали поручать самостоятельные работы, и он успешно с ними справлялся. Его назначили контрольным мастером на сборку, и там он проявил себя с самой лучшей стороны. Примерно с 1926 года Симонов начал пробовать свои силы в изобретательстве. Он работал над моделью ручного пулемета, а затем автоматической винтовки.
Сделанная им в 1933 году винтовка успешно выдержала испытания на Всесоюзном конкурсе, и Симонова направили на один из заводов для организации серийного производства его образца.
Перед самой войной, в 1941 году, Симонов упорно работал над созданием противотанкового ружья. По указанию товарища Сталина Симонову предоставили отличные условия для творческой работы. Талант изобретателя из рабочих проявился во всю силу. Симонов создал самозарядное противотанковое ружье. Ружье это блестяще выдержало испытания и было принято на вооружение Красной Армии в суровые дни осени 1941 года.
За это изобретение конструктору Сергею Гавриловичу Симонову, бывшему слесарю нашей опытной мастерской, правительство присудило Сталинскую премию первой степени.
Пришел к нам в мастерскую в 1920 году только что демобилизовавшийся по болезни худенький, невысокий паренек по фамилии Шпагин. Он оказался родом из ближней деревни. В армии Шпагин работал в полковой оружейной мастерской и имел кое-какие навыки в слесарной работе.
Знаний больших в оружейном деле он не обнаружил, но зато показал редкую сообразительность. Он был живой, любознательный, горячий. Мы приняли его в мастерскую. Я велел ему приготовить инструмент: насадить ручки на напильники, подремонтировать тиски, привести в порядок верстак (тогда с инструментами и оборудованием было плохо).
Шпагин оказался очень расторопным малым, быстро освоился и начал работать.
Во время первой же работы, которую ему поручили, — сборки магазина автомата Федорова — он придумал усовершенствование: предложил меньше заклепок, но расположил их так, что прочность не уменьшилась.
Мы дивились, с какой легкостью он постигал сложные премудрости автоматики. И едва ли прошел год, как Шпагину уже разрешили работать на станках и прикрепили к нему для обучения молодых рабочих.
Но первое, в чем Шпагин блеснул своими изобретательскими способностями, было усовершенствование шаровой установки для автомата Федорова.
Установка эта, созданная конструктором Ивановым, была очень сложна и громоздка, и мы ломали голову над тем, как бы ее упростить.
И вот тут-то Шпагин предложил свои услуги. Он дал нам слово, что улучшит систему установки. Мы доверили ему работу, но лишь после того, как он рассказал о своих замыслах, которые понравились и мне и Федорову. Мы думали, что Шпагин уберет из конструкции до 20 деталей. Но Шпагин превзошел наши ожидания. Он убрал 42 детали и в корне изменил всю систему и шаровой установки, и гнездового устройства.
Позднее эта установка была им еще более улучшена и с успехом применена в танках, о чем я уже рассказывал.
Эта работа поставила Шпагина в ряды наших лучших мастеров, и я охотно доверил ему совершенствование моих систем. Он успешно сконструировал приемник с лентой для моего пулемета и, наконец, модернизировал и улучшил мой крупнокалиберный пулемет, который и стал называться ДШК (Дегтярев — Шпагин — крупнокалиберный).
Когда наш коллектив получил задание от товарища Сталина создать пистолет-пулемет, Шпагин параллельно со мной начал конструировать свою систему.
Он поставил перед собой задачу сконструировать автомат, который был бы предельно прост в производстве, с тем, чтобы можно было быстро наладить его массовый выпуск. Ему удалось создать модель без резьбовых сооружений, легкую и прочную.
Шпагину было поручено изготовление партии опытных образцов и он уехал на завод для самостоятельной работы.
В конце 1940 года мы узнали о том, что автомат Шпагина принят на вооружение, а через несколько Дней Георгий Семенович Шпагин прислал нам в подарок свое изделие.
В марте 1941 года наш питомец Г. С. Шпагин за его замечательное изобретение был удостоен Сталинской премии, а в 1945 году ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Спустя два года Георгий Семенович был избран в депутаты Верховного Совета СССР. И хотя сотни километров разделяют нас, Шпагин не теряет связи с нашим коллективом, с которым проработал двадцать лет. Он часто шлет нам письма, делится своими планами. Меня он также не забывает. Он прислал телеграмму, когда меня наградили орденом Суворова:
«Дорогой Василий Алексеевич, искренне поздравляю Вас с высокой правительственной наградой орденом Суворова первой степени. Пусть Ваш благородный труд и впредь служит святому делу укрепления военной мощи нашей родины. Желаю Вам здоровья на многие годы.
Ваш ученик Шпагин».
Чрезвычайно ценный вклад в вооружение советских войск внес безвременно умерший высокоодаренный конструктор Горюнов.
С нами он проработал лет пятнадцать. Слыл изумительным мастером, но никогда не проявлял себя как изобретатель или конструктор.
И вдруг летом 1942 года чуть свет Горюнов является ко мне с большим свертком.
— Василий Алексеевич, посмотрите на модель моего пулемета. Много раз собирался к вам, да все как-то стеснялся.
Я осмотрел модель Горюнова и, признаюсь, не поверил своим глазам. Модель была задумана с учетом новейших достижений оружейной автоматики.
— Когда же ты это сделал, Максимыч? — спрашиваю.
— Задумал давно, а модель собрал в последнее время, когда услышал, что перед нами поставлена задача создать новый станковый пулемет.
Модель, сделанная из дерева, жести и картона, была выполнена смело и оригинально.
Я пригласил Горюнова в конструкторское бюро, предложив ему подобрать пару надежных помощников.
В тот же день он привел своего племянника Михаила Горюнова и слесаря Воронкова.

— Прибыл с помощниками! — отрапортовал он.
— Очень хорошо, — сказал я, — будете сами делать свою машину. Выделяю вам в помощь конструктора и сам помогу.
— А где мы будем работать? — спросил Горюнов.
— Для вас уже отведено место и станки.
Я проводил их в мастерскую и пояснил, как и с чего лучше начинать. Посоветовал им приступить к изготовлению модели в металле, тщательно проверяя взаимодействие и прочность деталей в процессе их изготовления.
Горюнов, его помощники и выделенный нами конструктор с жаром отдались работе.
Перед Горюновым было поставлено условие — создать станковый пулемет с воздушным охлаждением, который был бы значительно легче Максима и превосходил его в боевом отношении.
Мы неустанно следили за работой Горюнова и оказывали ему повседневную помощь.
В эти суровые дни мы меньше всего думали о личной славе. Все наши мысли и стремления были направлены на то, чтоб как можно больше сделать для фронта. Мы свято выполняли заповедь «Все для фронта, все для победы!»
Именно эта дружная, целеустремленная работа всего коллектива, руководимого партийной организацией, и позволила нам изготовить модель пулемета Горюнова в предельно короткие сроки.
Пулемет был послан на испытание и получил высокую оценку, но комиссия забраковала станок. А медлить было нельзя. Наша армия начала большое наступление, пулемет Горюнова был нужен, как воздух.
Тогда я предложил конструкцию станка, которая была одобрена, и нам сообщили, что пулемет Горюнова принят на вооружение доблестных советских войск.
Горюнов не дожил до того радостного дня, когда созданный им пулемет стал грозным оружием в умелых руках советских воинов.
Правительство высоко оценило наш труд. Обоим Горюновым, Воронкову и мне за создание нового пулемета была присуждена Сталинская премия.
Созданное нами оружие помогло доблестным советским воинам разгромить орды врага.
Говоря об успехах советских конструкторов, вышедших из нашей опытной мастерской, нельзя не сказать об огромной роли партии и правительства в их воспитании и развитии.
Товарищ Сталин принимал личное участие в организации работ и моих, и Симонова, и Шпагина.
Мне известно, что в 1942 году, когда Симонов работал в очень тяжелых условиях и был болен, однажды ночью ему позвонил товарищ Сталин, расспросил о нуждах конструктора, ободрил его теплым, ласковым словом и сказал, что ему будут срочно созданы хорошие условия для работы. И действительно, немедленно появилось все необходимое.
Именно благодаря неустанной заботе партии и лично товарища Сталина рядовые слесаря из нашей мастерской сумели стать видными конструкторами, создали замечательные образцы автоматического оружия, сыгравшего немаловажную роль в разгроме немецких захватчиков.
Дни второй военной весны протекали в напряженном труде.
В то время мне приходилось часто бывать на заводе, которому было поручено изготовление пулеметов Горюнова. Большой завод дышал всеми трубами. Его пульс выстукивал предельное количество ударов. Маховики, валы и шестерни его машин давали максимальное число оборотов. Все двадцать четыре часа в сутки были наполнены немолкнущим гулом труда и борьбы.
Устоявшаяся, упроченная известиями с фронтов вера в победу окрыляла людей, умножала их духовные и физические силы, помогала преодолевать трудности и лишения, влекла на подвиги, достойные героев.
Поэтому в любимый праздник советских людей — Первое мая — все работали с упоением, разгоняя усталость веселыми шутками, словно этот день труда решал успех генерального сражения.
Всеобщему праздничному настроению во многом способствовала птицей пролетевшая по цехам весть о том, что правительством принят на вооружение пулемет Горюнова.
Каждому патриоту завода хотелось как можно скорей освоить производство пулеметов Горюнова и тем самым ускорить победу над ненавистным врагом.
Но на заводе все цехи были до отказа набиты гремящими станками. С конвейеров беспрерывными караванами текли на фронт легкие пулеметы, противотанковые ружья, скорострельные пушки. Для организации нового производства не находилось не только цеха, но даже угла.
Оставалось одно: безотлагательно, немедленно начать строительство нового цеха. Цеха огромного, похожего на комбинат, способного вместить целый арсенал. И нужно было построить его в предельно короткие сроки. А рабочей силы не было. Тогда по зову партийной организации на выручку заводу пришел наш славный боевой комсомол.
Комсомольцы приняли обязательство построить новый цех в неурочное время.
Помню, 4 мая днем я сидел у директора. Вдруг в кабинет вбежал секретарь заводской комсомольской организации Минин и потребовал, чтоб для руководства строительством был выделен опытный и смелый инженер.
Директор усадил Минина и сам опустился в кресло.
— Не тяжел ли возик беретесь везти?
— Нелегок, Василий Иванович. Знаем. Но ведь у нас больше тысячи фронтовых бригад, если по человеку из каждой выйдет — и то силища.
— Верно!
В это время в кабинет вошел уполномоченный ГКО. Откинув сбившиеся на лоб густые волосы, он пропустил вперед слегка сутулившегося человека, чисто и тщательно одетого. Это был инженер Агапов — начальник отдела капитального строительства.
— Товарищ директор, партком рекомендует работы по строительству поручить товарищу Агапову.
— Одобряю. Вы согласны, товарищ Агапов?
— Я понимаю так, что комсомол окажет строительству помощь, но где же рабочая сила?
— Они и будут рабочей силой, — ответил директор.
— Я имею в виду каменщиков, плотников, бетонщиков.
— Они будут делать все. Других рабочих нет.
Агапов вздохнул.
— Я не могу взяться за такое ответственное дело без кадровых рабочих, — глухо заговорил он, медленно подбирая слова. — В истории новостроек не было случая, чтобы необученные люди возводили корпуса…
— А Комсомольск-на-Амуре? — перебил его Минин. — И, если хотите, метро?
— Но это не делалось за два месяца и тем более после одиннадцатичасовой работы, — ответил Агапов.
— Да. Но тогда не было войны, — подчеркнул директор, как бы давая понять, что разговор надо кончать.
— Все это так, — проговорил Агапов, — но я не могу сначала обнадежить вас, а потом подвести и не справиться с работой.
— Товарищ Агапов, — резко заговорил уполномоченный ГКО, — мы вас вызывали не для дискуссии. Этот вопрос уже решен, и вам придется руководить.
Вмешался Минин.
— Если Агапов боится, дайте нам другого прораба, который бы верил в себя и в нас. А я даю вам слово комсомольца, что мы свое обязательство выполним.
— Ты не горячись, Минин, — успокоил уполномоченный. — Лучшего прораба нам не найти. Но я хочу, чтоб Агапов взялся за дело с таким же энтузиазмом, как комсомол. Только тогда будет толк. Подумайте, товарищ Агапов, и завтра представьте нам наброски плана работ.
5 мая на бурном собрании комсомольского актива было принято решение: начать работы по строительству 8-го утром. Постановили: каждому комсомольцу отработать на стройке не менее 40 часов. Комсоргам цехов и производств предложили создать строительные бригады.
В ту же ночь местное радио известило всех о патриотическом почине комсомольцев.
В цехах с волнением ждали первого субботника. В обеденные перерывы и после работы главной темой разговоров было строительство.
Строители тем временем облюбовали площадку для цеха. Площадка оказалась заваленной металлической стружкой. Стружка накапливалась годами и образовала высокие холмы. Убрать ее было нелегко, а другой удобной площадки не находилось.
Агапов, продумав весь вечер, с утра принялся за новую работу. Для уборки стружки по его указанию в кузнице срочно изготовили длинные железные прутья с загнутыми, крючкообразными концами и кольцами на других концах. Одновременно с этим столярка починила имеющиеся лопаты и изготовила множество носилок. Инструменты за ночь были развезены по базам вокруг стройплощадки.
В ту же ночь на холме у площадки вырос дощатый помост, который художники оформили наподобие эстрады. Монтеры установили микрофон. По соседству раскинули палатку, к ней протянули телефонные провода и привесили дощечку «Штаб строительства».
8 мая ровно в семь часов утра под звуки оркестра ночная смена молодежи вышла из цехов и организованно двинулась к месту работ.
На помосте стояли директор, уполномоченный ГКО, секретарь комсомола, Агапов и члены штаба стройки.
Когда колонна подошла к помосту, десятки репродукторов крикнули в один голос: «Боевой привет комсомольцам магазинного производства, первыми пришедшим на субботник!»
И тысячи голосов ответили: «Ура!»
— Привет славным пушкарям, явившимся на военную стройку вторыми!
И снова мощное «ура» потрясло воздух. Рявкнули трубы, и толпа молодежи начала полукольцом охватывать возвышение с помостом.
Минин радостно шепнул Агапову:
— Думали восемьсот, а уже за две тысячи перевалило.
Краткий митинг прошел по-фронтовому, и по-фронтовому прозвучала команда:
— Бригадирам раздать инструмент!
— За работу! Да здравствует Ленинский комсомол!
Снова громовое «ура» слилось с оркестром, и через минуту сотни железных крючьев вонзились в хрустящую стружку.
Слежавшаяся с годами стружка поддавалась плохо. Железные прутья застревали в ней, как гребень в густых волосах. Но лихо играл оркестр, звонко заливалась гармошка. С возрастающим азартом рвали комсомольцы стальные кольца. А стружка пружинилась, упиралась, в кровь царапала руки и ноги.
Медленно грузились носилки и еще медленней платформы. Многие из работающих видели бесцельность единоборства человека с металлом. Но молодость не хотела отступать.
А в это время в штабе искали новый метод уборки стружки. Из десятков предложений было принято одно — поджечь. Промасленная стружка должна была сгореть или обуглиться. Но на пути к осуществлению этого простого предложения были большие препятствия.
Прежде всего протестовала пожарная команда. По соседству находился склад боеприпасов. К пожарникам присоединилась ПВО — горение стружки могло затянуться до ночи и демаскировать завод.

Однако огонь был единственной силой, способной уничтожить стружку, и его решили применить.
Стружку подожгли на рассвете с подветренной стороны. Перед складом боеприпасов пожарные образовали водяную завесу. Стружка горела весь день могучим пламенем, но к вечеру, как бы предвидя прилет немецких разведчиков, пламя утихло, ушло вглубь и там клокотало еще три дня. Оно переплавило стружку в огромные шлаковые глыбы весом по нескольку тонн.
Нечего было и думать убрать их вручную. И в штабе придумали механизацию. К стальной стреле передвижного крана укрепили на тросах большую чугунную болванку. Ее поднимали и опускали. Болванка дробила шлаковые глыбы на мелкие куски, и комсомольцы тут же грузили их на платформы.
Вот уже несколько дней велась расчистка площадки. Высоко над холмом кто-то укрепил Красное знамя, и оно, как в сраженьях, влекло вперед. Взглянув на него, каждый работал бодрее, словно оно вливало в мышцы животворящую силу.
На восьмой день работы на участке Кати Шмановой, худенькой темноволосой девушки, заиграл гармонист. На отвоеванном у стружки куске, выравненном и посыпанном желтым песком, лихо притопывали комсомольцы. А когда стихла пляска, радио объявило на весь завод: «Бригада Кати Шмановой первой закончила очистку своего участка. Кто следующий?»
Список победителей рос. Через два дня на площадке можно было играть в футбол.
Площадь в 10 тысяч квадратных метров была расчищена и спланирована.
Пока шли работы на площадке, в проектном бюро днем и ночью составлялись сметы, готовились рабочие чертежи. Приближалось время рытья котлованов, а у строителей не было ни кирпича, ни лесу, ни цемента Алексей Лузиков, молодой энергичный инженер, заместитель Агапова, ставший душою стройки, говорил волнуясь:
— Нельзя упустить инициативу, темп. Нужно немедленно послать наших представителей в обком.
В тот же день делегация комсомола, возглавляемая Мининым, выехала в обком.
На помощь пришла областная комсомольская организация.
Через несколько дней на заводе получили телеграмму.
«Комсомольцы областного центра в неурочное время погрузили на платформы полмиллиона штук кирпича. Кирпич встречайте завтра».
Лес выделили поблизости от завода. Штаб отобрал наиболее сильных комсомольцев и составил из них бригады грузчиков. Утром после одиннадцатичасовой работы в цехах комсомольцы садились в грузовики и длинным караваном ехали в лес на погрузку древесины. Тридцатикилометровый путь проходил по зеленеющим полям и красивым, пахнущим смолою перелескам.
Незаметно вспыхивала песня, ее подхватывали на другой машине, на третьей, и, заглушая рокот моторов, песня сопровождала караван всю дорогу.
«Нам песня строить и жить помогает», пели комсомольцы, и эти слова как нельзя лучше соответствовали настроению и событиям. Песня действительно помогала.
Когда закатывали на машины тяжелые бревна, кто-то густым баритоном заводил:
— Эй, ухнем, эй, ухнем…
Хором подхватывали:
— Еще разик, еще раз!..
Песня словно подталкивала смолистые кругляки, и работа спорилась. Груженые машины одна за другой уходили к железной дороге.
Погрузка и разгрузка леса отвлекала от строительства много бригад, но работы на котлованах шли полным ходом. С каждым днем все больше добровольцев выходило на строительство. Приходила не только молодежь, но и мы, старики.
Всюду видели неутомимого дядю Васю Пушкова, старейшего мастера завода. Он трудился в бригаде Маруси Филатовой, неиссякаемыми шутками да прибаутками веселя и подгоняя работающих.
Когда Лузиков увидел за носилками меня, он поспешил к штабу, и через несколько минут зычный голос репродуктора оповестил:
«Товарищи! Сегодня с нами на строительстве комсомольского корпуса работает Герой Социалистического Труда Василий Алексеевич Дегтярев».
Мне стало неловко, и я хотел уйти. Вдруг гулкое «ура» прокатилось по стройке, грянула музыка. И еще дружней закипела работа.
Но вот в скрежет лопат и шорох сбрасываемой земли снова ворвался бас репродуктора: «Сегодня в гости к строителям пришли артисты драмтеатра имени Горького».
Артисты дали короткий концерт и взялись за носилки. Их бригадир секретарь парторганизации театра Грачев знал строительное дело и успешно руководил работой. Приход на комсомольскую стройку стариков и артистов вызвал новый поток добровольцев. Шли бригады молодежи с ближайших заводов и фабрик. Среди них были опытные строители.
И огромный корпус рос со сказочной быстротой.

Агапов и Лузиков едва успевали следить за работой каменщиков, плотников, арматурщиков, бетонщиков. Нужно было так расставить опытных мастеров, чтобы они одновременно и работали и учили других.
Ежедневно прибывали вагоны со стройматериалами. Работы шли утром и вечером, а день был до предела наполнен множеством организационных дел, заготовкой инструмента, подвозом материалов, подсчетами.
Но еще не успели строители довести стены до намеченной высоты, как ударили проливные дожди. Стройплощадка превратилась в месиво из песка, известки и глины.
Грязь была густая, цепкая. Чтоб пройти по ней, люди привязывали не только калоши, но даже резиновые сапоги. Работа стала замедляться.
В это время прибыла делегация с фронта для ознакомления с новыми пулеметами.
Опаленный в сражениях полковник с сильной проседью на висках и его товарищи пожелали выступить на митинге.
Вечером после работы огромная толпа наполнила заводский двор.
— Товарищи, слово имеет делегат с фронта.
Все замерли.
Полковник встал на возвышении. Он был в простой поношенной гимнастерке солдата, без орденов и медалей. Только золотая звездочка Героя сияла на груди.
— Товарищи, большое вам спасибо от солдат и офицеров за ваше замечательное оружие. Вы сделали много, но они ждут от вас еще большего, они ждут пулеметы Горюнова.
Полковник смахнул с лица капли дождя.
— Говорят что работы на стройке приостановились из-за дождей. А ведь фронтовики идут сквозь огонь, идут и многие гибнут потому, что у нас не хватает пулеметов…
— Никто дождя не боится! — зашумела молодежь.
— Пошли, товарищи! — звонко выкрикнул чей-то молодой голос.
— И мы с вами! — сказал полковник, подняв над головой лопату.
Огромная толпа двинулась на стройку, поливаемая вешним дождем.
Дожди шли долго. Продрогшие и измученные комсомольцы приходили в общежития и зачастую, не раздеваясь, засыпали. Не раздевались потому, что не было сил, чтобы снять мокрую одежду. Разбуженные гудком, они наскоро переодевались и шли в цехи.
Было трудно. Но никто об этом не говорил, никто не хотел этого замечать. Все жили одной мыслью, одной надеждой — построить цех и дождаться радостного дня его открытия.
Все помнили торжественные минуты закладки первых кирпичей. Особенно врезался в память момент, когда замуровывали в стену снаряд, в который вложили бумажку с датой начала работ и именами лучших строителей.
Тысячи людей запомнили суровые, но гордые слова, сказанные при этом. И эти тысячи героев с нетерпением ждали того дня, когда будет положен последний кирпич и вбит последний гвоздь…
И не прошло двух месяцев, как над огромным корпусом из белого кирпича, в который вошла бы целая деревня, взвился красный флаг.
После краткого митинга под торжественные звуки оркестра гордые строители многотысячной колонной проходили мимо величавого красавца.
Не могу скрыть того, что, когда я прочел на массивной стене: «Комсомольский корпус», у меня, старика, навернулись на глаза слезы.
Но то были слезы радости и гордости за нашу боевую смену, за нашу советскую молодежь, построившую этот огромный корпус в неурочное время, корпус, который сыграл решающую роль в производстве нового боевого оружия для Красной Армии.
Каждый человек, занимающийся творческой работой, испытывает большую радость, когда его творчество находит применение, приносит пользу.
Выйдя из недр трудового народа, я ему посвятил свою работу, свою жизнь. Поэтому мне особенно дорого внимание советских людей, их забота, доверие и любовь. Ни в одной стране в мире нет и не может быть такой тесной связи конструкторов с народом, как в Советской стране. Ибо у нас конструкторы творят для народа и народ помогает им в творческой работе. Я получаю множество писем от фронтовиков, рабочих, ученых, которые дают мне практические советы, просят изобрести или усовершенствовать то или иное оружие, и я очень благодарен им за эти советы. Меня до глубины души трогали письма и телеграммы советских людей, которые искренне радовались моим творческим успехам, словно это были их собственные успехи. Любовь проявлялась не только в трогательных письмах и телеграммах, но и в подарках, которые присылали зачастую совершенно незнакомые люди.
И я храню наряду с дорогими сердцу наградами советского правительства подарки, присланные мне простыми людьми.
Дома в небольшой светлой комнате, где я люблю иногда отдохнуть, стоит скульптурная группа — подарок инвалида В. В. Введенского. На ней вырезанный из дерева мой бюст на постаменте из четырех колонок.
А с боков — слева фигура женщины с ребенком, а справа — красноармейца с автоматом. Больной, прикованный почти два года к постели, т. Введенский вырезал эту скульптуру.
Вот хрустальный жбан с изумительной резьбой. На нем выгравирован мой портрет — это подарок мастеров глубокой грани Гусь-Хрустального завода.
Рядом со жбаном стоит красивый фарфоровый бокал. По синему кобальтовому полю золотой орнамент, а в центре мое изображение. Этот бокал прислали в подарок рабочие, мастера и художники Дулевского фарфорового завода.
А вот там, у шкафа, в углу, тяжелые ящики в футлярах. Это звуковая киноустановка. Иногда в воскресные вечера мы смотрим кино дома.
На киноаппарате никелированная пластинка с надписью:
«Герою Социалистического Труда В. А. Дегтяреву от работников горотдела кинофикации».
Вот трофейное оружие, присланное в подарок фронтовиками: «парабеллум», «маузер» и «зауэр».
На «парабеллуме» выгравирована надпись: «От командования гвардейской стрелковой дивизии Герою Социалистического Труда В. А. Дегтяреву».
На «маузере» следующие слова: «От летчика-испытателя майора Кладова».
«Зауэр» безыменный, но, помню, его преподнесли мне два офицера, приезжавшие к нам с фронта, в честь вступления наших войск в Восточную Пруссию.
А вот уж совсем трогательный подарок — диванная подушка, вышитая детскими ручонками. Сбоку робкие неустойчивые буквы: «Дедушке Дегтяреву от детей детсада № 8».
Среди подарков много фотографий с теплыми надписями. Из них хочется отметить портрет дорогого мне человека — учителя и друга В. Г. Федорова, снятого в год его перехода на другую работу. На портрете дата 1931 г. и надпись:
«Дорогому Василию Алексеевичу Дегтяреву на долгую память о совместной службе и работе в течение почти всей жизни от преданного В. Г. Федорова».
Вот подарки от фронтовиков: настольные часы, вставленные в массивную ореховую оправу. Эти часы были присланы мне со следующим письмом:
«Дорогой Василий Алексеевич!
Разрешите Вам лично в знак памяти о завоевании нами Восточной Пруссии преподнести настольные часы с надписью:
«Депутату Верховного Совета СССР, Герою Социалистического Труда, доктору технических наук, генерал-майору инженерно-артиллерийской службы В. А. Дегтяреву в память Отечественной войны от гвардейской минометной бригады.
1. III 1945 г. Восточная Пруссия».
Просим данную монограмму написать на металлической планке и привинтить к часам, у нас нет художника».
И рядом приписка:
«Дорогой Василий Алексеевич!
Прошу принять наш подарок. Пусть эти часы в Вашем кабинете пробьют час победы над фашизмом. Час окончательного разгрома немецкой армии. Час победы социализма над нацизмом. Да будет так! Командир гвардейской минометной бригады гвардии полковник Коротун».
Когда отгремели залпы войны, я получил возможность больше времени уделять своим депутатским обязанностям, вернуться к осуществлению тех мирных дел, от которых невольно оторвала меня война.
Прежде всего я побывал в совхозе, который носит мое имя.
Еще до войны руководители совхоза обратились ко мне с просьбой помочь им достать семена и саженцы для закладки фруктового сада. Сам страстный любитель садоводства, я немедленно откликнулся на их просьбу и стал хлопотать о саженцах. Хотя нам помешала война, но сад все же был заложен. За годы войны он не погиб, а напротив — окреп и разросся благодаря неустанной заботе о нем садовода и начальника участка Л. М. Мозуркевича.
Мне удалось достать новый посадочный материал в Московском помологическом рассаднике имени Ленина и в Саратовском плодово-ягодном питомниководческом совхозе. И наш сад стал бурно расцветать.
Осуществлялось мое давнишнее желание: в совхозе заложили плодово-ягодный питомник. Через некоторое время он обеспечит саженцами многие близлежащие колхозы и город.
Помимо садоводства, в совхозе порадовали меня успешно развивающееся животноводство и опыты агронома Кирилла Митрофановича Анисимова по выращиванию арбузов и дынь.
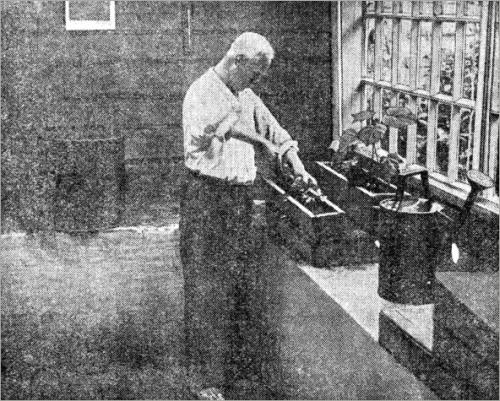
В конце лета прошлого года он прислал мне впервые выращенные в нашем крае прекрасные крымские арбузы.
Еще до войны по моей просьбе правительство выделило на благоустройство нашего города несколько миллионов рублей.
Тогда была заасфальтирована главная улица и посажено много деревьев. Но война помешала дальнейшим работам.
Теперь город благоустраивается. Вокруг многоэтажных зданий вырастают газоны и скверы, прокладываются асфальтированные дорожки и ставятся красивые чугунные решетки. Мне хочется видеть свой город цветущим садом. И он, несомненно, таким будет.
Я мечтаю о том, чтоб в нашем городе был построен новый вокзал и механический техникум, где бы росли кадры оружейников и конструкторов и мы, старые мастера, передавали бы им свой трудовой опыт.
Я верю, что все это будет сделано в ближайшие годы. О своем городе заботятся все его жители: в письмах мои избиратели сообщают о завершении новых строек, о посадке зеленых насаждений и о многом другом.
В 1918 году, когда я приехал сюда, здесь сиротливо стояли небольшие оружейные мастерские, брошенные своими хозяевами, датскими концессионерами. А теперь их нельзя узнать. В них выросли многие прославленные оружейники, создавшие грозное боевое оружие.
Однажды, будучи в Москве, я посетил выставку трофейного вооружения и там воочию увидел следы нашего оружия на поверженной технике врага.
Огромные «тигры» и «пантеры» были насквозь прошиты бронебойными пулями из наших противотанковых ружей.
Осмотрев разбитую технику врага, я вспомнил про жестокий поединок, который происходил многие годы между советскими конструкторами и изобретателями гитлеровской Германии, и не без гордости подумал, что в этом поединке мы победили, как победили наши воины на фронте.
И сейчас, когда американские и английские империалисты потрясают атомными бомбами, наши конструкторы продолжают спокойно работать.
Мы работаем не ради наживы или страха — как изобретатели за рубежом. Нами движет святое чувство служения Отчизне, служения своему народу, великой партии большевиков, которая открыла дорогу к творчеству, дорогу к счастью.

Ни в одной стране мира не созданы такие условия для расцвет изобретательства и конструирования, как у нас, в Советской стране. И нигде не ценится так высоко труд конструктора, как у нас.
Разве я, изобретатель из народа, малограмотный мастеровой, мог бы в капиталистической стране стать конструктором, заслуженным человеком, доктором технических наук, членом правительства, генералом и создать мощное оружие? Никогда! Там я был бы раздавлен, как десятки тысяч других способных людей, если не захотел бы продаться какому-нибудь предпринимателю. Этот страшный гнет капитализма я испытал на себе в царской России. Только советская власть меня, как и многих других изобретателей из рабочих, вывела на широкую дорогу творчества. И за это хочется мне от души поклониться ей, поклониться родной большевистской партии и великому вождю и другу всех трудящихся товарищу Сталину, чей гений вдохновлял и всегда будет вдохновлять наших людей на воинские подвиги и трудовую доблесть.
Сейчас тяжелая болезнь оторвала меня от любимой работы, не дав завершить многих начатых дел. Но я твердо уверен, что молодые советские конструкторы, воспитанные нашей партией, завершат мою работу и сделают еще очень много ценных изобретений.
И как бы ни кичились изобретатели капиталистических стран, им никогда не угнаться за советскими конструкторами, ибо деятельность советских конструкторов направляется светлым гением великого Сталина.